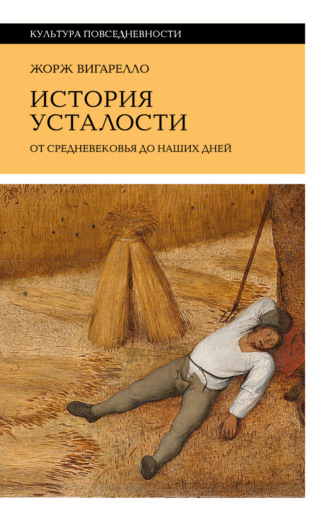
Полная версия
История усталости от Средневековья до наших дней
Это знак серьезного культурного сдвига: начинают цениться порядок и рассудок, чего раньше не наблюдалось; стимуляция мыслительной деятельности занимает «пространства», куда раньше она не проникала. Иначе говоря, в Новое время расцветает рационализм, в результате чего появляются новые виды усталости и новые средства борьбы с ней.
Народное средство для облегчения существования?
Остается еще одно средство защиты, замаскированное, вероятно менее явное и мало комментируемое, и в то же время знаменательное и весьма материальное: «безмолвная» попытка снизить нагрузку повышением брачного возраста, сокращением количества беременностей и рождений детей, продолжительности кормления грудью, что связано со снижением «фертильности». Это касалось повседневной жизни народа. Сместилась культура, она стала затрагивать беднейшие слои населения, несмотря на их молчаливость и внешнюю сдержанность. Смещаются телесные проявления. Повышение брачного возраста на несколько лет весьма чувствительно сказывается на плодовитости, ограничивает долгосрочные истощающие нагрузки. Тенденция к этому зарождается в XVI веке в Англии, а век спустя распространяется в Центральной и Северной Европе. Осознание необходимости подобного шага идет медленно, но его последствия заслуживают внимания. На кону оказываются годы жизни, и этот вопрос становится «ключевым в старинной демографической системе»498. Средний возраст вступления в брак для девушек в Парижском бассейне в течение века поднялся с неполных двадцати лет до двадцати четырех499; в Атисе в 1578–1599 годах девушки вступали в брак в среднем в 19,1 года, в 1655–1670 годах этот показатель поднялся до 23,4 года500; в Бурк-ан-Брессе в 1560–1569 годах девушки выходили замуж в 18,9 года, в 1610–1619 годах – в 22,3 года501. В городах, где девушек меньше принуждают к замужеству, эта тенденция заметна сильнее, средний брачный возраст выше, чем в деревнях: в Сен-Мало и в Лионе в начале XVIII века девушки выходят замуж в возрасте, превышающем двадцать семь лет502. За столетие брачный возраст в зависимости от региона мог повышаться на восемь лет. «Рождаемость в среде богатых и сильных мира сего», где живут в достатке и имеют возможность прибегать к родовспоможению, выше, чем в «бедных слоях»503. Мы видим здесь, в среде бедняков, не что иное, как первую «мальтузианскую революцию»504, первую атаку на тотальную и плохо сформулированную усталость. Новый порядок вступления в брак не принес победы ни над болезнями, ни тем более над смертью, но по крайней мере облегчил положение и в конечном счете стал неслыханной ранее профилактикой усталости и «жизненных тягот».
В начале Нового времени не было нового представления о теле, как не было и попыток переосмыслить усталость. А усталость в значительной мере диверсифицировалась, и интерес к ней углубился. То, что было «переносимым» в прежние времена, переставало таковым быть. Изменилось понятие «нормальности». Ни ориентиры, ни объяснения не изменились, но произошла очевидная культурная победа.
ГЛАВА 12. НИЩЕТА И «ИЗНЕМОЖЕНИЕ»
Мы видим, что к XVI–XVII векам сложился целый арсенал различных видов усталости и множество средств борьбы с нею. Небосклон Европы классического периода омрачался большим количеством уязвимостей, о которых до той поры не говорили. Эти уязвимости касались самых обездоленных, затрагивали деревни, «пустоши», население которых, как правило, игнорировалось. Взгляд на нищету оставался «общим», она рассматривалась не в деталях, но тем не менее вызывала обеспокоенность, которой раньше не было. Новое «лицо» бедности появилось лишь в конце XVII века, когда обнаружились недостатки, ранее скрытые или считавшиеся не заслуживающими внимания.
Нищета
Здесь важен контекст: возросло значение данных, касающихся эффективности труда, потенциала рабочих рук и денег, как их понимали Кольбер или Лувуа, ждавшие от них обогащения страны505. Возникает поле для появления новых видов усталости, не имеющих отношения к «изящному» утомлению, выдуманному представителями элиты общества эпохи классицизма, или к «обычной» усталости простого народа, частично отрицаемой и пренебрегаемой. Во внимание принимались более скрытые угрозы: нищета, анемия, голод, неэффективность труда, общая слабость, говорящая об изначальной чуть ли не коллективной «усталости». Нельзя сказать при этом, что в конце XVII века каким-то образом повысился статус бедняков или что условиям труда ремесленников стало уделяться больше внимания. Вопрос в другом. Речь идет о какой-то примитивной убогости, «жизненном» бессилии, почти органической нужде, вызванной географическим положением, войнами, климатом, или даже о прогнозируемой нищете, угрожающей повседневной жизни в связи с неэффективностью труда. Лабрюйер описывает крестьянскую жизнь в конце XVII века трагически: «Это дикие животные, самцы и самки, живущие в деревнях, черные, безжизненные, сгоревшие на солнце, с непобедимым упорством носом роющие землю»506. Эта ужасная жизнь зависит от обстоятельств. Ее символом стал голод, разразившийся в конце века, о чем содержатся сведения в сообщениях интендантов, в тревожных, порой зашифрованных свидетельствах нотаблей. Вот как обстояли дела в Лиможе в 1692 году: «Большинство населения вынуждено выкапывать корни папоротника, сушить их в печах, измельчать и есть, что вызывает у них большую слабость, они от этого умирают, и в скором времени дело может кончиться чумой»507. Или в Реймсе в 1694-м: «В городе царит нищета, положение бедственное. <…> Принимаемых в настоящее время мер не хватает для спасения от голодной смерти и измождения – за последние полгода умерло около четырех тысяч человек»508. Мы видим неумолимое действие экономики, не имеющей достаточных резервов и систем хранения: неурожай 1693–1694 годов, кроме прочего, истощил земли, что вызвало дефицит на рынках и, в свою очередь, разорило ремесленников и лавочников: прямо или косвенно голод привел к массовым жертвам»509.
Массовая уязвимость
Очевидно, что внимание на подобные катастрофы обратили не в конце XVII века. Жизнь в прежние века была тяжелой и сопровождалась «бедами времени»510. Агриппа д’Обинье гневно пишет об этом в «Трагических поэмах»:
В дни истребления нечеловечий ликЯвляет человек, уже он приобвыкЩипать траву и мох и падаль есть сырую,У зверя, у скота постыдно корм воруя511, 512.Взгляд на проблему, однако, изменился. Последствия этих катастроф оцениваются иначе, влияют на экономику, становятся более «общими», их начинает замечать укрепившаяся центральная власть. Меняется как будто само представление о нищете: «Создается впечатление, что в конце XVII столетия начинает осознаваться массовая уязвимость, в отличие от существовавшего веками осознания массовой бедности»513. Небывалая общая уязвимость, нищета, производящая трагическое впечатление, по всей видимости, оживляет традиционные страхи, возникает угроза бродяжничества, несущего насилие и болезни. Возникают и опасения, до той поры неизвестные: страх снижения производительности труда и сокращения производства вследствие изнеможения и бедности. Об этом говорят письма, адресованные финансовому контролеру: интенданта Руана, например, «удивляет слабость»514 портовых рабочих Онфлера, от чего стопорится вся деятельность, а епископ Манда констатирует такое «общее истощение сил землепашцев», что «часть земель остается необработанной и вспыхивают жестокие эпидемии»515; наконец, интендант Лиможа полагает, что «большинство населения настолько обнищало за несколько прошедших лет, что денег до сих пор не хватает и некому обрабатывать землю»516.
Налоговое «бремя» и «изнурение»
Одно из самых красноречивых свидетельств на эту тему – мемуары Вобана 1696 года о податном округе Везелэ. Автор сравнивает ресурсы и возможности, оценивая «доходы», «особенности и нравы жителей», как бы намекая на «рост населения и поголовья скота»517. На первый взгляд эти соображения могут показаться безобидными и традиционными, но «земли плохо обработаны <…> жители вялые и ленивые», местность запущена, деревни заросли «ежевикой и сорным кустарником», почва завалена камнями и гравием. Лень расценивалась как зло, идущее из глубины веков. Однако очень быстро мнение автора меняется – Вобан выдвигает обвинение: подобное, «по всей видимости, происходит от того, чем они питаются, потому что так называемые низшие слои видят лишь хлеб из смеси ржи и овса. <…> Не стоит поэтому удивляться, что у людей, которые так плохо едят, так мало сил»518. Одежда «из рваной и грязной ткани» и обувь – «сабо, которые они круглый год носят на босу ногу»519 также способствуют телесной слабости. Все это – причины «лени и безволия»520 людей, скрытой усталости, о которой не говорится прямо, но которая сопровождает повседневную жизнь, и никаких иных перспектив в этой жизни быть не может.
Нет сомнений, что корень этого зла – нищета. Вобан видит цель в ее преодолении и приводит вечно недооцениваемый аргумент о необходимости ограничения налогов, повышение которых – «зло и несправедливость»521, препятствующие «истинной безмятежности королевства»522. Усталость в таком случае могла бы обернуться бодростью, слабость превратилась бы в силу, уныние – в работу. Выросла бы мощь, потому что
менее задавленные налогами люди охотнее вступают в брак, лучше питаются и одеваются; дети их крепче и лучше воспитаны; они с большим рвением занимаются своими делами и в конечном счете, видя, что значительная часть прибыли, которую они приносят, возвращается к ним, прилагают больше сил и готовности трудиться523.
По мысли автора, чем ниже налоги, тем легче бороться с ослаблением населения. Снижение налогового бремени должно придать бодрости землепашцу и крепости следующим поколениям. Согласно этой мысли, «один из самых очевидных признаков благосостояния страны – рост населения, тогда как его сокращение – неизменное доказательство голода»524.
Часть третья. Эпоха Просвещения и вызов чувствительности
В XVII веке расширился спектр возможных видов усталости, как и спектр борьбы с ней. Диверсифицировались причины усталости, придумывались новые способы сопротивления ей. В значительной степени расширился и переопределился ландшафт усталости. При этом по-прежнему необъективным остается мнение о потере жидкостей (гуморов); впрочем, относительной, даже случайной продолжает быть оценка, обсчет работы – реальные цифры не уточняются.
В XVIII веке происходят новые изменения. Другими стали оценки, способы высказывания и доказательства. «Чувствительный» человек эпохи Просвещения начинает отступать от священной книги, новая независимость обязывает его переосмыслить себя, и усталость преобразуется в нечто более непосредственное, более интимное: препятствия и тревоги, возникающие на пути к новым начинаниям, к свободе, каждым индивидом ощущаются острее. Отсюда – стремление к самоутверждению, что является совершенно новым, «современным», даже «психологическим», попытка преодолеть «нерелигиозным» путем бросающую вызов усталость – люди начинают путешествовать, делать открытия, покорять вершины, колесить по миру, чтобы убедиться в собственных силах и испытать себя.
При этом меняются представления о теле, идет тенденция к индивидуализации, вследствие чего новое место начинают занимать нервы, стимуляции, а это придает плоти и ее волнению все более подчеркнутое значение, возникает интерес к уязвимости, слабости, даже к «нарушениям». К тому же постоянный спутник подобной чувствительности – прагматизм, стремление к пользе, которое заостряет взгляд как на различных занятиях, так и на трудностях, встречающихся на пути; начинают цениться профессиональные знания и навыки в сфере производства и ремесленничества. Наконец, в мире, где нарастают оппортунизм и способность к совершенствованию, неизбежно заостряется внимание на ожиданиях эффективности, даже «прогресса».
ГЛАВА 13. СТАВКА НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Нарастающая уверенность в личной автономности, самостоятельности играет здесь главную роль, устанавливает «внутренние» границы самому принципу действия, возобновляя тревогу и любопытство, обогащая источники слабости, намекая на их возможную персонализацию. Внутренняя жизнь становится насыщеннее. Индивид выходит на первый план и изучает себя. Усталость сначала воспринимается как ежедневное «затруднение», смутное замешательство, но вскоре становится провокацией, нарушающей планы, образ жизни и существования. Как следствие, ее образ появляется в литературе и рассказах.
«Прислушиваться к своей жизни»
Хрупкость и уязвимость пересматриваются на основе принципа освобождения525, утверждения «вкуса к свободной жизни»526, в особенности в высших слоях общества; ставятся под сомнение прежние власти; меняется образ слабости, гуманизируется уязвимость – она персонализируется, становится уникальной в каждом конкретном случае. Уязвимость очевидна, она не обозначает больше бесконечное расстояние от мирского до божественного, неизбежную пропасть между естественным и сверхъестественным527. Ее присутствие расширяется, она влияет на индивида, становится частью его идентичности, проникает в его сознание, меняет мироощущение. К тому же человек сводится к самому себе, и только к самому себе, пытается объяснить себя через свою связь с «природой», определить свое состояние, анализируя себя, руководствуется собственным опытом, а не каким-то иным.
Настоящее становится более насыщенным, а опасность потерять силы обостряется. Внимание к этому – так называемый первичный опыт, «чувство существования»528 – появляется в век Просвещения. Это «чувство существования» в 1786 году было определено Виктором де Сезом, врачом, получившим образование в Монпелье, будущим членом Конвента: он полагал, что это «ощущение» лежит «в основе всех прочих»529, что оно обнажает наше «существо в чистом виде»530, провоцирует переход от картезианского «мыслю, следовательно, существую»531 к эмпирическому «чувствую, следовательно, существую»532. Это смещение играет важнейшую роль. «Тело беспрерывно демонстрирует себя»533 индивиду, как «навязчивая мелодия»534, сообщает о том, что оно существует. Главное новшество – «Люди полюбили прислушиваться к себе»535. Это меняет и статус усталости: она больше не рассматривается как нечто досадное, пришедшее извне, связанное с обстоятельствами, местами, даже божественным промыслом, но воспринимается как один из возможных аспектов жизни, постоянно присутствующее явление повседневности. Приведем несколько свидетельств. Вот слова мадам Дюдеффан об «упадке сил», вечном спутнике ее жизни: «Я очень ослабела; самое простое действие кажется мне невыполнимым. Я очень поздно поднимаюсь с постели»536; Жюли де Леспинас о своих невероятных отношениях с Жаком-Антуаном де Гибером: «Я очень легко раздражаюсь»537. Мадам д’Эпине о необъяснимом недомогании: «Я ежедневно чувствую себя очень слабой»538. Иногда усталость закрадывается незаметно, становясь образом жизни, портит каждое мгновение, заставляя менять решения, усложняя любое действие. Обыденность усталости позволяет Маргарите де Сталь в 1730‐х годах начинать свои самые банальные истории словами: «Однажды вечером, когда я устала сильнее обычного…»539. Это не что иное, как свойственная женщинам константа, на которую прежде не обращали внимания.
Усталость как нарратив
Эти неслыханные доселе формы внимания могут превратиться в рассказы нового типа. Страдание растягивается во времени, происшествия следуют одно за другим, складываются этапы, затрагивая лишь усталость, ставшую практически условием жизни. В особенности такие нарративы возникают при дворе. Это демонстрирует баронесса д’Оберкирх, трижды в 1780‐х годах посетившая Версаль в свите «графа и графини Северных»540. Общее ощущение усиливают отдельные эпизоды: «Придворная жизнь очень утомляла меня, это было изматывающе»541. Помимо традиционной «придворной усталости»542 было множество причин, длительных и вызывавших озабоченность: надо было принимать «многочисленных посетителей»543, «поздно ложиться» и «рано вставать»544, не быть «удостоенным чести табурета»545, то есть не иметь права сидеть в присутствии августейших особ, «надевать» и «снимать»546 платья с «тяжелыми»547 кринолинами, участвовать в «церемониалах», что всегда «мучительно и утомительно»548, в «праздниках, длящихся ночь напролет»549, гулять в Шантийи «допоздна», что «чудовищно утомляло»550, «крайне изматывающие»551 поездки из Версаля в Париж и обратно, в оперу… Долгие ужины, в которых «усталость мешалась с удовольствием»552. Из рассказа о возвращении из Версаля 8 июня 1780 года узнаем о чувствах и мыслях баронессы. За ужином следовали танцы, «зеваки» толпились, праздник «продолжался», из замка уехали только в четыре часа утра. Баронесса утверждала, что «очень устала»553. Лица шедших на рассвете на работу крестьян показались ей «спокойными и удовлетворенными», она сравнивала их с «усталыми, осоловевшими лицами»554 придворных, засыпающих в своих каретах. Баронесса, аристократка, заостряет внимание на чувствительности своей «касты», а к усталости обездоленных остается слепа.
У композитора Андре Гретри, автора многочисленных опер-буффа конца XVIII века, обнаружились трагические последствия «слишком громко исполненной арии»555 в юности. Симптомы повторялись на протяжении двадцати пяти лет, каждый раз по окончании работы над очередным произведением. Всегда наблюдалось одно и то же: кровохарканье, крайнее истощение, постоянная потребность в отдыхе. Он лечился в Риме, Льеже, Женеве, Париже, делались попытки смягчить подобные проявления, советы ему давал Теодор Троншен, энциклопедист и врач Вольтера и герцога Орлеанского. Как бы там ни было, описания состояния остаются прежними: «После последнего приступа я двое суток лежал на спине, не мог говорить и двигаться. Чтобы восстановить силы, понадобилась еще неделя»556. Появляется совершенно особое внимание к усталости, в частности в высших сферах; телесные ощущения постоянно анализируются.
То же самое находим в записях военных и моряков – конечно, тех из них, кто был грамотным. Они впервые описывали усталость как «состояние», длительную форму существования. Вот свидетельство офицеров «Центуриона» – одного из зафрахтованных английским военно-морским флотом кораблей, участвовавших в «кругосветном плаванье», нацеленном на ограничение испанских владений. Описанный эпизод растянулся на девятнадцать дней, от момента, когда глубокой ночью 22 сентября 1742 года «ужасным порывом ветра»557 корабль, стоявший на якоре у берегов острова Тиниан в Тихом океане, унесло в море, до возвращения в порт приписки после мучительного и «бесполезного» дрейфа. В самом начале повествования описывается крайнее изнурение: «На борту судна мы терпели усталость и страдания»558. Сначала моряки долгое время откачивали воду, затем последовали «три часа бесполезных усилий» для подъема грота-рея; тем временем рвались фалы, и их сильнейшие удары «могли быть смертельными»559. Далее описывался «тяжелейший день» 26 сентября: в течение «двенадцати часов» «мы изо всех сил»560 пытались вытащить якорь, который вот-вот мог оторваться, потом наконец удалось поднять грота-рей, потом, после 26 сентября, началась бесконечная «смена галсов». «Команда корабля настолько ослабела», что «не могла больше ничего сделать». Заключительная фаза этого «чудовищного изнурения»561 наступила 11 октября, когда остров Тиниан уже показался на горизонте. Были скрупулезно подсчитаны и описаны все тяжелые моменты плаванья, при этом они никак не приближали цель путешествия, а были просто эпизодом в кругосветных скитаниях, отступлением от заданного курса.
Оригинальность темы говорит о решительном изменении чувствительности, о том, что усталость трансформируется в явление как таковое, что настало время для специфического опыта, который сам по себе становится темой записей в судовом журнале, почти «романом с продолжением». Это видно как из длинной записи, так и из заключения: «ужасная усталость»562. Еще нет психологических проблем со всей их сложностью, подавленности вплоть до самозабвения, бесконечно изучаемых нашими современниками, но уже появилось критически важное внимание к тому, что может испытывать каждый.
Удобства и неудобства
В высших сферах поднялся поначалу несильный ропот по поводу того, что неудобства стали «состоянием», длительным или проходящим, заговорили о неприятных обстоятельствах, дискомфорте, утомлении, на которые раньше не обращали внимания. В самом начале следующего века все это тщательно и ярко описал в имевшей успех книге Джеймс Бересфорд: это и недосыпание – «жжение в глазах, головокружение, скрежет зубовный, затекшие руки и ноги»563, и, наоборот, избыток сна, который приводит к разбитости и расслабленности564; неудобная поза в неудобном кресле, слишком короткая или слишком узкая кровать, после сна на которой начинаются судороги и спазмы565; сидение «около дымящего камина на протяжении нескольких часов»566, что вызывает удушье; необходимость произносить речи «с пересохшим ртом»567; невозможность «заставить окружающих понять всю тяжесть вашей усталости»568 во время затянувшейся вечеринки среди «незнакомых сотрапезников». И прочие бесчисленные «неприятности»569, придумывание неудобств, заострение внимания.
Письма Наполеона к Марии-Луизе верно отражают состояние усталости императора: «Друг мой, вчера я прибыл в Брескенс, довольно усталый»570; «Друг мой, я прибываю в Познань, немного устал от пыли»571; «Мой добрый друг, я очень устал»572; «Мой добрый друг, сейчас одиннадцать часов вечера, и я чувствую себя усталым»573; «Друг мой, я взял Баутцен. <…> Это был прекрасный день. Я немного устал»574. Отныне усталость считалась достаточно важным обстоятельством, о котором следовало сообщать в каждом письме, ее «ценность» возросла по сравнению с тем, что было раньше: отправитель писем пишет о том, что он испытывает, чтобы успокоить получателя, взволновать его или просто использует усталость как тему для общения.
«Ощущения» становятся так важны, что под их влиянием меняется интимное пространство элиты. Знаковое слово в этом контексте – «удобство», «легкость жизни без усталости»575. Это слово постоянно произносится, «удобству» придается большое значение, используются новые технические и бытовые приемы, которым «стал поклоняться», по его собственным словам, сказанным в 1752 году, архитектор Жак-Франсуа Блондель, тогда как его «предшественники не обращали на эти приемы достаточного внимания»576. Домашний мир переосмысливается. Изобретается новая мебель, совершенствуются приспособления, помещения организуются по-новому, так, чтобы в них нужно было совершать меньше движений и переходов, чтобы предметы находились ближе. Форма комодов577 становится разнообразнее – они бывают круглыми, в виде полумесяца или эллипса, появляются столики для тарелок и сервировочные столики, что облегчает наведение порядка и сокращает хождения туда-сюда578. Совершенствуются камины и дымоходы, вследствие чего уменьшается застой дыма579, и в 1765 году один изобретатель даже предлагает конструкцию, «мешающую каминам дымить»580. Механизмы совершенствуются, объединяя в себе рычаги и пружины, «оживляя» жилища, выставляя напоказ скрытые части, превращая вертикали в горизонтали или горизонтали в вертикали, изменяя линии и назначение предметов. Отсюда – все эти «рабочие столики» со столешницей и выдвигающимися ящичками, в которые можно складывать шерсть, нитки, булавки, иголки, ножницы; или «столик с откидной крышкой», верхняя часть которого поднимается, обнажая внутреннее «утилитарное устройство»581, и столик превращается в бюро «со шкафчиком и ящичками, покрытыми шпоном»; или все эти «пузатые секретеры», открывающие письменные приборы и «выдвижные полочки»582; или «туалетный столик» с многочисленными раздвижными дверцами, скрывающими зеркало, с потайными пространствами, с выдвижными ящиками на «фасаде» и по бокам на разных уровнях583. Таким образом, представление об «экономии» меняет ежедневно совершаемые действия, жесты, по крайней мере в богатых домах. Наиболее прогрессивными считались английские изобретения; путешественники, возвращавшиеся из Англии, рассказывали, что «механическое искусство» там более развито, что «все там удобнее, проще и лучше устроено»584.
От разбитости к обмороку
Подобное внимание перекликается с медицинским взглядом на проблему. Подчеркивание чувствительности ставит с ног на голову способы описания, разнообразит их, выходит за пределы того, что уже началось в классическую эпоху585. Культура эпохи Просвещения дифференцирует эти симптомы, состояния, их названия, причины и производимый ими эффект. Появляется «нозология» – уточняется классификация болезней. Знаменателен отказ от традиционного наименования боли по ее локализации: «болезни головы, груди, живота, ног»586; чтобы лучше почувствовать различия, используется «этиологическая методика»587.




