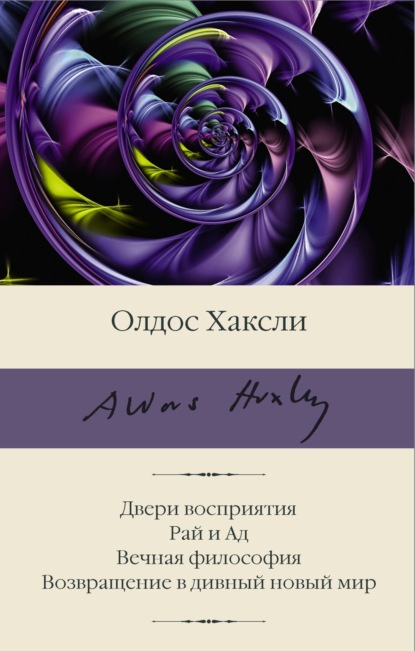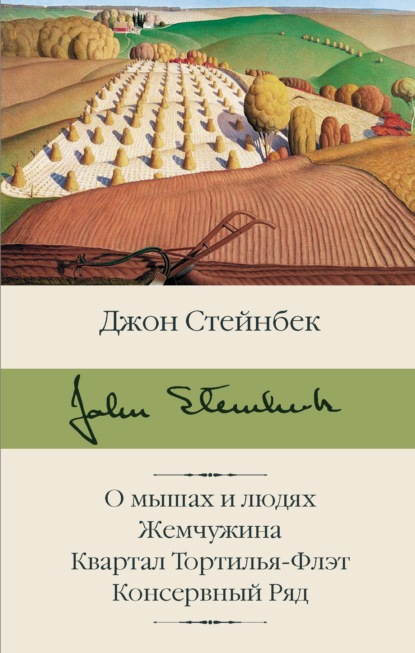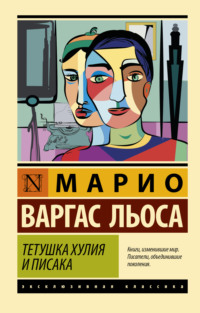Полная версия
Город и псы. Зеленый Дом
– Пойдешь на дневной сеанс? – спросил Альберто.
Они вдвоем брели по набережной. Он слышал за спиной шаги Эмилио и Аны. Элена кивнула: «Да, в “Леуро”». Альберто решил подождать: в темноте будет проще. Несколько дней назад Тико прощупал почву, и Элена ответила: «Точно ничего сказать не могу, но если убедит, может, и соглашусь с ним дружить». Стояло ясное летнее утро, солнце в голубом небе заливало сиянием океан, и Альберто приободрился: все вроде бы благоприятствовало. С остальными девочками он никогда не смущался, смешно шутил, но и серьезный разговор мог поддержать. А с Эленой говорить было трудно, она возражала на все, даже самые невинные, утверждения, никогда не болтала попусту и не стеснялась высказывать свое мнение. Однажды Альберто заикнулся, что опоздал на мессу и пропустил чтение Евангелия. «Ну, все, конец тебе, – холодно заметила Элена. – Если умрешь сегодня ночью, отправишься прямиком в ад». В другой раз Ана с Эленой наблюдали с балкона за футбольным матчем. Потом Альберто спросил: «Как тебе моя игра?» – «Плохо ты играешь», – просто ответила она. И все же неделю назад в Центральном парке Мирафлореса, когда все собрались и долго гуляли вокруг кинотеатра «Рикардо Пальма», Альберто шел рядом с Эленой, и она вела себя довольно дружелюбно; остальные оглядывались и говорили: «Отличная пара получается!»
С набережной свернули на улицу Хуана Фаннинга, к Элениному дому. Шаги Эмилио и Аны затихли. «Увидимся в кино?» – спросил он. «Ты тоже в “Леуро” собираешься?» – сказала Элена с невинным видом. «Да, тоже». «Хорошо, тогда, может, увидимся». На углу у дома Элена протянула ему руку на прощание. Перекресток улиц Колумба и Диего Ферре, самое сердце квартала, пустовал – все были еще на пляже или в бассейне клуба «Террасас». «Ты точно пойдешь в “Леуро”? – переспросил Альберто. «Да. Если ничего не случится, то да». «Что может случиться?» «Ну, не знаю, – серьезно сказала она, – землетрясение, к примеру». «Мне нужно кое-что сказать тебе в кино», – сказал Альберто, глядя ей в глаза. Элена заморгала и как будто удивилась. «Надо кое-что сказать? А что?» «В кино скажу». «А почему не сейчас? Лучше все делать как можно раньше». Он сделал усилие, чтобы не залиться краской. «Ты сама знаешь, что я хочу тебе сказать». «Нет, – она еще сильнее удивилась, – даже не представляю». «Если хочешь, могу сейчас сказать». «Отлично, – сказала она, – давай, решайся».
«А сейчас мы выйдем, а потом свисток, построимся и шагом марш в столовку, раз-два, раз-два, поедим среди пустых столов, выйдем в пустой двор, разбредемся по пустым казармам, и кто-нибудь крикнет: «Посоревнуемся?», а я отвечу: «Мы уже у Черенка посоревновались, Удав выиграл», всегда выигрывает Удав, и в следующую субботу тоже выиграет Удав, и дадут отбой, и мы будем спать, и наступит воскресенье, и понедельник, и вернутся те, кто ходил в увольнение, и мы купим у них сигарет, и я заплачу им рассказиками или письмами». Альберто и Раб лежали на соседних койках в пустой казарме. Удав и остальные штрафные только что ушли в «Перлиту». Альберто смолил бычок.
– Так и до конца года затянуться может, – сказал Раб.
– Ты о чем?
– О том, что нас не выпускают.
– Чего ты, блин, заладил опять? Молчи или спи. Ты не единственный штрафной.
– Знаю. И мы все можем тут засесть до самого Нового года.
– Да, – согласился Альберто, – если только Каву не накроют. А кто ж его накроет?
– Это нечестно, – сказал Раб. – Сам-то он каждую неделю ездит в город как ни в чем не бывало. А мы тут мыкаемся из-за него.
– Жизнь – штука мерзкая, – сказал Альберто, – Нету справедливости.
– Сегодня месяц, как я в увольнении не был. Никогда так долго не сидел.
– Мог бы и привыкнуть уже.
– Тереса мне не отвечает. Я ей уже два письма отправил.
– На что она тебе сдалась? На свете полно баб.
– А мне эта нравится. Остальные меня не интересуют. Понимаешь?
– Еще как понимаю. Это значит – каюк тебе.
– Знаешь, как я с ней познакомился?
– Нет. Откуда мне знать?
– Она каждый день проходила мимо моего дома. Я смотрел в окно и иногда с ней здоровался.
– Дрочил на нее?
– Нет. Просто мне нравилось на нее смотреть.
– Романтично.
– И однажды я вышел из дома и стал ждать ее на углу.
– Ущипнул ее небось?
– Я подошел и протянул руку.
– И что сказал?
– Представился. Спросил, как ее зовут. И сказал: «Очень приятно с вами познакомиться».
– Вот лох. А она что?
– Тоже представилась.
– Целовались?
– Нет, я и на свидании-то с ней ни разу не был.
– Бздишь по нотам. Ну-ка, поклянись, что не целовались.
– Чего ты взъелся-то?
– Ничего. Не люблю, когда мне врут.
– С чего бы я стал врать? Думаешь, мне не хотелось ее поцеловать? Но я с ней и не виделся толком – так, раза три-четыре постоял на улице. Из-за этого чертового училища не смог с ней встречаться. Может, она уже кого-то себе нашла.
– Кого?
– Да кого угодно. Она красивая.
– Ну уж. По мне так, скорее, страшненькая.
– А по мне, красавица.
– Чудик. Мне нравятся такие, с которыми хочется переспать.
– Я, кажется, ее люблю.
– Сейчас зарыдаю от умиления.
– Если бы она дождалась, когда я окончу училище, я бы на ней женился.
– Сдается мне, она бы тебе рога наставляла. Но дело, конечно, твое. Если хочешь, буду у тебя свидетелем.
– Почему это ты так решил?
– У тебя лицо, как у типичного рогоносца.
– Может, до нее мои письма не дошли.
– Может, и не дошли.
– Почему ты не захотел написать за меня? На этой неделе вот уже скольким написал.
– По кочану.
– Не понимаю я, чего ты на меня злишься.
– Бесит здесь сидеть. Или ты думал – ты один такой несчастный?
– Зачем ты поступил в Леонсио Прадо?
Альберто издал смешок. Потом сказал:
– Чтобы спасти честь семьи.
– Нет, серьезно?
– Я серьезно и говорю, Раб. Отец сказал, я запятнал семейные традиции. И запихнул меня сюда, чтоб я исправился.
– А чего же ты тогда вступительные нарочно не завалил?
– Из-за девушки. Разочаровался, понимаешь? И решил, что лучше сгнию в этом свинарнике, из-за разочарования и из-за семьи.
– Ты был в нее влюблен?
– Она мне нравилась.
– Красивая была?
– Да.
– Как ее звали? Что случилось?
– Элена. Ничего не случилось. Не люблю про себя рассказывать.
– Я же тебе про себя рассказываю.
– Ты сам захотел. Не хочешь – можешь ничего не рассказывать.
– У тебя сигареты есть?
– Нет. Но сейчас достанем.
– У меня ни сентаво.
– У меня есть два соля. Вставай и пошли к Паулино.
– Надоела мне «Перлита». А от Удава и Черенка воротит.
– Тогда спи давай. А я пойду.
Альберто поднялся. Раб смотрел, как он надевает пилотку и поправляет галстук.
– Сказать тебе кое-что? – сказал Раб. – Я знаю, ты надо мной посмеешься. Но мне все равно.
– Ну, валяй.
– Ты мой единственный друг. У меня раньше не было друзей, одни знакомые. Я имею в виду, в городе – здесь и знакомыми-то никого не назовешь. Ты единственный человек, с которым мне нравится проводить время.
– Какое-то голубое признание в любви, – сказал Альберто.
Раб улыбнулся.
– Дурак ты, – сказал он, – но человек хороший.
Альберто вышел. В дверях он обернулся и сказал:
– Если раздобуду курева, принесу тебе штуку.
Во дворе было сыро. Пока они разговаривали в казарме, прошел дождь, а Альберто и не заметил. Вдали на траве сидел кадет. Интересно, это тот же самый, что стоял на стреме в прошлую субботу? «А сейчас я зайду к Черенку, и мы устроим соревнование, и Удав выиграет, и опять этот запах, и мы выйдем в пустой двор и разбредемся по казармам, и кто-нибудь скажет: «Посоревнуемся?» – а я отвечу: «Мы уже посоревновались у Паулино, и Удав выиграл», и в следующую субботу тоже выиграет Удав, и дадут отбой, и мы уснем, и наступит воскресенье, и понедельник, и кто знает сколько еще недель».
VI
Одиночество и унижения, знакомые ему с детства и ранившие дух, были вполне терпимы – невыносимым оказалось заточение, великое отчуждение от жизни, которого он не выбирал, а просто вдруг оказался в нем, как в смирительной рубашке. Он стоял перед комнатой лейтенанта, но еще не успел поднять руку и постучать. Однако знал, что найдет в себе силы – решение заняло три недели, и теперь ему не было ни страшно, ни тоскливо. Подводила рука: мягко, вяло болталась у брючины, словно дохлая. Не впервой. В Салезианской школе его дразнили «куклой»: он всего стеснялся и робел. «Реви, реви, кукла», – орали одноклассники на перемене и брали его в кольцо. Он отступал, пока не упирался спиной в стенку. Лица приближались, вопли становились оглушительнее, рты разевались, словно пасти, готовые к укусу. Он плакал. И однажды сказал себе: «Надо что-то делать». В середине дня вышел драться против главного задиры класса – он забыл его фамилию и лицо, меткие кулаки и тяжелое дыхание. Стоя перед ним на задворках школы, в кругу возбужденных зрителей, он, как и сейчас, не боялся и даже не волновался – просто был бесконечно подавлен. Его тело не отвечало на удары, не уходило от них, – пришлось ждать, пока противник не устанет его бить. Он постарался хорошо сдать вступительные экзамены в Леонсио Прадо и терпел двадцать четыре долгих месяца как раз для того, чтобы наказать это трусливое тело и одолеть его. Но теперь он уже не надеялся – ему никогда не стать таким, как Ягуар, который берет насилием, и даже таким, как Альберто, способный раздвоиться, притвориться другим, чтобы не стать жертвой. Его раскусили сразу, поняли, какой он на самом деле – беззащитный, слабый, раб. Сейчас он желал одного – свободы, чтобы распоряжаться своим одиночеством, лелеять его, сводить его в кино, запереться где-нибудь с ним наедине. Он поднял руку и трижды постучал.
Лейтенант Уарина, кажется, только проснулся. Опухшие глаза напоминали два больших волдыря на круглом лице. Волосы всклокочены, взгляд затуманен.
– Я хотел поговорить с вами, господин лейтенант.
Ремихио Уарина среди лейтенантов занимал то же положение, что Раб среди кадетов: человек не на своем месте. Он был мелкий, хилый, его команды всех смешили, приступы гнева никого не пугали, сержанты сдавали ему донесения, не вытягиваясь по стойке смирно, смотрели с презрением: его рота вечно оказывалась хуже всех, капитан Гарридо отчитывал его на людях, кадеты рисовали его на стенках – со спущенными штанами, за рукоблудием. Поговаривали, что в Верхнем Городе у него есть лавочка, где его жена торгует печеньем и конфетами. Зачем он пошел в военные?
– В чем дело?
– Можно войти? Дело серьезное, господин лейтенант.
– Хотите записаться на прием? Тогда следуйте процедуре.
Не одни кадеты подражали лейтенанту Гамбоа: упомянув правила, Уарина постарался встать точно так же, как он. Но кого обманешь, если у тебя маленькие ладошки, нелепые усы, а на носу болтается какая-то черная крошка?
– О том, что я собираюсь сообщить, никто не должен знать, господин лейтенант. Это очень важно.
Лейтенант отодвинулся от двери, Раб зашел. Постель была смята. Рабу на ум пришли монастырские кельи: они, наверное, похожи на эту комнату – голые, темные, немного зловещие. На полу стояла полная пепельница, один окурок дымился.
– Так в чем дело? – нетерпеливо повторил Уарина.
– Это насчет стекла.
– Фамилия, взвод, – быстро проговорил лейтенант.
– Кадет Рикардо Арана, пятый курс, первый взвод.
– Что насчет стекла?
Теперь струсил язык: он отказывался шевелиться, высох, стал похож на шершавый камень. Значит, так работает страх? Круг поизмывался над ним вдоволь: хуже всех, если не считать Ягуара, был Кава – отбирал сигареты, однажды помочился на него, пока он спал. В каком-то смысле он имел право на донос: в училище все уважали месть. И все же на душе скребли кошки. «Я предам не Круг, – подумалось ему, – а весь курс, всех кадетов».
– Ну, так что? – раздраженно сказал Уарина. – Вы пришли пялиться на меня? Давно не видели?
– Это был Кава, – выпалил Раб и опустил глаза: – Можно мне будет в увольнение в субботу?
– Что? – лейтенант не понял. Еще оставалось время наплести чего-нибудь и сбежать.
– Кава разбил стекло, – сказал Раб, – и выкрал вопросы по химии. Я видел, как он бежал к учебному корпусу. Нас отпустят в увольнение?
– Нет, – сказал лейтенант. – Посмотрим. Сперва повторите.
Лицо Уарины сильнее округлилось, на щеках, у уголков губ, возникли подрагивающие складки. Выглядел он довольным. Раб успокоился. Училище, увольнение, будущее перестали его волновать. Он мысленно отметил, что благодарности Уарина не выказывает. Но этого и следовало ожидать – в конце концов, они из разных миров, и лейтенант его, скорее, презирает.
– Пишите, – сказал Уарина. – Прямо сейчас. Вот вам бумага и карандаш.
– Что писать, господин лейтенант?
– Я продиктую. «Я видел, как кадет – как его, говорите? – Кава из такого-то взвода в такой-то день в такой-то час проник в учебный корпус, чтобы неправомерно завладеть заданиями по химии». Понятно пишите. «Делаю настоящее заявление по просьбе лейтенанта Ремихио Уарины, который раскрыл преступление и факт моего участия…»
– Господин лейтенант, я не…
– «…моего невольного участия в нем в качестве свидетеля». Напишите свою фамилию печатными буквами. Крупно.
– Я не видел кражи, господин лейтенант, – сказал Раб, – я только видел, как он бежит к классам. Я четыре недели не был в увольнении, господин лейтенант.
– Не переживайте. Я всем займусь. Не бойтесь.
– Я не боюсь, – выкрикнул Раб. Лейтенант изумленно вскинулся: – Я четыре недели не был в городе, господин лейтенант. В субботу будет пять.
Уарина кивнул.
– Подпишите. Сегодня даю вам разрешение выйти в город после занятий. До одиннадцати.
Раб подписал. Лейтенант лихорадочно забегал глазами по строчкам, зашевелил губами.
– Что ему за это будет? – спросил Раб. Вопрос был идиотский, он и сам это знал, но нужно было что-то сказать. Лейтенант осторожно держал листок кончиками пальцев, чтобы не смять.
– Вы докладывали об этом лейтенанту Гамбоа? – на миг оживление покинуло его оплывшее лицо с жалкими усиками, – он с тревогой ждал ответа Раба. Одно простое «да» – и радость Уарины погаснет, приосанившийся победитель поникнет. Легче легкого.
– Нет, господин лейтенант. Никому не докладывал.
– Отлично. Никому ни слова. Ждите моих указаний. После занятий подойдите ко мне в выходной форме. Я проведу вас через пост.
– Так точно, господин лейтенант, – Раб поколебался и добавил: – Я бы не хотел, чтобы остальные кадеты узнали…
– Мужчина, – сказал Уарина и стал смирно, – должен нести ответственность за свои поступки. Это первое, чему учит армия.
– Да, господин лейтенант. Но если они узнают, что я его выдал…
– Знаю, – сказал Уарина, в четвертый раз пробегая листок глазами, – в порошок сотрут. Но не переживайте. Совет офицеров всегда – дело конфиденциальное.
«Может, меня тоже исключат», – подумал Раб. Он вышел от Уарины. Вряд ли его кто-нибудь видел на пути сюда – после обеда все валялись на койках или в траве на стадионе. На пустыре он заметил викунью: стройная, неподвижная, она к чему-то принюхивалась. «Печальное животное», – подумалось ему. Он сам себе удивлялся: по идее ему полагалось испытывать возбуждение или ужас, словом, какое-то расстройство чувств после доноса. Он всегда считал, что преступники, совершив убийство, впадают в некое смятение, как будто их гипнотизируют. Он ощущал лишь безразличие. «Я пробуду в городе шесть часов. Поеду к ней, но ей рассказать нельзя». Если бы было с кем поговорить! Если бы нашелся кто-то, кто понял или хотя бы выслушал! Альберто не доверишься. Мало того, что он отказался написать письмо для Тересы, так еще и постоянно подкалывал его в последние дни – правда, всегда наедине, а перед другими защищал, – как будто на что-то обиделся. «Некому открыться, – подумал он. – Почему кругом одни враги?»
Когда он вошел в казарму и увидел Каву, стоящего у шкафчика, у него только слегка задрожали руки. «Если он на меня посмотрит – сразу догадается, что я его слил».
– Что это с тобой? – спросил Альберто.
– Ничего. А что?
– Бледный весь. Дуй в медпункт, может, положат.
– Да я нормально себя чувствую.
– Неважно. Пока штрафной, отлежаться – самое то. Вот бы мне так сбледнуть. Там и кормят хорошо, и в потолок плюй хоть целый день.
– Зато в город не выйти.
– Какой город? Нам тут еще куковать и куковать. Хотя, может, в воскресенье всех и отпустят. У полковника день рождения. По крайней мере, слухи ходят. Чего ржешь?
– Ничего.
И как только Альберто может так спокойно говорить об их заточении? Как он свыкся с мыслью, что заперт?
– Если только самоходом, – сказал Альберто. – Из изолятора даже легче. Ночью там никто не дежурит. Но лезть придется со стороны набережной. Еще насадишься на решетку, как шашлычок.
– Теперь редко кто в самоволку ходит, – сказал Раб. – С тех пор, как патрули завели.
– Раньше было проще. Но и сейчас бывает. Индеец Уриосте ходил в понедельник, вернулся в четыре утра.
А почему бы, собственно, и не в медпункт? Что он забыл в городе? Доктор, у меня темнеет в глазах, у меня болит голова, у меня мандраж, холодный пот, я трус. Все оштрафованные кадеты мечтали попасть в изолятор. Там можно было целый день валяться в пижаме, и на еду никто не скупился. Но фельдшеры и врач в последнее время закрутили гайки. Жар больше не являлся поводом: если приложить ко лбу на пару часов банановую кожуру, температура подскакивает до тридцати девяти – это все выучили. Номер с гонореей тоже не проходил с тех пор, как Ягуар и Кучерявый явились в медпункт, вымазав все, что нужно, сгущенным молоком, и их раскусили. Тот же Ягуар выдумал способ нагнать сердцебиение. Если несколько раз подряд до слез задержать дыхание перед осмотром, сердце начинает стучать, как бешеное. Фельдшеры писали: «Госпитализация с симптомами тахикардии».
– Я никогда в самоволку не ходил, – сказал Раб.
– Это меня не удивляет, – сказал Альберто. – Я несколько раз ходил, в прошлом году. Один раз мы с Арроспиде сбежали на вечеринку в Ла-Пунте и вернулись перед самым подъемом. На четвертом было повеселее.
– Поэт, – заорал Вальяно, – ты учился в школе Ла Салье?
– Ага. А что?
– Кучерявый говорит, в Ла Салье все пидарасы. Правда, что ли?
– Нет, – сказал Альберто, – негров там не было.
Кучерявый заржал.
– Попал ты, – сказал он Вальяно, – Поэт тебя натянет.
– Я, может, и негр, зато всем мужикам мужик, – заметил Вальяно. – Кто желает проверить – милости просим!
– Тоже мне напугал, – сказал кто-то. – Ой, мамочки!
– Ох, ох, ох, – запел Кучерявый.
– Раб! – крикнул Ягуар. – Давай ты проверяй. Потом расскажешь, брешет негр или нет.
– Раба я пополам порву, – сказал Вальяно.
– Ой, мамочки.
– И тебя тоже, – заорал Вальяно. – Рискни здоровьем! Я уже готов.
– Чего такое? – хрипло спросил Удав. Он только что проснулся.
– Негр говорит, ты пидор, – сказал Альберто.
– Да, говорит, ему точно про твою пидорскую природу известно.
– Так прямо и сказал.
– Целый час про тебя распинался.
– Врут, братушка, – сказал Вальяно. – Думаешь, я за глаза на людей наговариваю?
Вся казарма веселилась.
– Они над тобой прикалываются, – продолжал Вальяно. – Не понимаешь, что ли? – и повысил голос: – Еще один такой прикол, Поэт, и я тебя уделаю. Я предупредил. Чуть из-за тебя не пересрались с парнем.
– Ох, – сказал Альберто, – слыхал, Удав? Парнем тебя назвал.
– Чего-то хотел от меня, негр? – спросил хриплый голос.
– Ничего, братушка, – ответил Вальяно, – мы с тобой друзья.
– Тогда не хрен меня парнем называть.
– Я тебе морду набью, Поэт, точно говорю.
– Негр, который лает, не кусает, – сказал Альберто.
Раб подумал: «В глубине души все они друзья. Обзывают друг дружку, ссорятся, но на самом деле им вместе хорошо. И только я один здесь чужой».
«Ноги у нее были толстые, белые и безволосые. Смачные, хотелось их кусать». Альберто перечитал фразу, прикидывая ее эротический потенциал, и остался доволен. Солнце сквозь замызганные окна беседки попадало на него, лежащего на полу. На одну руку он опирался подбородком, во второй держал карандаш над наполовину исписанным листком. Здесь же, на пыльном, засыпанном окурками и горелыми спичками полу, валялись другие листки, пустые и исписанные. Беседку возвели одновременно с училищем, в маленьком саду, где еще имелся бассейн, замшелый и неизменно пустой, над которым тучей висели комары. Никто, включая, несомненно, самого полковника, не знал, зачем нужна эта беседка с узкой кривой лестницей, вознесенная на двухметровую высоту четырьмя бетонными колоннами. Вероятно, ни один офицер или кадет не бывал внутри до тех пор, пока Ягуар не умудрился открыть запертую дверь специальной отмычкой, в изготовлении которой участвовал весь взвод. Уединенная беседка обрела назначение: служить убежищем тем, кто вместо занятий желал вздремнуть. «Вся комната дрожала, как во время землетрясения. Она стонала, рвала на себе волосы, умоляла: «Хватит, хватит!» – но он не отпускал ее. Неугомонной рукой он исследовал все ее тело, царапал, входил в нее. Когда она умолкла, словно мертвая, он расхохотался, и его смех напоминал зов зверя». Он закусил кончик ручки и перечитал с начала листка. Добавил еще одно предложение: «Она подумала, что укусы в самом конце понравились ей больше всего, и с радостью вспомнила, что завтра он вернется к ней». Альберто окинул взглядом заполненные голубыми словами листки: меньше чем за два часа – четыре рассказика. Неплохо. До свистка к концу занятий еще несколько минут. Он перевернулся, коснулся затылком пола и так лежал, вялый, мягкий: ослабевшее солнце грело, но не слепило.
Он пришел после обеда. Вся столовая вдруг вспыхнула, и надоедливый гул разом смолк: полторы тысячи голов обернулись к пустырю: действительно, трава зазолотилась, а здания отбрасывали тени. С тех пор как Альберто поступил в училище, он впервые увидел солнце в октябре. И сразу же подумал: «Пойду в беседку писать». На построении шепнул Рабу: «Будет перекличка – ответишь за меня», а когда дошли до учебного корпуса, юркнул в уборную, как только офицер отвлекся. Все разошлись по классам, а он дунул в беседку. В один присест написал четыре рассказика по четыре страницы, и только на последнем навалилась лень, тяжесть, захотелось выпустить ручку и думать о всякой всячине. У него давно кончились сигареты, и он попробовал курить перекрученные бычки с пола беседки, но после пары затяжек закашлялся – табак от времени и пыли затвердел.
«Прочитай-ка еще разок, Вальяно, прочитай вот этот, последний, моя бедная покинутая мама думает, наверное, как там ее сынок со всем этим индейским отребьем, но в те времена было не страшно оказаться в самой гуще и слушать «Услады Элеодоры”, давай еще раз, Вальяно, крещение кончилось, в увольнение сходили, вернулись, а ты оказался самый жук, протащил в портфеле «Элеодору”, а я только жратвы, дурень, да если б я знал». Пацаны сидят на койках или у шкафчиков и завороженно слушают, как Вальяно жарким голосом читает. Иногда он умолкает и, не поднимая глаз от книги, ждет: немедленно поднимается гвалт, волна возмущения. «Повтори-ка, Вальяно, у меня тут начинает вырисовываться мыслишка, как и время приятно провести, и подзаработать, а мама все выходные напролет молится, просит всех святых, он ведь нас всех утянет за собой по дурной дорожке, моего отца околдовали элеодоры». Прочитав несколько раз подряд малюсенькую книжонку с пожелтевшими страницами, Вальяно убирает ее в карман куртки и обводит высокомерным взором снедаемых завистью однокашников. Наконец один осмеливается: «А одолжи книжку». Пять, десять, пятнадцать человек бросаются к нему, крича наперебой: «Одолжи книжку, черномазенький, дружище». Вальяно широко улыбается, открывает огромный рот, живые глаза пляшут, ликуют, ноздри трепещут, вид у него победоносный, вся казарма осаждает его, заискивающе лопочет, выслуживается. Он издевается над остальными: «Онанисты сраные, а Библия с «Дон Кихотом” чем вам не угодили?» Все с готовностью смеются, похлопывают его по плечу, приговаривают: «Молодец ты, негритосик, за словом в карман не лезешь». И вдруг до Вальяно доходит, какие возможности открываются перед ним: «Сдаю напрокат». На него обрушиваются тычки, ругательства, кто-то харкает, кто-то орет: «Торгаш шелудивый!» Вальяно хохочет, растягивается на койке, достает из кармана «Услады Элеодоры», злорадно раскрывает и делает вид, будто читает, сладострастно шевеля пухлыми губами. «Пять сигарет, десять, Вальянито-негрито, одолжи почитать – лысого погонять, так и знал, что первым Удав запросит, больно ласково он почесывал Недокормленную, пока Вальяно читал, а та подскуливает и лежит спокойно, все, надумал, отличный план, приятное с полезным, у меня и идей куча, надо только удобного случая дождаться». Альберто видит, что сержант идет к партам, и краем глаза подмечает: Кучерявый погружен в чтение – книга приставлена к спине сидящего перед ним; наверняка еле разбирает, шрифт там мелкий-премелкий. Альберто не может предупредить Кучерявого об опасности: сержант не сводит с него глаз и крадется к добыче, как тигр, – тут ни ногой, ни локтем не пошевелишь. Сержант изготовился, прыгает, выхватывает «Услады Элеодоры» у завопившего Кучерявого. «Но не надо было ее жечь и топтать ногами, не надо было из дому уходить к шлюхам, не надо было маму бросать, не надо нам было уезжать из хором с садом на Диего Ферре, не надо было становиться своим в том квартале и знаться с Эленой, не надо было штрафовать Кучерявого на две недели, не надо было даже начинать писать рассказики, не надо было уезжать из Мирафлореса, не надо было знакомиться с Тересой и влюбляться в нее». Вальяно смеется, но не может скрыть разочарование, тоску, горечь. «Блин, я ж ее любил, Элеодору-то. Кучерявый, я из-за тебя любимую женщину потерял». Все заводят: «Ох, ох, ох», выгибаются, будто стриптизерши, щиплют Вальяно за щеки и за задницу, Ягуар срывается с места, хватает Раба, поднимает в воздух, – все замолчали и смотрят, – швыряет прямо на Вальяно: «Дарю сучку». Раб встает, отряхивается, уходит. Удав набрасывается на него со спины, тоже поднимает, от усилия весь краснеет, шея вздувается, через пару секунд он роняет Раба, как тюфяк. Раб медленно хромает прочь. «Блин, – говорит Вальяно, – я прямо в трауре». И тогда я сказал, за полпачки курева напишу тебе рассказ получше этих «Услад», и в то утро я узнал, что произошло, то ли мысль передается на расстоянии, то ли божественное провидение, узнал и спросил, а что такое с папой, мам, а Вальяно сказал, серьезно? бери бумагу, карандаш, и да пошлют тебе вдохновение ангелы, а она сказала, мужайся, сынок, страшное горе постигло нас, он низко пал, бросил нас, и тогда я начал писать, сидя верхом на шкафчике, и весь взвод стоял вокруг, как когда Вальяно читал вслух». Нервным почерком Альберто выводит фразу, полдюжины человек заглядывает ему через плечо, силится прочесть. Останавливается, отнимает карандаш от бумаги, поднимает голову, читает: хвалят, некоторые вносят предложения, но он их отвергает. По мере работы он смелеет: грубые слова уступают изощренным эротическим аллегориям, но набор действий по-прежнему незатейливый, повторяющийся: предварительные ласки, любовь традиционная, анальная, оральная, ручная, экстаз, содрогания, ожесточенные сражения между вздыбленными органами, и по новой – предварительные ласки и так далее. Дописав – вышло десять тетрадных листков, заполненных с обеих сторон, – Альберто в приступе вдохновения объявляет заголовок: «Пороки плоти» и бодро зачитывает рассказ. Казарма почтительно слушает, изредка выдавая остроты. Потом все аплодируют и лезут его обнимать. Кто-то говорит: «Фернандес, да ты поэт». «Точно, – поддакивают остальные, – поэт». «И в тот же день, когда мы умывались, подошел Удав, весь из себя загадочный, и говорит, напиши мне еще один такой, я куплю, вот умница, онанюга ты мой, первый клиент, я тебя не забуду, ты, правда, возбух, когда я сказал, пятьдесят сентаво за страницу сплошного текста, но смирился с судьбой, и мы переехали, и вот тогда я действительно отдалился от квартала и от друзей, и вообще от Мирафлореса, и начал карьеру романиста и неплохо заработал, хотя, бывало, и нагревали».