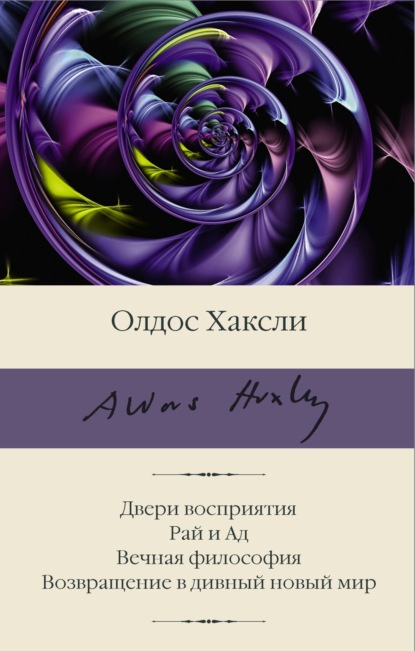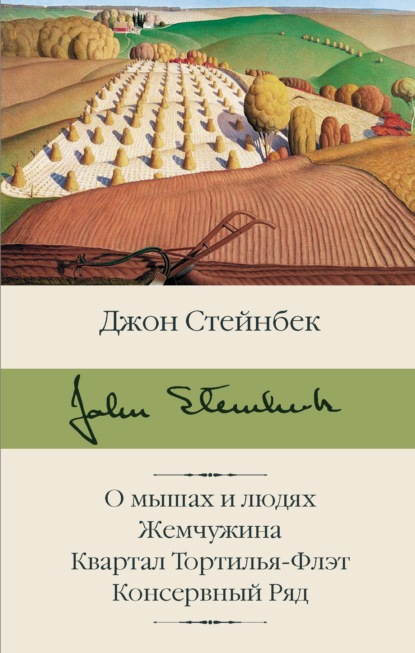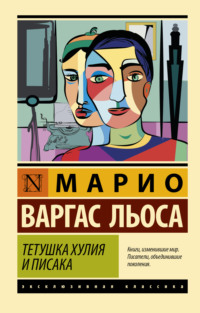Полная версия
Город и псы. Зеленый Дом
Воскресенье, середина июня. Альберто сидит на траве и смотрит на кадетов, которые прогуливаются по плацу в окружении родственников. В нескольких метрах от него сидит мальчишка, тоже третьекурсник, из другого взвода. С озабоченным видом он читает и перечитывает письмо. «Дневальный?» – спрашивает Альберто. «Ага», – говорит мальчишка и показывает фиолетовую повязку с вышитой буквой «Д». «Это хуже, чем штрафной», – говорит Альберто. «Точно», – соглашается дневальный. «А потом мы пошли к нему в шестой взвод, прилегли, выкурили по «Инке», и он сказал: я из Ики, папаша отправил меня в военное училище, потому что я влюбился в девушку из плохой семьи, и показал мне фотографию и сказал, как только закончу, женюсь на ней, и в тот же день она перестала краситься и надевать украшения и встречаться с подругами, и играть в канасту, и каждую субботу мне казалось, что она еще сильнее постарела».
– Ты что, ее разлюбил? – удивляется Альберто. – Чего у тебя такое лицо становится, когда ты про нее говоришь?
Дневальный отвечает тихо и как бы самому себе:
– У меня просто не получается ей написать.
– Почему?
– Как почему? Не получается, и все. Она очень умная. Такие письма хорошие мне шлет.
– Написать письмо проще простого, – говорит Альберто. – Ничего проще не бывает.
– Нет. Иногда знаешь, что хочешь сказать, а написать про это не можешь.
– Да ну. Я за час десять любовных писем могу накатать.
– Правда? – с интересом спрашивает дневальный, пристально вглядываясь в лицо Альберто.
«И я написал, а потом еще одно, и она мне отвечала, а дневальный мне покупал сигареты и колу в «Перлите», и однажды он привел мне одного самбо из восьмого взвода и говорит, можешь написать телочке, которая у него в Икитосе осталась? А я ей сказал, хочешь, я схожу поговорю с ним, а она ответила, ничего не поделаешь, остается только молиться, и начала ходить к мессе и на молебны и поучать меня, Альберто, будь благочестив, люби Господа, не то, когда вырастешь, впадешь в соблазн и загубишь свою душу, как твой отец, и я сказал, ладно, но за деньги».
Альберто подумал: «Два года уже прошло. Как время летит». Закрыл глаза, вспомнил лицо Тересы, все тело заныло в тревоге. Он впервые так легко переживал отсутствие увольнений. Даже после двух писем, полученных от Тересы, в город не тянуло. «Она пишет на дешевой бумаге, и почерк у нее не очень. Я читал письма и получше». Он перечитывал их несколько раз, всегда тайком (прятал в подкладке фуражки, как сигареты, которые приносил из города по воскресеньям). Получив первое письмо, собирался немедленно ответить, но, когда вывел на листке дату, смешался, почувствовал себя как-то неприятно и не придумал, что сказать. Все выходило фальшиво и бессмысленно. Разорвав несколько черновиков, наконец решил ограничиться парой сдержанных строк: «Нас лишили увольнений из-за одного дела. Не знаю, когда выберусь в город. Меня очень обрадовало твое письмо. Я все время думаю о тебе и, как только меня выпустят, сразу же приеду». Раб слонялся за ним по пятам, угощал сигаретами, фруктами, бутербродами, делился мыслями; в столовой, в строю, в кино всегда умудрялся оказаться рядом. Он вспомнил бледное лицо Раба, покладистое выражение, блаженную улыбку и возненавидел его. Всякий раз, когда тот приближался, Альберто становилось тошно. Разговор так или иначе сводился к Тересе, и приходилось выкручиваться, выставляя себя этаким циником или, наоборот, осыпая Раба дружескими советами: «Не надо признаваться в любви в письме. Такие вещи делаются лицом к лицу, чтобы видеть реакцию. В первое же увольнение пойдешь и откроешься». Раб с томным видом слушал, серьезно кивал, не спорил. Альберто подумал: «Скажу ему, когда нас отпустят. Как только окажемся на улице. Дурак дураком ходит, хватит уже ему лапшу вешать. Скажу: ты прости, но мне эта девушка очень нравится. Попробуешь к ней сунуться – морду набью. В мире полно баб. А потом поеду к ней и отведу ее в парк Некочеа» (тот, что в конце Резервной набережной в Мирафлоресе, над отвесными охряными утесами, о которые шумно и неустанно бьется море; зимой на краю парка можно сквозь туман различить призрачный пейзаж: одинокий, тонущий в глубине каменистый берег). «Сядем на последней скамейке, у белых деревянных перил». Солнце нежило лицо и тело, не хотелось открывать глаза, чтобы картинка не уплыла.
К тому времени, как он проснулся, солнце ушло, и свет вокруг был коричневатый. Он пошевелился: позвоночник заныл. Голова отяжелела – неудобно спать на деревянном полу. Мозг спросонья отказывался работать, встать не получалось, Альберто поморгал, пожалел, что нет сигарет, наконец неуклюже поднялся и огляделся. В саду было пусто. В бетонном здании учебного корпуса тоже не наблюдалось признаков жизни. Интересно, сколько сейчас времени? Ужин в половине восьмого. Он внимательнее всмотрелся в окрестности. Училище будто вымерло. Он спустился вниз из беседки, перешел сад, оставил позади учебный корпус, никого не встретив. Только подходя к плацу, заметил кадетов, гонявших викунью. На другом конце плаца вроде бы маячили зеленые куртки – несколько человек парами бродили по двору. Казармы гудели. Отчаянно хотелось курить.
Во дворе пятого курса он остановился и направился к зданию гауптвахты. Среда – может, письма какие пришли. Кучка кадетов загораживала дверь.
– Я пройду. Меня дежурный офицер вызывал.
Никто не сдвинулся с места.
– В очередь, – сказал один.
– Да я не за почтой. Я к офицеру.
– Обломись. Тут очередь.
Пришлось ждать. Когда кто-нибудь выходил, очередь начинала колыхаться, каждый норовил пролезть вперед. Альберто рассеянно читал пришпиленную к двери бумагу: «Пятый курс. Дежурный лейтенант: Педро Питалуга. Сержант: Хоакин Морте. Личный состав. В строю: 360. Помещены в изолятор: 8. Особое распоряжение: с дежуривших 13 сентября снимается запрет на увольнения. Подпись: капитан курса». Он перечитал последнюю часть во второй раз, в третий. Громко выругался. Из-за двери раздался сварливый голос сержанта Песоа:
– Кто там язык распустил?
Альберто бросился в казарму. Сердце выпрыгивало из груди. В дверях столкнулся с Арроспиде.
– Увольнения вернули! – прокричал он. – Капитан свихнулся.
– Нет, – сказал Арроспиде. – Ты что, не знаешь? Кто-то слил Каву. Он под арестом.
– Что?! Каву сдали? Кто сдал?
– Ну, – протянул Арроспиде, – рано или поздно узнаем.
Альберто вошел в казарму. Как всегда, когда происходило что-то важное, обстановка изменилась. Стук шагов неприлично громко раздавался в замершем помещении. Множество глаз следило за Альберто. Он прошел к своей койке. Поискал взглядом: ни Ягуара, ни Кучерявого, ни Удава. На соседней койке Вальяно листал учебник.
– Уже знают, кто сдал? – спросил Альберто.
– Узнают. Обязательно узнают еще до того, как Каву отчислят.
– А где остальные?
Вальяно кивнул в сторону уборной.
– Засели там. Не знаю, что делают.
Альберто поднялся и прошел к койке Раба. Койка пустовала. Толкнул дверь уборной, ощущая спиной, что на него смотрит весь взвод. Они сидели на корточках в углу, Ягуар посередине. Уставились на него.
– Тебе чего? – сказал Ягуар.
– Пописать можно, я надеюсь?
– Нет, – сказал Ягуар. – Вали.
Альберто отступил и опять вернулся к койке Раба.
– Где он?
– Кто? – спросил Вальяно, не отрываясь от учебника.
– Раб.
– В город поехал.
– Чего?
– После занятий.
– В город? Точно?
– Куда еще-то? У него мать вроде заболела.
«Ну, стукач, врун, а я как знал, куда он еще с такой рожей мог отправиться, может, мать и умирает, а если я сейчас зайду и скажу Ягуару, Раб вас слил, можете не вставать, он в увольнении, наплел всем, будто мать заболела, но ничего, время быстро идет, возьмите меня в круг, я тоже хочу отомстить за индейца Каву». Но лицо Кавы растворяется в дымке, стирающей и Круг, и прочих кадетов в казарме, а потом и ее саму поглощает другая дымка, и возникает другое, никлое лицо, силящееся улыбнуться. Альберто идет к койке, ложится. Шарит по карманам, находит только пару крошек табака. Чертыхается. Вальяно на секунду отрывается от книги и окидывает его взглядом. Альберто закрывает лицо рукой. Сердце лопается от волнения, нервы под кожей натянуты до предела. Приходит смутная мысль: кто-то может догадаться, какой ад творится у него на душе. В целях конспирации громко зевает. И тут же думает: «Вот я дурак». «Ночью он меня разбудит, а я как знал, что он такую рожу состроит, прямо вижу его, будто он уже пришел, будто уже сказал мне, ах ты гад, в кино, значит, ее водил, письма, значит, ей пишешь, и она тебе пишет, а мне ни полслова, а я тебе все про нее да про нее, так ты поэтому позволял, чтобы, не хотел, чтобы, говорил, чтобы, ну да он не успеет ни рта раскрыть, ни разбудить меня, потому что прежде, чем он меня тронет или подойдет сюда, я налечу на него, повалю на пол и стану мочить безжалостно и закричу, вставайте, я поймал стукача сраного, который Каву сдал». Ощущения переплетаются, а над казармой по-прежнему висит противная тишина. Если приоткрыть глаза, в узкую щелку между рукавом рубашки и телом видны кусок окна, потолок, почти черное небо, отсвет фонарей на плацу. «Может, он уже там, вышел из автобуса, идет по улицам Линсе, пришел к ней, признается в любви, рожа эта его, хоть бы не возвращался, а ты, дорогуша, оставайся в этом своем доме на Камфарной, я тебя тоже брошу и уеду в Штаты, никто про меня и знать ничего не будет, но сначала, клянусь, раздавлю его, как червяка, и всем скажу, поглядите, во что превратился наш стукач, понюхайте, потрогайте, пощупайте, поеду в Линсе и скажу ей, дешевка ты несчастная, как раз под стать стукачу, которого я только что изуродовал». Он весь напрягся на узкой скрипящей койке, взгляд сверлит верхний матрас, который, кажется, вот-вот прорвет ромбики проволочной сетки, рухнет на Альберто и раздавит его.
– Который час? – спрашивает он у Вальяно.
– Семь.
Альберто встает и выходит на улицу. Арроспиде так и болтается на пороге, засунув руки в карманы, с любопытством следит, как два кадета переругиваются посреди двора.
– Арроспиде!
– Чего?
– Я ухожу.
– А мне-то что?
– Я в самоволку.
– Ну, вперед, – говорит Арроспиде, – с дежурными договаривайся.
– Не ночью, – говорит Альберто. – Мне сейчас надо. Пока все на ужин пойдут.
Теперь Арроспиде смотрит с интересом.
– Свиданка, что ли? Или вечеринка?
– Ответишь за меня на построении?
– Не знаю. Если тебя поймают, я тоже огребу.
– Да ладно, всего одно построение. Тебе только и надо-то, что доложить: «Личный состав на месте».
– Ладно. Но если вдруг еще раз построят, скажу, что тебя нет.
– Спасибо.
– Лучше иди стадионом. Дуй уже туда и прячься, сейчас свисток будет.
– Да, – говорит Альберто, – знаю.
Вернулся в казарму. Открыл шкафчик. Два соля есть – на автобус хватит. Спросил у Вальяно:
– Кто дежурит первые две вахты?
– Баэна и Кучерявый.
Баэна согласился отметить его присутствующим. Альберто пошел в уборную. Все трое по-прежнему сидели на корточках. При виде его Ягуар поднялся.
– Ты в первый раз не понял?
– Мне надо с Кучерявым парой слов перекинуться.
– С мамой своей перекинься. Пошел отсюда.
– Я в самоход. Мне надо, чтобы Кучерявый меня отметил.
– Прямо сейчас пойдешь?
– Да.
– Ладно, – сказал Ягуар. – Про Каву слыхал? Знаешь, кто его слил?
– Знал бы, уделал бы уже. За кого ты меня принимаешь? Надеюсь, не думаешь, что это я.
– Я тоже надеюсь. Ради твоего же блага.
– Стукача никому не трогать, – сказал Удав. – Я им сам займусь.
– Заткнись, – сказал Ягуар.
– Пачку «Инки» принесешь – отмечу тебя, – сказал Кучерявый.
Альберто кивнул. В дверях казармы он услышал свисток и приказ сержанта строиться. Бросился бежать, молнией пронесся по двору, меж зарождающихся рядов. Ринулся через плац, прикрывая красные нашивки руками, чтобы офицер другого курса случайно не перехватил. Батальон третьего курса уже построился. Альберто перешел на быстрый, но естественный неприметный шаг. Поравнялся с офицером курса, отдал честь – лейтенант машинально ответил. На стадионе, вдали от казарм, пришло спокойствие. Обогнул солдатский барак – слышались голоса, ругательства. Добежал до конца ограды училища, туда, где стены сходятся под прямым углом. Там еще валялись булыжники и кирпичи, пригодившиеся другим самовольщикам. Альберто припал к земле и присмотрелся к казарменным корпусам, отделенным от него зеленым пятном футбольного поля. Он почти ничего не видел, но слышал свист – батальоны маршировали к столовой. У барака тоже никого не было видно. Не разгибаясь, он натаскал груду камней к самой стене – получилось возвышение. А если сил не достанет подтянуться? Он всегда сбегал с другой стороны, от «Перлиты». В последний раз осмотрелся, резко выпрямился, взобрался на камни, поднял руки.
Поверхность стены шершавая. У Альберто получается подтянуться и заглянуть через нее: над пустыми полями почти стемнело, вдали возвышается грациозная вереница пальм на проспекте Прогресса. Через секунду перед глазами – только стена, но руки по-прежнему цепляются за край. «Богом клянусь, Раб, вот за это ответишь, при ней мне ответишь, если я сорвусь и сломаю ногу, позвонят мне домой, а если приедет мой папаша, скажу, а что такого, меня отчислили за самоволку, а ты вон из дома ушел ради шлюх, это похуже будет». Ступни и коленки льнут к неровной стене, ищут щели и выступы, карабкаются. Как обезьяна, он влезает наверх, замирает ровно настолько, чтобы выбрать плоский участок внизу. Потом прыгает, неуклюже приземляется, откатывается, зажмуривается, яростно потирает голову и коленки, садится, поводит руками, встает. Бежит через чей-то огород, топча грядки. Ноги вязнут в мягкой почве, трава колет щиколотки. Стебельки ломаются под ботинками. «Вот идиот, любой увидит и сразу догадается, пилотка, нашивки, да это кадет, который удрал, как мой отец, а что, если пойти к Златоножке и сказать, мам, ну хватит уже, смирись, ты совсем постарела, и религии довольно, но за это они оба ответят, и тетка, старая ведьма, сводница, швея треклятая». На автобусной остановке никого. Сразу же подъезжает автобус, Альберто еле успевает запрыгнуть. Вновь накатывает волна спокойствия: он проталкивается сквозь толпу, а снаружи, за окнами, ничего не видно, стремительно стемнело, но он знает, что автобус идет вдоль полей и огородов, мимо фабрики, мимо скопления лачуг из металлолома и фанеры, мимо арены для боя быков. «Он вошел в дом, сказал, привет, осклабился трусливо, она сказала, привет, присаживайся, вышла ведьма и давай языком трепать, называть его сеньором, потом свалила на улицу, оставила их наедине, и он сказал, я приехал, потому что, затем, чтобы, представляешь, понимаешь, я передал тебе весточку, ах да, Альберто, да, он меня сводил в кино, но и все на этом, я ему написала, я от тебя без ума, и они поцеловались и сейчас целуются, прямо сейчас, наверное, целуются. Боже, сделай так, чтобы они целовались, когда я приду, в губы, чтобы голые были, Господи, пожалуйста». Он выходит на проспект Альфонсо Угарте и идет к площади Болоньези мимо говорливых группок служащих, стоящих в дверях кафе или на углах; пересекает четыре ряда, запруженных автомобилями, и выходит к площади, где в центре, вознесенный на пьедестал, еще один бронзовый герой падает, изрешеченный чилийскими пулями[10], в сумраке, вдали от света. «Клянетесь священным знаменем Родины, кровью наших героев, утесом мы спускались, и вдруг Плуто говорит, посмотри-ка наверх, а там Элена, мы клялись и маршировали, а министр сморкался и чесал нос, а моя бедная мама, больше никакой канасты, никаких вечеринок, ужинов, поездок, папа, отведи меня на футбол, футбол для негров, сынок, в следующем году отдам тебя в клуб «Регата», будешь гребцом, а потом умотал к шлюхам вроде Тересы». Он идет по бульвару Колумба, призрачно пустынному, старомодному, как коробки домов на нем, домов девятнадцатого века, в которых обитают лишь остатки приличных семейств, бульвару без машин, уставленному ломаными скамейками и статуями. Садится на экспресс до Мирафлореса, ярко сияющий, словно холодильник, и едет в окружении молчаливых, неулыбчивых людей. Выходит у школы Раймонди, шагает по неприветливым улицами Линсе: редкие продуктовые, издыхающие фонари, темные дома. «Так ты, значит, ни разу с мальчиками не встречалась, да что ты говоришь, ну да, в конце концов, с таким лицом, которым тебя боженька наградил, в кинотеатре «Метро», значит, очень красиво, кто бы мог подумать, посмотрим, будет ли тебя Раб водить на дневные сеансы в центре, в парк, на пляж, в Штаты, в Чосику по воскресеньям, вот оно как, значит, мама, мне нужно тебе кое-что сказать, я влюбился в одну выскочку из простых, а она мне рога наставила, как папа тебе, только мы еще пожениться не успели, я ей и в любви признаться не успел, ничего не успел, да что ты говоришь». Он добрался до угла Тересиного дома и стоит у самой стены, прячась в темноте. Улицы, насколько хватает глаз, пустые. Внутри дома слышно, как кто-то двигает предметы, то ли вынимает вещи из шкафа, то ли убирает, без спешки, методично. Альберто проводит рукой по волосам, приглаживает, пальцем нащупывает пробор, убеждается, что он все еще ровный. Вытаскивает платок, утирает лоб и рот. Поправляет рубашку, поднимает ногу, трет носком ботинка о край штанины, потом проделывает то же другой ногой. «Зайду, поздороваюсь с ними за руку, улыбнусь, я на минутку, прошу прощения, Тереса, мои письма, будь добра, а вот твои, спокойно, Раб, мы с тобой после поговорим, это мужской разговор, зачем устраивать сцены при ней? Ты ведь мужчина или как?» Альберто у двери, у трех бетонных ступенек. Вслушивается, но напрасно. И все же они там: ниточка света обрамляет дверной проем, а мгновение назад он услышал почти воздушный шорох касания, как будто о что-то оперлись рукой. «Заеду на своем кабриолете, в американских ботинках, в полотняной рубашке, с сигаретами с фильтром, в кожаном пиджаке, в шляпе с красным пером, погужу, скажу, залезайте, я вчера вернулся из Штатов, прокатимся, поехали ко мне в Оррантию, у меня там дом и жена-американка, она раньше киноартисткой была, поженились в Голливуде, когда я университет окончил, давайте, залезай, Раб, залезай, Тереса, радио включить пока?»
Альберто стучит два раза, во второй – погромче. Через минуту на пороге появляется женский силуэт, без лица, без голоса. Лампа в доме едва выхватывает из сумрака ее плечи и кусочек шеи. «Кто там?» – произносит она. Альберто не отвечает. Тереса отступает немного влево, и мягкий свет омывает лицо Альберто.
– Привет, – говорит Альберто, – я хочу с ним минутку поговорить. Это очень срочно. Позови его, пожалуйста.
– Привет, Альберто, – говорит она. – Я тебя не узнала. Заходи. Ты меня напугал.
Он заходит и тяжелым взглядом обводит все пустое помещение: занавеска между комнатами колышется, и ему видна широкая неубранная кровать, а рядом другая, поменьше. Лицо его смягчается, он оборачивается: Тереса, стоя к нему спиной, закрывает дверь. Альберто успевает заметить, что она, прежде чем повернуться, быстро проводит рукой по волосам и расправляет складки на юбке. Теперь она стоит перед ним. И вдруг Альберто обнаруживает, что лицо, столько раз являвшееся ему в памяти за последние недели, было гораздо решительнее лица, которое он видит сейчас, видел в кинотеатре «Метро» и за этой дверью, когда они прощались, – смущенного, с робкими глазами, которые избегают встречаться с его глазами и жмурятся, словно на летнем солнце. Тереса улыбается и, кажется, смущена: руки сцепляются, расцепляются, падают вдоль тела, касаются стены.
– Я сбежал из училища, – говорит он. Вспыхивает и опускает голову.
– Сбежал? – Она приоткрыла рот, но больше ничего не говорит, только смотрит тревожно. Снова сложила руки, совсем близко от Альберто. – Что случилось? Расскажи. Да садись же, никого нет, тетя ушла.
Он вскидывается и спрашивает:
– Ты встречалась с Рабом?
Она широко открывает глаза:
– С кем?
– В смысле, с Рикардо Араной.
– А, – говорит она, будто бы успокоившись, и снова улыбается, – с мальчиком, который живет на углу.
– Он к тебе приходил? – не отстает Альберто.
– Ко мне? Нет. А что?
– Только честно! – он повышает голос. – Зачем ты мне врешь? То есть… – тут он сбивается, что-то лепечет, умолкает. Тереса серьезно смотрит на него, едва заметно поворачивает голову, руки опущены, и в глазах смутно проглядывает нечто новое – лукавый огонек.
– А почему ты спрашиваешь? – медленно, мягко, с легкой иронией произносит она.
– Раб ушел в увольнение сегодня днем. Я думал, он к тебе поехал. Наплел, что у него мать болеет.
– Зачем бы он ко мне поехал?
– Затем, что он в тебя влюблен.
Теперь этот огонек озаряет все лицо Тересы – щеки, губы, бархатистый лоб, на который спадает пара волнистых прядей.
– Я не знала, – говорит она. – Я всего раз с ним разговаривала. Но…
– Поэтому я и сбежал, – говорит Альберто. Замирает на миг с открытым ртом. И выпаливает: – Приревновал. Я тоже в тебя влюблен.
VII
Она всегда была такая опрятная, хорошо одетая. Я думал: и почему это у остальных девчонок так не получается? И не то чтобы она меняла наряды, наоборот, платьев у нее было раз, два – и обчелся. Когда мы занимались, и она случайно пачкала руки в чернилах, она бросала учебники на пол и уходила отмываться. Если делала даже малюсенькую кляксочку в тетради, вырывала страницу и все переписывала заново. «Ты же уйму времени теряешь, – говорил я, – лучше подправь бритвой, вот увидишь, ничего не будет заметно». Она никогда ни на что не злилась, но кляксы ее прямо бесили. Виски у нее под черными волосами пульсировали – медленно, в такт сердцу, – рот кривился. Но, вернувшись от раковины, она уже снова улыбалась. Школьная форма у нее была – синяя юбка и белая блузка. Иногда я смотрел, как она пришла из школы, и думал: «Ни мятой складочки, ни пятнышка». Еще было платье в клеточку, без рукавов, закрывавшее только плечи, с бантиком на шее. Сверху она надевала коричневую кофту. Застегивала одну пуговицу, и, когда шла, края кофты как бы развевались в воздухе, очень получалось красиво. Так она одевалась по воскресеньям, чтобы навещать родичей. Воскресенья были хуже всего. Я вставал пораньше и шел на площадь Бельявиста, садился на скамейку или разглядывал фотографии у кинотеатра, но их дом из виду не упускал, а то еще уйдут, а я и не замечу. Иногда она еще ходила за хлебом к китайцу Тилау, рядом с кинотеатром. Я говорил: «Вот совпадение, снова встретились!» Если стояло много народу, Тере оставалась на улице, а я пробивался, и китаец Тилау, мой приятель, мне отпускал без очереди. Однажды мы зашли вдвоем, а Тилау и говорит: «А, жених с невестой пришли. Вам как обычно? Две горячих слойки чанкай каждому?» Покупатели засмеялись, Тере покраснела, а я сказал: «Ну тебя, Тилау, кончай шутить, обслуживай давай». Но по воскресеньям булочная не работала. Так что я следил за ними из фойе кинотеатра «Бельявиста» или со скамейки. Они ждали автобуса, который ходит по набережной. Иногда я притворялся, будто куда-то иду, засовывал руки в карманы, насвистывая и пиная камушек или там крышку от бутылки, оказывался рядом с ними и на ходу здоровался: «Добрый день, сеньора! Привет, Тере!» – и шагал дальше – домой или на проспект Саенс Пенья, ни за чем, просто так.
Еще она надевала платье в клеточку и коричневую кофту по понедельникам вечером, потому что тетка водила ее на женский сеанс в кинотеатр «Бельявиста». Я говорил матери, что мне нужно взять у нее тетрадку, и шел на площадь: дожидался, пока кончится фильм, и смотрел, как они с теткой идут и его обсуждают.
В другие дни она ходила в темно-коричневой юбке, старой, выцветшей. Иногда я приходил, а тетка штопает эту юбку – хорошо так штопала, заплаток почти не заметно было, швея все-таки, – и Тере тогда после школы не снимала форму и клала на стул газету, чтобы не испачкать форменную юбку. С темно-коричневой юбкой она носила белую блузку на трех пуговичках и верхнюю не застегивала, так что шея, смуглая и длинная, оставалась открытой. Зимой накидывала на эту блузку коричневую кофту. Я думал: «Надо же, как умеет прихорошиться».
Туфель у нее было всего две пары, особо не разгуляешься, хоть она и их держала всегда в порядке. В школу носила черные туфли на шнурках, вроде мужских ботинок, но на маленьких ножках они смотрелись хорошо. И всегда блестели – ни пылинки, ни пятнышка. После школы она наверняка их начищала: я видел, что домой она заходит в черных туфлях, а немного спустя, когда я приходил делать уроки, на ней уже были белые, а черные стояли у двери в кухню и сверкали, как зеркальные. Вряд ли она каждый день чистила их кремом, но уж тряпочкой точно.
Белые туфли едва не разваливались от старости. Она, бывает, зазевается, положит ногу на ногу, и я вижу, что на туфле, которая болтается в воздухе, подошва вся истертая, изъеденная, а однажды она ударилась ногой об стол, вскрикнула, прибежала тетка, сняла туфлю и стала ей массировать ступню, я присмотрелся – внутри сложенная картонка, и подумал: «В подошве дыра». Я один раз видел, как она чистит белые туфли, – она натирала их мелом со всех сторон, так же тщательно, как готовила уроки. Туфли становились как новенькие, но ненадолго, потому что, когда нога чего-то касалась, мел осыпался, и получалось пятно. Однажды я подумал: «Если бы у нее было мела в достатке, туфли всегда оставались бы чистыми. Она может носить мелок в кармане и чуть что – доставать его и подкрашивать туфлю». Напротив моей школы был канцелярский, я сходил и узнал, сколько стоит коробка мелков. Большая стоила шесть солей, маленькая – четыре с полтиной. Я не подозревал, что они такие дорогие. У Тощего Игераса просить взаймы стеснялся – и давешний-то соль ему еще не отдал. Мы дружили все крепче, хотя виделись всегда наскоро, в одном и том же кабаке. Он рассказывал мне анекдоты, спрашивал про школу, угощал сигаретами, учил выдувать кольца, задерживать дым и выпускать через нос. Я набрался смелости и попросил-таки четыре с полтиной. «Само собой, – сказал он, – бери, о чем речь», дал и даже не спросил на что. Я дунул в канцелярский и купил мелки. Собирался сказать: «Я принес тебе подарок, Тере», зашел к ним, приготовился, но, едва ее увидев, передумал и сказал: «Вот, в школе подарили, а мне мелки ни к чему. Тебе надо?» И она сказала: «Да, давай, конечно».