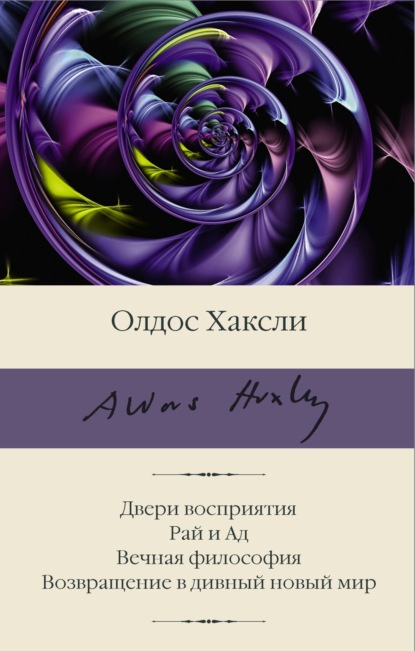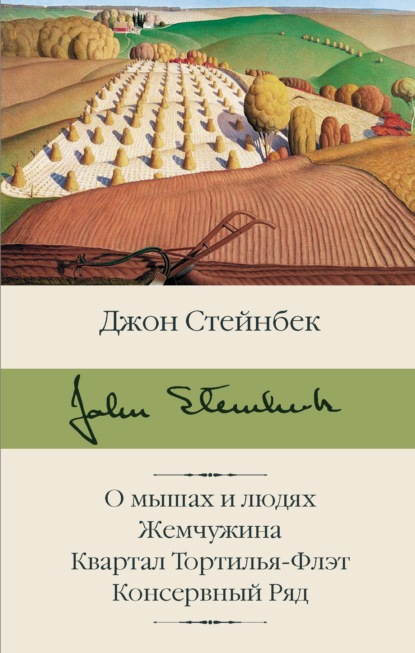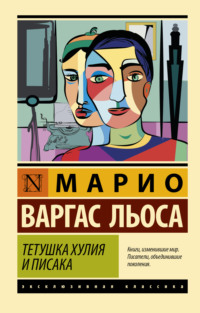Полная версия
Город и псы. Зеленый Дом
– Лишают увольнений, пока не найдется виновный.
– Вот дерьмо, – сказал Альберто, – в бога душу мать его совсем.
V
Однажды я подумал: «Я ведь ни разу наедине с ней не был. А не встретить ли ее после школы?» Но не решался. Что бы я ей сказал? И где бы взял деньги на билет? Тере обедала у родичей, в центре, рядом со школой. Я собирался прийти как-нибудь в полдень к школе, встретить ее и проводить до этих самых родичей, получилась бы такая прогулка. В прошлом году один парень дал мне полтора соля за то, что я сделал его домашку по труду, но в нынешнем классе труда не было. Я часами раздумывал, где раздобыть денег. И надумал одолжить соль у Тощего Игераса. Он вечно меня угощал кофе с молоком или стопочкой писко с сигареткой, так что вряд ли соль его напряг бы. В тот же день, встретившись с ним на площади Бельявиста, я попросил взаймы. «Конечно, мужик, – сказал он, – на то мы и друзья». Я пообещал отдать в свой день рождения, а он посмеялся и сказал: «Само собой. Отдашь, как сможешь. На, держи». Как только соль оказался у меня в кармане, я будто ошалел от счастья и ночью не спал, а потом зевал на всех уроках. Через три дня сказал матери: «Я пообедаю у друга, в Чукуито». А в школе отпросился у учителя на полчаса пораньше, и он сразу разрешил, потому что я был чуть ли не первый ученик.
Трамвай пришел почти пустой, так что зайцем проехаться не получилось, зато взяли с меня только за половину пути. Вылез на площади Второго мая. Однажды мы с матерью шли по проспекту Альфонсо Угарте к крестному, и она сказала: «Вот в том здоровенном доме учится Тересита». Я хорошо запомнил и знал, что как только этот дом увижу, сразу же узнаю, но теперь никак не мог найти проспект Альфонсо Угарте, а когда оказался на Кольмене, как стукнуло, бегом вернулся – и точно, вот он, этот черный домина, рядом с площадью Болоньези. Там как раз кончились уроки, повысыпали девочки, большие и маленькие, а я до ужаса стеснялся. Отошел в угол площади и стал в дверях одной лавки, как бы спрятался за стеклом, а сам смотрел. Была зима, но я потел. Не успел я ее увидеть вдалеке, как тут же юркнул в лавку – прямо сам себя запрезирал. Но потом вылез и стал смотреть ей в спину. Она шла к площади Болоньези. Одна – а я все равно к ней не подошел. Когда она исчезла из виду, вернулся на площадь Второго мая и сел в трамвай, злой, как черт. Школа была закрыта – рано еще. У меня оставалось пятьдесят сентаво, но я так ничего и не купил поесть. Весь день был в плохом настроении, а когда мы делали вместе уроки, почти все время молчал. Она спросила, что со мной такое. Я покраснел.
На следующий день я прямо посреди уроков решил, что должен вернуться и все-таки с ней прогуляться. Пошел снова отпрашиваться у учителя. «Ладно, – согласился он, – но скажи маме, что если она каждый день будет тебя снимать с уроков раньше времени, ни к чему хорошему это не приведет». Дорогу я теперь знал, поэтому явился к школе Тере раньше конца уроков. Когда все стали выходить, разволновался так же, как накануне, но уговаривал себя: «Подойду, подойду». Она появилась одной из последних, одна. Я подождал, пока она чуток отойдет от школы, и пустился за ней по пятам. На площади Болоньези догнал. Сказал: «Привет, Тере». Она слегка удивилась, я заметил по глазам, но как ни в чем не бывало ответила: «Привет! Что ты тут делаешь?» Я не знал, что соврать, и сказал: «У меня раньше уроки кончились, и я подумал, пойду тебя подожду. А что?» «Ничего, – сказала она, – просто спросила». Я спросил, идет ли она к родственникам, и она сказала, да. «А ты куда идешь?» «Не знаю. Могу тебя проводить, если не возражаешь». «Хорошо. Это тут рядом». Ее дядя с тетей жили на проспекте Арика. Мы почти не разговаривали по пути. Она отвечала на все вопросы, но не смотрела на меня. Когда дошли до угла, сказала: «Мои живут сразу за перекрестком, так что дальше меня не надо провожать». Я улыбнулся, а она протянула мне руку. «Пока, – сказал я, – вечером приду?» «Да, да, – сказала она, – у меня куча уроков». Помолчала и добавила: «Спасибо, что проводил».
«Перлита» находится в конце пустыря, между столовой и учебным корпусом, у задней стены училища. Это маленькое бетонное строение с большим окном, которое служит стойкой. За стойкой утром и днем маячит удивительное лицо Паулино, похожего на черенок, к которому словно привили по побегу от каждой нации: раскосые японские глаза, широкий негритянский нос, индейские медные скулы и подбородок, мягкие волосы. На стойке у Паулино кола и печенье, кофе и шоколад, конфеты и пирожные, а в подсобке, то бишь в закутке без крыши, прилепленном к задней стене в том самом месте, где до появления патрулей было удобнее всего отправляться в самоволку, – сигареты и писко, вдвое дороже, чем в городе. Ночует Паулино на соломенном матрасе у стены, и муравьи прогуливаются по нему, как по пляжу. Под матрасом доска, а под доской – собственноручно вырытый Паулино тайник для пачек «Национальных» и бутылок писко, которые он толкает кадетам.
Лишенные увольнения заглядывают в «Перлиту» по субботам и воскресеньям, после обеда, маленькими группками, чтобы не вызывать подозрений. Разваливаются на полу и, пока Паулино лезет в тайник, давят муравьев плоскими камушками. Черенок – человек щедрый, но коварный: отпускает в кредит, только если его сперва поумолять и позабавить. Закуток совсем небольшой, вмещает от силы два десятка кадетов. Когда места не хватает, вновь прибывшие кукуют на пустыре, швыряясь камнями в викунью в ожидании, пока предыдущие выйдут. Третьекурсники почти не бывают на этих сборищах, потому что старшие их не пускают, либо ставят на шухер. Длятся сборища часами – с обеда до ужина. Проштрафившимся легче смириться с заточением в воскресенье, а в субботу у них еще теплится слабая надежда на свободу, они до изнурения выдумывают планы побега – благодаря гениальному способу разжалобить дежурного офицера или неслыханному безрассудству – самоволке средь бела дня, через главные ворота. Но из десятков штрафных только одному или двум удается смыться. Остальные бродят по опустевшим дворам училища, в позе покойников лежат на койках, глядя в пустоту и пытаясь одолеть смертную скуку силой воображения, а те, кто при деньгах, отправляются к Паулино курить, пить писко и подставляться под укусы муравьев.
В воскресенье после завтрака служат мессу. Капеллан училища – жизнерадостный белокурый падре, произносящий напитанные патриотическим духом проповеди, в которых он повествует о безупречной жизни отцов нации, их любви к Богу и к Перу, восхваляет дисциплину и порядок и сравнивает военных с миссионерами, героев – с мучениками, а церковь – с армией. Кадеты капеллана уважают, потому что в их глазах он настоящий мужик: они не раз встречали его, одетого в штатское, дышащего перегаром, маслено зыркающего, в притонах Кальяо.
Он забыл и то, как на следующее утро долго лежал с закрытыми глазами, проснувшись. Дверь отворилась, и все тело замерло в ужасе. Он затаил дыхание в полной уверенности: это он, пришел его бить. Но это пришла мама. Она серьезно и пристально его оглядела. «А он где?» – «Ушел, сейчас больше десяти». Он глубоко вздохнул и сел. Комнату заливал свет. Только сейчас он заметил звуки улицы, шум трамвая, автомобильные гудки. Чувствовал слабость, как будто выздоравливал после долгой тяжелой болезни. Ждал, когда мама заговорит о случившемся. Но она не заговаривала, хлопотала, делала вид, что наводит порядок, двигала стулья, поправляла занавески. «Давай уедем обратно в Чиклайо», – сказал он. Мама подошла к нему и стала поглаживать. Длинные пальцы пробегали по голове, легко погружались в волосы, спускались по спине – это было приятно, тепло и напоминало прежние времена. Голос, льющийся мягким водопадом, тоже шел прямиком из детства. Он не слушал, что говорила мама, – слова были не важны, только нежность тона имела значение. Пока она не сказала: «Мы никак не можем вернуться в Чиклайо. Ты всегда теперь будешь жить с папой». Он обернулся в полной уверенности, что сейчас она раскается и возьмет свои слова обратно, но она выглядела совершенно умиротворенной и даже улыбалась. «Я лучше буду жить с тетей Аделиной, чем с ним», – выкрикнул он. Мама невозмутимо и веско продолжала: «Просто ты его никогда прежде не видел. Он тоже не был с тобой знаком. Но все изменится, вот увидишь. Когда вы получше познакомитесь, то сильно-пресильно полюбите друг друга, как бывает во всех семьях». – «Он меня вчера ударил, – глухо сказал он, – По лицу, как взрослого. Я не хочу с ним жить». Мама по-прежнему гладила его по голове, но рука теперь казалась не ласковой, а ужасно тяжелой. «Он вспыльчивый, но в глубине души хороший, – говорила она, – Надо уметь найти к нему подход. Ты тоже, знаешь ли, виноват: ничего не делаешь, чтобы ему понравиться. Он очень обижен на тебя из-за вчерашнего. Ты еще маленький, тебе не понять. Со временем сам увидишь, что я права. Когда он вернется, попроси прощения, что зашел в спальню. Надо его задобрить. Иначе будет сердиться». Он почувствовал, как его сердце заходится и трепещет, вроде тех жаб, которыми кишел их огород в Чиклайо, похожих на огромные железы с глазами, опадающие и раздувающиеся мешки. И тогда он понял: она на его стороне, она с ним заодно. Придется быть еще бдительнее – маме больше нельзя доверять. Он теперь один. В полдень, услышав, что входная дверь открылась, он спустился вниз, стал перед отцом и, не глядя в глаза, сказал: «Прошу прощения за вчерашнее».
– А что она еще сказала? – спросил Раб.
– Ничего, – сказал Альберто. – Ты всю неделю меня вопросами изводишь. Может, сменишь тему?
– Извини. Просто сегодня как раз суббота. Она, наверное, думает, что я ей соврал.
– Да с чего ты взял? Ты же ей написал, правильно? И вообще какая разница, что она думает?
– Я влюблен в эту девушку, – сказал Раб. – Не хочу, чтобы у нее сложилось обо мне превратное представление.
– Я тебе советую: отдохни от этой мысли, – сказал Альберто. – Кто знает, на сколько нас тут заперли. Может, еще на несколько недель. Лучше про женщин не думать.
– Я не такой, как ты, – вздохнул Раб. – У меня слабый характер. Я и хотел бы не вспоминать про нее, а на самом деле только о ней и думаю. Если в следующую субботу не отпустят, с ума, наверное, сойду. А она про меня спрашивала?
– Да сколько ж можно! – устало произнес Альберто. – Я ее видел ровно пять минут, у нее на крыльце. Повторяю в последний раз: ни о чем я с ней не разговаривал. Даже разглядеть хорошенько не успел.
– А почему тогда не хочешь ей писать?
– По кочану. Не хочу, и все.
– Странно как-то. Ты за всех пишешь письма. Почему тогда за меня не напишешь?
– Девушек остальных я не видел. И вообще, неохота мне сейчас заморачиваться с письмами. Мне и деньги-то не нужны. На что, если я тут просижу хрен знает сколько долбаных недель?
– В следующую субботу я точно выйду, – сказал Раб. – Хоть в самоволку.
– Договорились, – сказал Альберто. – А теперь пошли к Паулино. Достало все, хочу нажраться.
– Ты иди, а я в казарме останусь.
– Боишься?
– Нет. Просто не люблю, когда надо мной издеваются.
– Не будут. Мы напьемся, и первому умнику, который к тебе полезет, ты начистишь морду, и готово дело. Встал и пошел, говорю.
Казарма постепенно пустела. После обеда десять лишенных увольнения растянулись на койках и закурили. Потом Удав утянул пару человек с собой в «Перлиту». Вальяно с дружками отправились играть в карты на деньги со вторым взводом. Альберто с Рабом поднялись, закрыли шкафчики и вышли. Во дворе, на плацу и на пустыре никого не было. Молча, засунув руки в карманы, зашагали в сторону «Перлиты». День стоял спокойный, безветренный и пасмурный. Вдруг послышался смех. В нескольких метрах, в траве обнаружился кадет в надвинутой по самые уши пилотке.
– Не заметили меня, господа кадеты, – сказал он с улыбкой. – Я бы вас и убить мог.
– Кто так говорит со старшими по званию? – возмутился Альберто. – Смирно, так тебя разэтак.
Паренек подскочил и отдал честь. Веселость как рукой сняло.
– Много народу у Паулино сидит?
– Не очень, господин кадет. Человек десять.
– Да вольно уже, – сказал Раб.
– Куришь, пес? – осведомился Альберто.
– Да, господин кадет. Но сигарет нету. Обыщите, если хотите. Две недели в увольнении не был.
– Бедняжечка, – сказал Альберто, – сейчас расплачусь от жалости. На вот, – он вытащил пачку из кармана и показал третьекурснику. Тот смотрел недоверчиво, не решался протянуть руку.
– Возьми две штуки. И знай мою доброту.
Раб безучастно наблюдал за происходящим. Парень робко протянул руку, не отводя взгляда от Альберто, выудил две сигареты и улыбнулся.
– Большое спасибо, господин кадет. Вы хороший человек.
– Не за что, – ответил Альберто. – Услуга за услугу. Вечером придешь, постель мне застелешь. Я из первого взвода.
– Будет сделано, господин кадет.
– Пойдем уже, – сказал Раб.
В закуток Паулино вела жестяная дверь, прислоненная к стене. Она ничем не крепилась, и сильный порыв ветра запросто валил ее на землю. Убедившись, что офицеров поблизости нет, Альберто и Раб двинулись ко входу. Изнутри доносился гогот и перекрывавший остальные голос Удава. Альберто сделал Рабу знак молчать, на цыпочках подобрался к самой двери и с силой толкнул обеими руками. Под грохот металла в образовавшемся проеме показалась дюжина искаженных ужасом лиц.
– Всех под арест, – сказал Альберто. – Алкаши, пидарасы, извращенцы, онанисты – все собирайтесь в тюрягу.
Они стояли на пороге. Раб позади Альберто с выражением покорности, готовности подчиниться. Ловкая, обезьянья фигура встала из кучи развалившихся на полу кадетов и двинулась на Альберто.
– Заходите, блин, – сказала фигура. – Скорее, а то еще засекут. Из-за твоих шуточек, Поэт, нас тут всех повяжут однажды.
– Ты почему ко мне на ты обращаешься, индеец сраный? – сказал Альберто и переступил порог. Все взгляды обратились к Паулино. Тот хмурился; крупные одутловатые губы раскрылись, как створки мидии.
– Ты чего, белоснежка? – сказал он. – Охота, чтобы я тебе заехал, или как?
– Или как, – сказал Альберто и рухнул на пол. Раб растянулся рядом с ним. Паулино засмеялся, все тело заходило ходуном; губы тряслись и иногда открывали неровные редкие зубы.
– Шлюшку свою приволок, – сказал он. – А ну как мы ее отымеем?
– А это мысль! – выкрикнул Удав. – Давайте Рабу вставим.
– Лучше этой горилле, – Альберто кивнул на Паулино. – Он потолще будет.
– Взъелся он на меня чего-то, – сказал Паулино и пожал плечами. И лег рядом с Удавом. Кто-то водворил дверь на место. В гуще развалившихся тел Альберто обнаружил бутылку писко. Потянулся к ней, но Паулино хлопнул его по руке.
– Полсоля глоток.
– Грабитель, – сказал Альберто.
Вытащил бумажник и достал купюру в пять солей.
– Давай десять.
– Это тебе одному или девчушке твоей тоже?
– За двоих.
Удав оглушительно расхохотался. Бутылка гуляла по рукам. Паулино подсчитывал глотки и резким движением выхватывал ее, если кто-то отпивал больше положенного. Раб, глотнув, закашлялся, из глаз брызнули слезы.
– Эти двое вот уже неделю не разлей вода, – сказал Удав и ткнул пальцем в Альберто и Раба, – Хотел бы я знать, с чего это.
– Ну ладно, – сказал кадет, привалившийся затылком к спине Удава, – на спор-то будем?
Паулино пришел в необычайное оживление. Он хихикал, похлопывал всех и каждого по плечу, приговаривал: «Да уж, пора, пора». Остальные под шумок жадно припадали к бутылке – за пару минут она опустела. Альберто, подложив руки под голову, посматривал на Раба: маленький рыжий муравей полз у того по щеке, но он, казалось, не замечал. Глаза отливали жидким блеском на фоне иссиня-бледной кожи. «Сейчас он вытащит деньги или бутылку, или пачку курева, а потом – вонь, как от лужи с дерьмом, и я расстегну ширинку, и ты расстегнешь, и он расстегнет, и Черенок затрясется, и все затрясутся, вот бы Гамбоа заглянул и нюхнул этого запашка». Паулино, сидя на корточках, копался в земле. Поднялся. В руках у него оказался кошелек, издававший при потряхивании звон. Лицо дышало возбуждением, крылья носа раздувались, синюшные губы широко раздвинулись в поисках добычи, виски пульсировали. Изменившееся лицо заливал пот. «Сейчас он сядет, зафыркает, как конь или как пес, по шее потечет слюна, руки заходят, как безумные, голос сорвется, убери руку, извращенец, замесит ногами воздух, засвистит сквозь зубы, запоет, закричит, повалится на муравьев, космы упадут на лоб, убери руку или кастрируем, растянется на земле, зароется лицом в траву, в песок, заплачет, руки и туловище замрут, умрут».
– Тут где-то десять солей полтинниками, – сказал Паулино, – а внизу есть еще бутылка для второго. Но выигравший угощает всех.
Альберто, лежа на животе, накрыл голову руками, и оттуда, снизу, наблюдал крошечную сумрачную вселенную. Закуток лихорадочно шумел: тела растягивались или скорчивались, кто-то приглушенно хихикал, Паулино хрипло дышал. Альберто перевернулся, лег затылком на землю – из этого положения ему были видны только кусок жестяного листа и кусок серого неба, одинакового размера. Над ним склонился Раб, у которого побледнели не только лицо, но и шея, и руки – под кожей угадывались голубые ручейки.
– Пойдем, Фернандес, – прошептал Раб, – пойдем отсюда.
– Нет, – сказал Альберто, – я хочу выиграть этот кошелек.
Гогот Удава теперь отдавал бешенством. Альберто немного повернул голову и увидел его громоздкие ботинки, крепкие ноги, живот, выглядывающий между краями форменной рубашки и расстегнутыми брюками, массивную шею, лишенные света глаза. Некоторые приспускали штаны, другие просто расстегивали. Паулино сновал вокруг разлегшихся веером тел и облизывал губы. В одной руке он держал звонкий кошелек, в другой – бутылку. «Удаву бы сейчас Недокормленную привести», – сказал кто-то, но в ответ никто не засмеялся. Альберто медленно, прикрыв глаза, расстегивал пуговицы и силился вспомнить лицо, тело, волосы Златоножки, но образ ускользал и уступал место другому – смуглой девушке, которая тоже исчезала и появлялась, показывала то руку, то изящный рот, и над ней моросил дождь, она мокла, и красный свет улицы Уатика мерцал в глубине ее темных глаз, и он говорил, вот дерьмо, и возникала белая упитанная ляжка Златоножки и опять пропадала, и по проспекту Арекипа рекой текли машины мимо остановки у школы Раймонди, на которой они стояли со смуглянкой.
– А ты чего ждешь? – возмущенно поинтересовался Паулино. Раб лежал неподвижно, положив голову на руки. Черенок нависал над ним всем своим огромным ростом. «Чпокни его, Паулино! – проорал Удав. – Чпокни Поэтову невестушку. Если Поэт дернется, я его вырублю». Альберто огляделся: в бурой земле виднелись черные бороздки, но ни одного камня поблизости не обнаружилось. Он подобрался и сжал кулаки. Паулино, раздвинув колени, склонился над ногами Раба.
– Тронешь его – морду разобью, – сказал Альберто.
– Влюбился в Раба, – протянул Удав, но по голосу – слабому, придушенному, далекому – было понятно, что ему уже не до Альберто с Рабом. Черенок усмехнулся и разинул рот: язык зачерпнул слюны и размазал по губам.
– Ничего я ему не сделаю. Только он какой-то вялый. Я ему помогу.
Раб не шевелился и, пока Паулино расстегивал ему ремень и ширинку, смотрел в потолок. Альберто отвернулся: жесть белая, небо серое, в ушах музыка, разговоры рыжих муравьев в подземных лабиринтах, красный свет в лабиринтах, красноватое мерцание, а в нем все темно, и ее кожу пожирает огонь от восхитительных маленьких ножек до корней крашеных волос, на стене большое пятно, как размеренно раскачивается этот парень, будто маятник, он крепит закуток к земле, не дает ему воспарить в небеса и приземлиться в красноватую воронку Уатики, на эту ляжку, текущую молоком и медом, девушка идет под моросящим дождем, легкая, грациозная, стройная, но вот она, вулканическая струя, определенно обрела место где-то у него в душе и оттуда начинает расти, пускать щупальца по тайным каналам его тела, изгоняет девушку из его памяти и крови, выделяет аромат, влагу, обретает очертания, внизу его живота, там, где сейчас работают руки, и вдруг поднимается что-то обжигающее, неотразимое, и он видит, слышит, чувствует надвигающееся, раскаленное наслаждение, оно рвется сквозь заросли костей, мышц, нервов к бесконечности, к раю, куда не попасть рыжим муравьям, и тут он отвлекся, потому что Паулино, ловя воздух ртом, рухнул рядом, а Удав отрывисто сыпал какими-то словами. Он опять почувствовал спиной землю, повернул голову и чуть не ослеп: глаза обожгло, словно в них ткнули иглой. Паулино пристроился рядом с Удавом, а тот безразлично позволял себя ласкать. Черенок фырчал, коротко гнусаво вскрикивал, а Удав извивался с закрытыми глазами. «Вот теперь запахнет, бутылка вмиг опустеет, мы будем петь, а кто-то – травить анекдоты, Черенку взгрустнется, у меня начнется сушняк, а от курева блевать потянет, и в сон, и голова, и однажды точно туберкулезником стану, доктор Герра сказал, это все равно что семь раз подряд с женщиной переспать».
Услышав крик Удава, он не сдвинулся с места, потому что превратился в крохотное существо, уснувшее внутри розовой раковины, и ни ветру, ни воде, ни огню не под силу было проникнуть в его убежище. Но потом реальность вернулась: Удав сидел верхом на распростертом Паулино и лупил его по щекам: «Ты меня укусил, сраный индеец, я тебя урою!» Некоторые приподнялись и вяло наблюдали. Паулино не защищался, и вскоре Удав его отпустил. Черенок с трудом встал, вытер рот, подобрал с земли кошелек и бутылку. Деньги отдал Удаву.
– Я вторым кончил, – сказал Карденас.
Паулино протянул ему бутылку. Но хромой Вилья, лежавший рядом с Альберто, сказал:
– Вранье. Не он это был.
– А кто? – спросил Паулино.
– Раб.
Удав перестал считать монеты и уставился узкими глазами на Раба. Тот по-прежнему лежал на спине, вытянув руки вдоль тела.
– Кто бы мог подумать, – сказал Удав. – У него хрен, как у мужика.
– А у тебя, как у осла, – сказал Альберто. – Застегнись, уебище.
Удав расхохотался и заскакал по закутку, между тел, потрясая членом: «Всех вас обоссу и выебу, не зря меня Удавом называют, я бабу до смерти затрахать могу». Остальные вытирались и поправляли одежду. Раб откупорил бутылку, сделал долгий глоток, сплюнул и передал Альберто. Все пили и курили. Поникший, печальный Паулино сидел в углу. «А сейчас мы выйдем и вымоем руки, а потом свисток, построимся и шагом марш в столовку, раз-два, раз-два, поедим, выйдем из столовки, разбредемся по казармам, и кто-нибудь крикнет: «Посоревнуемся?» а кто-нибудь другой ответит: «Мы уже у Черенка посоревновались, Удав выиграл», а Удав скажет: «Даже Раб был, Поэт его привел и не дал нам его отыметь, и Раб, кстати, вторым пришел», и дадут отбой, и мы будем спать, и завтра, и в понедельник, и кто знает сколько еще недель».
Эмилио пихнул его в плечо и сказал: «Вон она». Альберто поднял голову. Элена стояла, опираясь на перила галереи, смотрела на него и улыбалась. Эмилио опять ткнул его локтем и повторил: «Ну, вон же она. Иди, иди». Альберто прошипел: «Замолкни. Она с Аной, не видишь?» Рядом с белокурой головкой над перилами маячила еще одна, темноволосая, – Ана, сестра Эмилио. «Не волнуйся, – сказал Эмилио, – я ею займусь. Пошли». Альберто кивнул. Они поднялись по лестнице клуба «Террасас». В галерее было полно молодых людей, а с другого конца клуба, из залов, долетала веселая музыка. «Только очень тебя прошу, не подходите к нам, – тихо увещевал приятеля Альберто, пока они шли по лестнице, – не позволяй своей сестрице встрять. Если хочешь, идите за нами, но на расстоянии». Когда они подошли, девочки над чем-то смеялись. Элена выглядела старшей из двух. Она была худенькая, милая, с прозрачной кожей, и ничто на первый взгляд не выдавало ее отваги. Но все мальчишки из квартала ее прекрасно знали. Другие девчонки, когда к ним приставали на улице, заливались слезами, съеживались, краснели и пугались, а Элена выступала навстречу обидчикам, яростно бросала им вызов, глаза ее горели, она с готовностью отвечала на все остроты или сама проявляла инициативу и окликала мальчишек самыми постыдными прозвищами, предупреждала, приосанивалась, смотрела высокомерно, грозила кулаками, надвигалась на противника, прорывала круг осады и победоносно удалялась. Но это было раньше. Некоторое время назад – никто точно не знал, когда, в каком месяце (возможно, в июле, во время каникул, когда родители Тико устроили ему вечеринку на день рождения и пригласили девочек) – война начала угасать. Мальчики больше не подстерегали девочек, чтобы напугать до чертиков и поиздеваться – наоборот, появление девочки бывало им приятно, пробуждало робкие чувства, заставляло запинаться в поисках сердечных слов. В свою очередь, девочки, завидев с балкона Лауры или Аны мальчика, понижали голоса, перешептывались с таинственным видом, здоровались и махали ему, и он, чувствуя себя ужасно польщенным, догадывался, в какое волнение привел весь балкон своим появлением. Разговоры на лужайке у Эмилио теперь велись иные. Футбол, велосипедные гонки, спуски к морю по утесам были преданы забвению. Непрерывно куря (никто больше не давился дымом), они обсуждали, как просочиться на фильмы, запрещенные для детей младше пятнадцати, как пройдет следующая вечеринка – разрешат ли родители завести проигрыватель и потанцевать? И гулять до полуночи, как на прошлой? И каждый рассказывал о своих встречах и разговорах с девочками. Родители внезапно обрели большое значение: некоторые, например, отец Аны и мать Лауры, пользовались всеобщей любовью, потому что здоровались с мальчиками, расспрашивали про учебу, разрешали дочерям разговаривать с ними; прочих, например, отца Тико и матери Элены – строгих и сверхбдительных, – опасались и старались избегать.