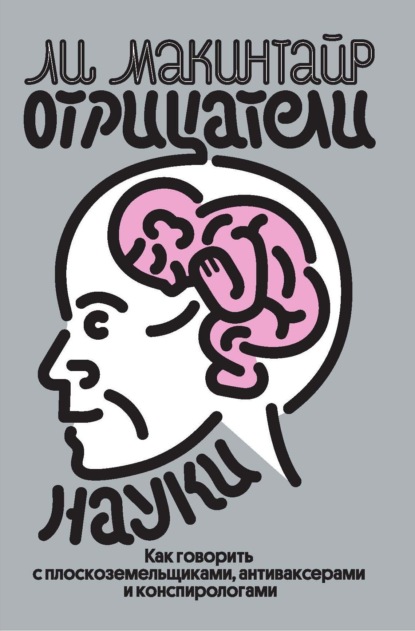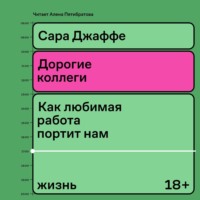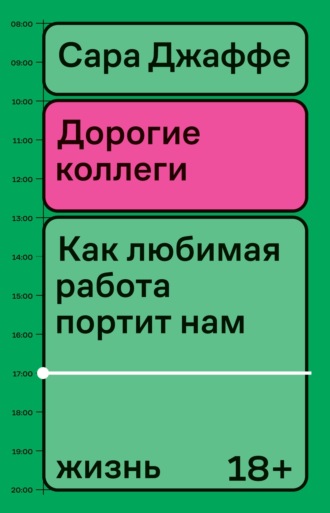
Полная версия
Дорогие коллеги. Как любимая работа портит нам жизнь
Отцом ребенка был человек, с которым Мэлоун в то время находилась в близких отношениях (они вместе руководили театральной труппой), воспитывать сына или дочь они собирались вместе. Однако вскоре их союз распался. Осознав, что после рождения ребенка ей потребуется больше денег, – и ужаснувшись ценам на жилье в Лондоне, – Мэлоун на восьмом месяце беременности решила переехать в Шеффилд, чтобы быть поближе к сестре.
Сестра помогала Мэлоун и ходила за покупками, а та, в свою очередь, присматривала за ее детьми. «Сразу после рождения ребенка женщина очень уязвима, – отмечает Мэлоун. – Время от времени вы ходите на прием к врачу, который спрашивает, все ли у вас в порядке и нормально ли ваш ребенок спит по ночам. Но никто не спросит: „Как вы справились с переездом в другой город за три тысячи километров, где никого не знаете, с младенцем на руках, не имея при этом никакого представления о том, чем заниматься всю оставшуюся жизнь?“» Политическая ситуация только усугубляла положение Мэлоун. Брекзит расколол британское общество. К тому же Мэлоун скучала по своим единомышленницам, с которыми делала политическое кабаре.
Незадолго до первого дня рождения Нолы (так Мэлоун назвала дочь) ей позвонил друг из театра и предложил поставить «Бурю» Шекспира в Греции. В итоге Мэлоун руководила женской театральной труппой на острове Лесбос, пока маленькая Нола сидела у нее на коленях. Это была идиллия: «Меня окружало множество женщин, которые всегда могли присмотреть за моей дочкой, пока я руководила постановкой под открытым небом».
Но после спектакля Мэлоун и Нола вернулись в свой старый дом, расположенный «в общем-то, у черта на куличках». От него до Манчестера 20 минут на поезде, но проделывать такой путь с маленьким ребенком было тяжело. «Я оказалась в изоляции», – говорит Мэлоун. Ей не нужно было платить за жилье и ходить на работу, но жизнь в полном одиночестве угнетала женщину. Она отмечает, что «не у всех получается „правильно“ завести ребенка», так, чтобы были партнер и ипотека. «Если вы занимаетесь искусством, вам часто кажется, что ваш род занятий – это роскошь, что вы словно играете чью-то роль», – говорит моя собеседница. Мэлоун изучала театральное искусство в аспирантуре и не хотела бросать карьеру, в которую вложила столько сил и времени. Но, отмечает она, «тут передо мной встал серьезный вопрос, с которым сталкиваются многие актеры: а как долго я смогу продолжать жить таким образом?» За несколько лет до этого она поработала в России гувернанткой в богатой семье, насмотрелась на разные проявления богатства, но это лишь больше вдохновило ее продолжать заниматься творчеством. «В мире искусства все реже и реже слышатся голоса людей из рабочего класса», – объясняет свое решение Мэлоун.
Поэтому, когда ей снова представилась возможность поставить «Бурю», на этот раз в Лондоне, она пришла в восторг. Нола могла быть поближе к отцу, а Мэлоун получила возможность заработать. Поначалу, правда, сводить концы с концами в Лондоне было почти невозможно: «Какое-то время я делила дом с другими людьми, но жизнь в крохотной комнатушке с двухлетним ребенком оказалась настоящим кошмаром». Потом она фактически оказалась бездомной, работая домработницей то у одной семьи, то у другой. «Это был очень, очень большой стресс, – вспоминает Мэлоун. – Куда нас занесет дальше, мы не знали. Денег не было. Мы были сами по себе».
Она жила на «универсальный кредит» (так называется новая британская программа помощи малоимущим) и перебивалась случайными подработками – «всем, что под руку попадется». Кроме того, ей помогал отец девочки. Однако для того, чтобы жить рядом с ним, Мэлоун с Нолой пришлось перебраться «в очень богатый район Лондона, где мы чувствовали себя совсем нищими». Если вы получаете «универсальный кредит», на вас смотрят как на прокаженных (особенно в богатом районе, отмечает Мэлоун). Кроме того, никто не считает воспитание ребенка «настоящей» работой. «Я попыталась отдать дочку в ясли, но мне сказали: „Это будет стоить 150 фунтов в месяц“», – рассказывает Мэлоун. Работница яслей стала задавать дополнительные вопросы, касающиеся финансового положения моей собеседницы, и Мэлоун объяснила, что получает «универсальный кредит», но ее бывший партнер работает учителем: «И тут эта женщина из яслей заявляет мне по телефону: „Вот если бы вы работали, у вас были бы деньги“. Это было как ножом по сердцу… все равно, что назвать человека отбросом общества».
В тот период, когда Мэлоун часто меняла место жительства, местный совет предложил помочь ей с переездом в Бирмингем. В Лондоне размер пособия на жилье часто оказывается ниже, чем стоимость аренды, поэтому для многих единственным выходом оказывается переезд в другой город. Правда, живя в Лондоне, Мэлоун могла хотя бы рассчитывать на помощь бывшего партнера. «Но мы тратим столько денег на аренду… – говорит она. – Я периодически думаю: „Господи, на что бы мы могли потратить эти деньги, если бы не нужно было платить за аренду? Может быть, я наняла бы учителя музыки для дочери? Или мы смогли бы съездить в отпуск?“»
Однако, приступив к поискам работы на полную ставку, Мэлоун столкнулась с новыми трудностями. Чтобы продолжать получать «универсальный кредит», необходимо периодически посещать центр занятости. Кроме того, по мере взросления ребенка требования к получателю пособия становятся все более жесткими. К тому моменту, когда Ноле исполнилось три года, Мэлоун должна была параллельно искать постоянную работу и регулярно встречаться со «специалистом по занятости». Хотя Нола ходила в школу, забота о ней отнимала слишком много сил, и Мэлоун начала задаваться вопросом, стоит ли ей вообще искать работу. Она отмечает, что родители находятся под непрерывным прессингом: «У женщин забирают детей, а виной всему то напряжение, которое они постоянно испытывают: из-за бедности, из-за режима жесткой экономии, из-за той ужасной ситуации, в которой мы все оказались. Я окончила аспирантуру, но мне все равно приходится очень трудно. Об этом тяжело рассказывать. Ни одна женщина не хочет, чтобы ее считали плохой матерью»[61].
* * *Любовь – женская работа. Девочкам твердят об этом с самого рождения; в детстве их наряжают в розовый, цвет Дня святого Валентина. Пока они растут, их всевозможными способами убеждают, что они должны внимательно относиться к людям вокруг, улыбаться, радовать глаз. Устойчивость гендерных ролей прежде всего обеспечивается институтом семьи, который даже в нашу якобы постфеминистскую эпоху вращается вокруг неоплачиваемой работы по уходу за другими людьми. А если женщина не способна должным образом выполнять эту работу, говорит Рэй Мэлоун, ее обвиняют в том, что она «плохая мать», а это часто значит «плохая женщина»[62].
Труд любви, таким образом, начинается дома. Нам по-прежнему говорят, что убираться в доме и готовить, лечить разбитые коленки, учить детей ходить, говорить и думать, утешать их, сглаживать острые углы – все это естественно для женщины. Считается, что для этого не требуется никаких навыков и что ничему из этого не нужно учиться на практике, в отличие от любых других занятий. Эта убежденность перекочевала из домашней в рабочую сферу, затронув миллионы людей, не все из которых женщины: им недоплачивают, их перегружают работой, их труд обесценивают. Наша готовность согласиться, что работа женщины заключается в том, чтобы любить, а любовь при этом вознаграждает сама себя и не должна быть осквернена деньгами, играет на руку капиталу.
В этом нет ничего естественного. Семья была и остается социальным, экономическим и политическим институтом. Она развивалась параллельно с другими институтами, капитализмом и государством, и так же, как эти институты, превратилась в механизм, контролирующий труд и управляющий им, – в данном случае речь о женском труде. Как пишет историк Стефани Кунц, оплакивать упадок гетеросексуальной нуклеарной семьи с двумя родителями значит вздыхать по «тому, чем мы никогда не были», по такой форме общественного устройства, которая никогда не была инклюзивной и от существования которой мало кто выигрывал. Это значит сожалеть о разрушении системы, призванной сохранять такое положение дел, когда женщины ничего или почти ничего не получают за свой труд[63].
Трудовая и семейная этика развивались параллельно, и они по-прежнему взаимосвязаны. Когда мы слышим о «балансе между работой и личной жизнью», речь чаще всего идет о женщинах, которые пытаются выкроить время, чтобы провести его с семьей. Иначе говоря, семью изображают таким образом, будто она конкурирует с требованиями капитализма. Но теоретики еще начиная с Карла Маркса и Фридриха Энгельса указывали, что семья, какой мы ее знаем, призвана обеспечивать бесперебойное функционирование капиталистической системы: она воспроизводит работников, без которых эта система не может существовать. Вот почему не только деторождение, но и забота, приготовление пищи, утешение плачущего ребенка и все в том же духе – это тоже «репродуктивный труд». Институт семьи находится в кризисе, поскольку в кризисе капитализм – и если мы сейчас видим, как по этой системе ползут трещины, то лишь потому, что истории об этих институтах, которые нам рассказывали все это время, больше не в состоянии скрывать истинное положение дел[64].
Нет ничего естественного и природного в семье с двумя родителями и двумя-пятью детьми, живущей в домике за забором, как нет ничего естественного и природного в автомобиле, на котором она передвигается. Такая семья возникла в результате исторического процесса, полного насилия, борьбы и того, что мы воспринимаем как эволюцию. Как пишут Кунц и антрополог Пета Хендерсон, единственное «естественное» в репродуктивной деятельности – тот факт, что люди, которых мы привыкли считать женщинами, всегда были «источником новых членов общества». Однако выделение репродуктивного труда как отдельной категории не означало автоматически, что один тип труда станет оплачиваемым, будет цениться и мифологизироваться, а другой – обесцениваться и вовсе не считаться работой[65].
Ученые спорят, какие именно причины привели к установлению господства мужчин, или того, что мы можем назвать патриархатом. Но они дают нам подсказки, которые помогут ответить на вопрос, как мы оказались в мире, где женщины по-прежнему выполняют бóльшую часть неоплачиваемого труда. Когда древние люди начали производить больше, чем могли потребить (по отдельности или всей группой), они начали обмениваться с другими группами произведенными благами, а также людьми – сегодня такой обмен называется браком. Когда появилась частная собственность и произведенные блага стало нужно передавать по наследству, мужчины начали придавать большее значение контролю над репродуктивной деятельностью и другими формами труда, ложившимися на плечи женщин. Иначе говоря, женщин не просто подавляли, их эксплуатировали[66].
Такая эксплуатация, подчинение женского труда, частично достигалась насильственным путем, но поддерживать ее помогала идеология. По мере становления института «семья» уменьшилась до размеров того, что сейчас называется нуклеарной семьей. Уже во времена Древней Греции домашнее хозяйство стало играть центральную роль в функционировании общества, и было установлено, что место женщины – дома[67].
Конечно, это не значит, что в Афинах во времена Платона институты работы и семьи были такими же, как в Америке 1950-х годов. Разница как минимум в том, что залогом процветания Афин был труд рабов, а не белых рабочих-мужчин, состоящих в профсоюзах. Но подчинение женщины и снижение ценности ее труда были прочно закреплены в момент рождения государства как института, задолго до появления капитализма[68].
Капитализм, однако, принес с собой целый набор новых практик, предполагавших разделение домашнего труда и контроль над ним. В феодальной Европе не существовало той границы между «домом» и «работой», которая возникла при капитализме. В городах раннего Средневековья женщины получили определенную степень свободы: они работали врачами, мясниками, учителями, торговцами и кузнецами. В докапиталистической Европе, пишет Сильвия Федеричи, «подчинение женщин мужчинам смягчалось тем, что у них был доступ к общинной собственности и прочим общинным ресурсам». При капитализме, однако, «женщины сами стали общественным ресурсом, ибо их работа была определена как естественный ресурс, лежащий вне сферы рыночных отношений»[69].
Реорганизация репродуктивного труда началась с кровопролития: кровь лилась в ходе охоты на ведьм, которая и создала семейные отношения в их современном виде. Женщин лишили прежних прав, доступа к зарплате и возможности собираться группами или жить поодиночке. Единственное безопасное место для женщины теперь было подле мужчины. Главной целью охоты на ведьм стали женщины, которые отказывались выходить замуж и владели небольшой собственностью, – прежде всего акушерки, целительницы и все те, кто способен контролировать репродуктивную деятельность и проводить аборты. Террор работал хорошо, ведь в колдовстве могла быть обвинена почти любая женщина. Он и помог сформировать то, что мы сейчас называем гендером[70].
Охота на ведьм была призвана не только вытеснить женщин с общинной земли и загнать их обратно в дома. Она также напоминала всем людям о том, что произойдет, если они откажутся трудиться. Искоренение народной веры в магию, пишет Федеричи, сыграло ключевую роль в создании трудовой этики капитализма: магия была «незаконной формой власти и способом получить что угодно без труда, то есть настоящим отказом от работы». Наказание (а иногда и истязание) тела в ходе охоты на ведьм заложило основу для рабочей дисциплины – речь идет не только о рабочем графике, но и об изнурении больных мышц, усталых суставов и измученных умов, о которых теперь должны были заботиться женщины[71].
Так была создана дихотомия между «домом» и «работой», а вместе с ней и множество других бинарных оппозиций, которые продолжают определять наши представления о мире: «разум» и «тело», «технология» и «природа» и, конечно, «мужчина» и «женщина». В этот период складывается и концепт расы в том виде, в каком мы знаем его сегодня, тогда же представителей некоторых рас начали называть «прирожденными рабами», а в обществе принялись наказывать людей за нерепродуктивные формы секса. По завершении этого периода потрясений не только заперли дома женщин, лишив их оплаты труда и сделав бесправными, но и уничтожили саму память о насилии, сформировавшем такую ситуацию. «Женский труд стал восприниматься как природный ресурс, – пишет Федеричи, – который доступен каждому, как воздух, которым мы дышим, или вода, которую мы пьем». Даже женская сексуальность, утверждает она, была превращена в работу. Джейсон У. Мур и Радж Пател в книге «История мира в семи дешевых вещах» («A History of the World in Seven Cheap Things») назвали этот период временем «великого одомашнивания»[72].
Вот как возник тот двойной узел, которым по сей день связаны матери, в том числе и Рэй Мэлоун: воспитание детей не считается достаточно важной работой, чтобы за нее платить, но если вы покажете, что у вас есть другие приоритеты помимо дома, вас заклеймят как плохую мать. Границы всегда проницаемы и подвижны, но из-за этого от клейма еще труднее избавиться.
Даже после того как разделение между «домом» и «работой» прочно вошло в жизнь, капиталисты с радостью отправляли множество женщин и детей трудиться на мельницах и в шахтах наряду с мужчинами или вместо них: в те времена они без стеснения могли говорить, что предпочитают проворные маленькие пальчики. Кроме того, таким работникам можно было платить меньше, чем мужчинам. На заре эры наемного труда никто не делал вид, будто подобная работа может приносить удовольствие: ты либо трудился, либо голодал. Зная, насколько мучительна жизнь наемного работника, люди готовы были делать все что угодно, лишь бы избежать такой участи, поэтому хозяевам – и государству – необходимо было добиться того, чтобы без работы по найму люди жили еще хуже, чем с ней[73].
Из этой необходимости возникла традиция помощи бедным, по сей день определяющая политику в области социального обеспечения. Рабочий класс часто бунтовал: раннекапиталистическую Англию будоражили нападения луддитов на фабрики, ранние формы тред-юнионизма и всяческие беспорядки. Хотя за непродуктивную деятельность полагались суровые наказания (попрошайничество могло караться «публичной поркой, пока не пойдет кровь»), власти уступили давлению и создали своего рода предохранительный клапан в виде помощи беднякам. Но английские «законы о бедных» служили интересам хозяев. Пособия были настолько незначительными, а наказания настолько суровыми, что любая работа казалась предпочтительнее, чем жизнь на пособие; часто, чтобы получить жалкие гроши помощи, беднякам приходилось жить и трудиться в работных домах. В этом отношении государство, якобы помогая людям из великодушия, укрепляло трудовую этику, прививая представление о том, что они должны быть благодарны за предоставленную работу. Наследие «законов о бедных» и по сей день живо в репрессивных структурах «универсального кредита», с которыми столкнулась Рэй Мэлоун[74].
Законы о бедных также навязали людям идею ответственности за семью, согласно которой родственники должны поддерживать друг друга и только если другого выхода нет, обращаться за государственной помощью. Позже были введены специальные пособия для людей с инвалидностью и, что важно, для вдов и матерей – людей, исключенных из трудовых отношений из-за их особенностей или гендера. Таким образом, государство одновременно формировало семейную и трудовую этику[75].
Капитализм продолжал свой марш по планете, принося с собой институт семьи, зачастую – на острие меча. Например, в колониях, которые позже превратились в Соединенные Штаты Америки, образ жизни коренного населения насильственно реорганизовали так, чтобы он соответствовал представлениям колонизаторов о семье, а землю, прежде находившуюся в общинной собственности, сделали частной и передаваемой по наследству. Даже несмотря на то что институт семьи навязали местным жителям извне, его провозглашали естественной и неизбежной формой организацией жизни и труда, якобы выгодной для всех[76].
* * *Для того чтобы создать современный миф о «работе по любви», требовалось не только замалчивать насилие внутри институтов семьи и труда, но и придать им романтический лоск. Брак в первые столетия своего существования имел мало общего с любовью. Когда это изменилось и возник идеал «брака по любви», он привел к созданию новых мифов о домашней работе.
Раз брак заключается по любви, выходит, что замужняя женщина выполняет свою работу тоже по любви. Таким образом, брак и работа по дому становятся теми вещами, в которых женщины должны в первую очередь находить удовлетворение и самореализацию. На протяжении многих веков популярная культура использует любовь и брак в качестве материала для создания нарративов – от романов Джейн Остин до оскароносной картины 2019 года «Брачная история», – а блоги «мамочек» и лайфстайл-аккаунты в инстаграме, как пишет журналистка Келли Мария Кордуки, до сих пор используют романтические архетипы XIX века. Они стали такими популярными благодаря новым для тех времен женским журналам и романам, которые описывали сферу жизни женщин как пространство удовольствия, а не труда[77].
Представление о семье как о романтическом убежище от бремени труда было буржуазным идеалом, который проникал в менее благополучные социальные группы; как и большинство подобных «подарков», на деле он представлял собой полную противоположность тому, что заявлялось на словах. Состоятельные люди имели возможность заключать браки по любви, а не просто по расчету; белая домохозяйка из среднего класса могла нанять прислугу для выполнения тяжелой домашней работы, а сама посвятить себя романтизированному эмоциональному труду. Но женщинам из рабочего класса приходилось заниматься и тем и другим[78].
Вместе с тем в семье есть место настоящей любви, и именно это делает такой привлекательной всю концепцию, а заодно и окружающие ее идеологии. Как заметила Анджела Дэвис в работе «Женщины и капитализм» («Women and Capitalism»), семья удовлетворяет вполне реальные человеческие потребности, «которые нужны всем, кто сохраняет в себе человечность. В капиталистическом обществе на женщину возложена особая миссия – одновременно быть источником и вместилищем целого ряда эмоций, которые иначе были бы просто исключены из жизни общества»[79].
Эмоциональная поддержка, забота, сексуальное самовыражение и настоящая любовь в семьях – не плод нашего воображения или ложного сознания, они существуют. Но все же во многом на то, как мы их воспринимаем, повлияла система, ориентированная на получение прибыли, а не на самореализацию человека. Как писала белл хукс[80], обязанность жены заключается в том, чтобы «самостоятельно производить любовь на домашней фабрике и предлагать ее мужчине, когда он возвращается домой». В семье мужчина-работник может без риска для себя выплеснуть тот гнев, который вынужден скрывать от босса; но семья, кроме того, также учит настоящей эмоциональной связи – тому самому навыку, который, как отмечает теоретик и организатор Сельма Джеймс, необходим для создания движений, борющихся за социальные изменения[81].
Капиталистическое общество ценит сексуальность прежде всего в рамках брака, где она, как предполагается, должна отвечать за производство детей, которые вырастут и станут новыми работниками. Однако из-за того бремени, что ложится на семью при капитализме, сохранение любви в браке оказывается невероятно сложной задачей: когда на семью возлагается все больше ожиданий, а участники пары постепенно замыкаются друг на друге и перестают взаимодействовать с другими людьми, их брак грозит рухнуть под собственной тяжестью. Из-за такого давления, пишет Джеймс, брак становится столь враждебной средой, что «удивительно, как мужчины и женщины вообще разговаривают, тем более живут вместе и любят друг друга»[82].
Институт брака постоянно меняется, под воздействием критики приспосабливаясь к потребностям обществ, которые живут в соответствии с установленными в них системами властных взаимоотношений. Избавиться от старой идеологии «разделения сфер», согласно которой дом – это территория женщины, а работа – территория мужчины, оказалось крайне непросто. Однако такой идеализированный образ жизни никогда не был универсальным[83].
Если нуклеарная семья (и общество, которое, как писал Энгельс, представляет собой «массу, состоящую… из индивидуальных семей, как бы его молекул») возникла относительно недавно, то ситуация, когда рабочие классы смогли позволить себе такой образ жизни (муж на работе, а жена занимается бесплатным домашним трудом), тем более нова. Этот сдвиг привел к тому, что еще больше женщин стали испытывать то давление, о котором говорит Рэй Мэлоун: от них начали требовать, чтобы они соответствовали идеалу женского совершенства, выполняя работу по дому, причем часто в одиночку[84].
До XX века (да и в XX веке) женщины из рабочего класса трудились на заводах и в шахтах. Они брали стирку на дом и выполняли сдельную работу, а также готовили, убирали и ухаживали за детьми. Термин «домохозяйка» появился около 1890 года – так называли жен, которые «полностью посвящали себя домашним делам». Вместе с новым определением на женщин были возложены новые ожидания. Дом теперь воспринимался не просто как место для приема пищи и сна, а как пространство, полностью противоположное пространству работы, где домохозяйка (homemaker) должна была создавать комфортные условия для своих мужа и детей. Комфорт самой женщины при этом никого не интересовал. Таким образом, изменения в структуре занятости привели к тому, что изменилось понимание гендера и представление о том, какой должна быть женщина[85].
Поначалу только самые обеспеченные мужчины могли позволить себе жену-домохозяйку, в то время как женам рабочих по-прежнему приходилось вкалывать на полную ставку. Рабочие движения стали добиваться «семейной зарплаты»: такого размера оплаты труда, который позволял бы мужчине-рабочему содержать жену и детей. Впервые это нововведение появилось в Австралии в 1896 году, когда был принят закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда должен быть таким, чтобы мужчина мог обеспечивать семью. Примерно в это же время начали приниматься законы, запрещающие детский труд и ограничивающие продолжительность рабочего дня для женщин. Капиталисты пошли на некоторые уступки рабочим, прикрываясь заявлениями о том, что женщины слишком слабы для работы на производстве (вот бы удивились труженицы шахт в Манчестере или Лоуэлле!), следовательно, им стоит сидеть дома[86].
Идея семейной зарплаты быстро приобрела популярность. Она давала рабочим возможность добиться повышения дохода, но одновременно укрепляла патриархальные гендерные роли в семье. Становясь «кормильцем», мужчина из рабочего класса чувствовал гордость и получал ту власть, которой был лишен на производстве. В своих глазах он теперь был «настоящим мужчиной», в отличие от тех, кто зарабатывал меньше и не мог обеспечить семью. Кроме того, семейная зарплата давала рабочим возможность (я говорю в первую очередь о США) конструировать свою маскулинность, при этом противопоставляя себя небелым трудящимся. В США чернокожие рабочие первоначально были рабами и в вопросах брака и деторождения полностью зависели от своих хозяев. После отмены рабства был принят новый свод законов, поощрявший создание «традиционных» семей бывшими рабами. Как отмечает историк Тера Хантер, в условиях рабства, когда кровные родственники и супруги в любой момент могли быть разлучены по прихоти рабовладельца, афроамериканцы «трансформировали узкую концепцию родства», выработав более широкое понимание семьи. Однако Бюро вольноотпущенников[87] и другие подобные институты стремились навязать чернокожим рабочим идеал патриархальной семьи, хотя никто вовсе не собирался платить им зарплату, достаточную, чтобы прокормить жену и детей[88].