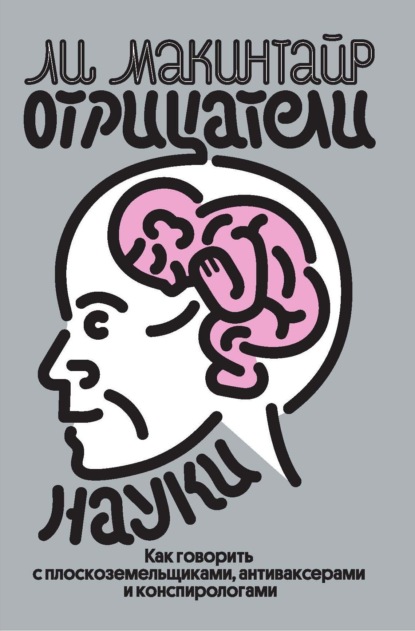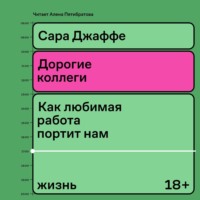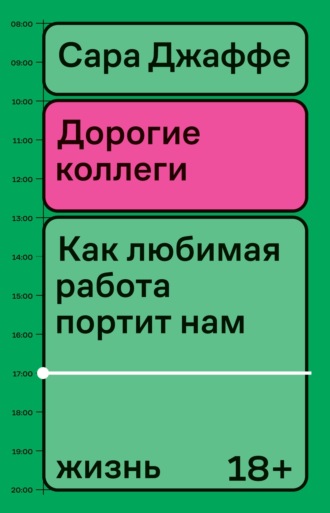
Полная версия
Дорогие коллеги. Как любимая работа портит нам жизнь

Сара Джаффе
Дорогие коллеги. Как любимая работа портит нам жизнь
Мелиссе и Питеру
Work Won’t Love You Back
Sarah Jaffe
How Devotion to Our Jobs Keeps Us Exploited, Exhausted, and Alone
Bold Type Books, 2021
© Sarah Jaffe, 2021. First published 2021 by Bold Type Books, an imprint of Hachette Book Group
© Константин Митрошенков, перевод, 2023
© ООО «Индивидуум Принт», 2023
Введение
Поздравляем с началом рабочей недели
Я люблю свою работу.
Строго говоря, постоянной работы у меня нет. Я безработная уже несколько лет с того момента, как ушла из журнала, нанявшего меня штатным автором сроком на год. С тех пор я с переменным успехом зарабатываю себе на жизнь как журналист-фрилансер. Путешествую, делаю репортажи, иногда выступаю на публике, но в основном пишу. Я встречаю удивительных людей и рассказываю их истории миру, и это занятие позволяет мне обеспечивать себя – по крайней мере на сегодняшний момент.
А еще я зарабатываю на 15 тысяч долларов в год меньше, чем в среднем женщины моего возраста и уровня образования[1].
Моя жизнь – наглядный пример того, как устроен рынок труда в современной экономике. Я гибкая и могу работать за ноутбуком, перемещаясь из кофейни в кофейню по всей стране, а иногда и по всему миру. У меня нет работодателя, который платил бы за мою медицинскую страховку, и я напрочь забыла о пенсионном обеспечении. Отпуск? Что это? У меня нет ничего из того, что раньше было символами стабильной жизни взрослого человека, – ни семьи, ни собственности, только собака. (С другой стороны, нет у меня и начальства.)
Но эта книга не обо мне. Она о миллионах людей по всему свету, которые существуют в таких же или похожих условиях, даже если им удается найти старую добрую работу на полную ставку. Многие составляющие того, что раньше называлось «гарантией занятости», сейчас исчезли, растворились в воздухе. Как напоминают нам авторы многочисленных статей и книг на эту тему, мы страдаем от усталости, выгорания, переработок и невозможности найти баланс между работой и личной жизнью (а то и просто найти время на личную жизнь).
В то же время мы слышим о том, что работа должна приносить удовлетворение, удовольствие, даже радость. Предполагается, что мы работаем потому, что любим свою работу: и в такой ситуации вроде бы вообще нельзя жаловаться на то, что ваш труд обогащает других людей, пока вы еле сводите концы с концами и не можете найти время посидеть с друзьями.
Как это часто происходит в эпоху позднего капитализма, фраза «выбери себе работу по душе – и ты никогда не будешь работать», которая первоначально фигурировала в мотивирующих постах в соцсетях, теперь превратилась в своего рода народную мудрость. Принято считать, что она справедлива по отношению к людям всех времен и народов, в том числе и к нашим пещерным предкам, которые, полагаю, действительно получали удовольствие от охоты на мамонтов и других подобных занятий. Но вместо того чтобы «никогда не работать», мы вынуждены работать больше, чем когда-либо прежде, и быть на связи даже в нерабочие часы. Все это становится причиной стресса, тревожности и одиночества. Короче говоря, «любовь к работе» – это откровенное надувательство[2].
Однако идея о том, что мы должны любить свою работу, появилась относительно недавно. В прежние времена считалось, что работа, грубо говоря, – отстой, и что люди вовсе перестали бы работать, будь у них такая возможность. Начиная со времен феодализма и заканчивая последними десятилетиями XX века, правящий класс обычно жил за счет своего богатства. У древних греков были рабы и banausoi[3], которые трудились и тем самым давали высшим классам возможность посвящать свое время досугу и общественным делам. Если вы читали романы Джейн Остин и задавались вопросом о том, на что живут ее персонажи, которые ничем особо не занимаются, кроме бесед о том, кто на ком женится, то вы понимаете, о чем я говорю. Богатые не работали, за них это делали другие люди[4].
Начиная с 1970–1980-х годов ситуация начала меняться. Современный класс собственников не только работает, но и превращает свой упорный труд в фетиш. Однако по-настоящему серьезно изменилась жизнь тех, кто не зарабатывает миллионы. Теперь нас заставляют поверить, что работа сама по себе достойна любви. Если мы вдруг вспомним, для чего работаем на самом деле – чтобы иметь деньги на оплату счетов, – то удивимся, почему же мы так много вкалываем, но так мало получаем…[5]
Дискуссии о том, должна ли работа приносить удовольствие, ведутся уже давно. В XIX веке социалист и художник Уильям Моррис выделил «три надежды», оправдывающих необходимость трудиться: «надежду на отдых, надежду на продукт труда и надежду на наслаждение самой работой». Моррис признавал, что сама идея о том, что работа может приносить удовольствие, покажется странной большинству читателей. Однако он утверждал, что виной всему порожденное капитализмом неравенство, которое обрекло рабочих людей на занятие «бесполезным трудом», приносящим выгоду неработающим богачам. Современная промышленность отняла у ремесленников те крупицы независимости и власти, что были у них прежде, превратив их во взаимозаменяемых роботизированных наемных работников. Никого не интересовало, любят ли пролетарии свою работу, ведь у них не было возможности выбирать[6].
При этом пролетарии изо всех сил старались избежать работы. На заре рабочего движения его требования в основном сводились к тому, чтобы меньше трудиться: активисты добивались уменьшения продолжительности рабочего дня (сначала до 12, потом до 11, потом до 10, потом до 8 часов) и увеличения числа выходных. Забастовка, главное оружие рабочих, по сути представляет собой отказ от работы. Некоторое время рабочие довольно эффективно использовали это оружие, добившись сокращения рабочего дня и недели, а также увеличения заработной платы. Капиталисты пошли на уступки, чтобы сохранить прибыль, но одновременно стали искать новые, более эффективные, чем применение грубой силы, стратегии обуздания рабочих[7].
Индустриальному рабочему классу предложили пряник – то, что часто называют «фордистским компромиссом» – как нетрудно догадаться, в честь Ford Motor Company и ее владельца Генри Форда. Рабочие обязались посвящать значительную часть своего времени работе на босса (но в пределах разумного – как правило, речь шла о пяти восьмичасовых рабочих днях в неделю), а взамен получали достойную зарплату, медицинское обеспечение (в США его предоставляла компания, в других странах – государство), иногда и оплачиваемый отпуск с пенсией. Именно «надежда на отдых», говоря словами Морриса (а еще надежда хотя бы на финансовое вознаграждение, если уж о контроле над продуктом труда приходилось забыть), дала рабочим возможность обеспечивать себя и даже свою семью, наслаждаясь жизнью в свободное от работы время[8].
Возможно, некоторым моим читателям, выкраивающим время для чтения, пока они проверяют почту или ждут вызова на следующую смену, трудно представить себе такой образ жизни. Безусловно, его не стоит романтизировать. Рабочие зачастую занимались изнурительным и одновременно однообразным трудом. Кроме того, они часто так сильно уставали, что толком и не могли насладиться отдыхом, который им так нелегко доставался. Но благодаря фордистскому компромиссу стал возможен недолгий период стабильности, продлившийся с окончания Великой депрессии до 1960-х годов, и по этой стабильности мы тоскуем до сих пор.
Как и большинство компромиссов, фордистская сделка оставила обе стороны недовольными. С одной стороны равновесие поддерживалось постоянными забастовками рабочих, с другой – непрекращающимися попытками боссов пересмотреть условия сделки. В благополучные времена, когда прибыли были достаточно высокими, чтобы делиться ими, класс собственников более или менее соглашался мириться с условиями договора, но все изменилось в 1970-е годы, когда грянул кризис. «К 1970-м годам динамизм, который система демонстрировала в послевоенные годы, сошел на нет, что было связано с многочисленными политическими вызовами и институциональным склерозом[9]», – объясняет экономист Джеймс Мидуэй. Чтобы решить проблему, капитал усилил давление на трудящихся. Компании стали переносить производства в те страны, где могли позволить себе платить рабочим лишь жалкую часть того, что получали их коллеги в США или Великобритании. Продолжительность рабочего дня начала расти, доходы – снижаться. Стало появляться все больше семей, где работали оба родителя, теперь у них не оставалось времени на домашние дела[10].
К 2016 году число рабочих мест в промышленности США сократилось настолько, что Дональд Трамп решил сделать фразу «Make America Great Again» («Вернем Америке былое величие») своим предвыборным лозунгом. В 2017 году, после того как он стал президентом, я посетила завод компании Carrier в Индианаполисе. Предприятие, которое должно было закрыться в 2016 году, сыграло ключевую роль в предвыборной кампании Трампа, обещавшего вернуть «хорошие» рабочие места. После победы на выборах он вновь появился на заводе Carrier, чтобы объявить, что «миссия выполнена», и похвастаться рабочим, что ему удалось предотвратить закрытие предприятия. Однако, приехав в Индианаполис, я обнаружила, что завод Rexnord, расположенный по соседству с Carrier, закрывается. Его сотрудников президент визитом не почтил, и они лишились своих рабочих мест. То же самое произошло с работниками предприятия General Motors в Лордстауне, штат Огайо, закрытого в марте 2019 года.
Рабочие, с которыми я разговаривала в Индианаполисе и Огайо, не хотели, чтобы их заводы закрывались, но никто из них не идеализировал свою работу. Они устроились на эти предприятия ради денег, а не ради самореализации. Они хотели иметь возможность отдыхать на выходных и платить аренду за свои дома. Когда я спросила, чего им будет не хватать после закрытия завода, никто не упомянул саму работу: они говорили о коллегах, которые стали им почти как родные, о посиделках в баре после смены и чувстве солидарности, возникшем благодаря активной профсоюзной деятельности (именно из солидарности в 2019 году они присоединились к забастовке сотрудников General Motors, хотя их собственное предприятие к тому моменту уже несколько месяцев как не работало). Но в основном они говорили о деньгах – о том, что потеря работы со ставкой 26 долларов в час (плюс сверхурочные) сильно скажется на их уровне жизни.
Неподалеку от завода Carrier высятся распределительные центры Amazon и Target. Вероятно, именно туда устроятся некоторые бывшие заводские рабочие. Сегодня работа в распределительном центре или на складе стала синонимом несчастья. Работникам приходится мочиться в бутылки, потому что им не разрешают слишком часто отлучаться в туалет, и горстями закидывать в рот ибупрофен, чтобы справиться с болями и недомоганиями. Ко всему прочему начальство следит за ними при помощи GPS-трекеров. При этом компания, опровергая информацию об адских условиях труда, описанных журналисткой Эмили Гундельсбергер, хвалит своих «усердных сотрудников» за то, что их «амбициозность и преданность своему делу обеспечивают клиентам Amazon обслуживание самого высокого уровня»[11].
Глобальная пандемия коронавируса лишь сделала невыносимые условия труда еще более заметными. Число людей, занятых в промышленности, сократилось по всему миру, но многие из них по-прежнему работают за гроши и без защиты профсоюзов. Женщины и дети трудятся в смертельно опасных условиях во многих странах, в том числе в Бангладеш, где в 2013 году в результате обрушения здания швейной фабрики «Рана-Плаза» погибли 1134 человека и еще более 2000 пострадали. Условия труда на швейных фабриках в Бангладеш (или на заводе Foxconn в Китае, где собирают айфоны) варьируются от тяжелых и изнурительных до смертельно опасных. Мало кому придет в голову, что рабочие на таких предприятиях могут любить свою работу. Однако в редких случаях, когда там проходят проверки, рабочих заставляют улыбаться инспекторам[12].
Многие журналисты воспроизводят стереотипы и пишут о шахтерах и заводских рабочих как об основном электорате Трампа, тем самым сильно романтизируя их труд, который был и остается невероятно тяжелым. Джордж Оруэлл писал, что шахты города Уиган, расположенного неподалеку от Манчестера, «подобны аду (по крайней мере моему представлению о преисподней)». Работники General Motors на заводе Linden в Нью-Джерси рассказали социологу Рут Милкман, что их предприятие «напоминает тюрьму»; их коллеги из Лордстауна назвали менеджмент завода «маленьким CC или гестапо». Чаки Денисон, недавно вышедший на пенсию с предприятия в Лордстауне, говорил мне, что «на заводе, по сути, шла война против рабочих». По словам Милкман, если их работу и можно было назвать «хорошей», то только благодаря профсоюзу, а условия труда сами по себе были «безжалостными и бесчеловечными»[13].
Стандартизация и усиление контроля превратили рабочих во взаимозаменяемые шестеренки – настолько взаимозаменяемые, что сегодня компания может с легкостью закрыть предприятие в Индианаполисе и открыть его в Мексике или Бангладеш, где рабочая сила дешевле, или же полностью заменить рабочих машинами.
Но автоматизация, аутсорсинг и вывод производств за пределы США и Западной Европы изменили сам характер труда в богатых странах. Как ни странно, эти процессы привели к тому, что работодатели стали требовать от работников тех самых человеческих качеств, которые столь старательно истреблял промышленный капитализм. Работодатели пытаются эксплуатировать наш творческий потенциал, умение взаимодействовать с людьми и неравнодушие – все эти качества они требуют задействовать в работе. Предполагается, что так она станет менее невыносимой, но в действительности благодаря этому она лишь глубже проникает во все сферы нашей жизни[14].
Текущая ситуация порождена политическим проектом, известным как неолиберализм, постфордизм или «поздний капитализм». Как объясняет политический философ Асад Хайдер, «неолиберализм… в действительности представляет собой два вполне конкретных явления: во-первых, контролируемую государством реструктуризацию социальной, политической и экономической сфер, ставшую реакцией на кризис послевоенной капиталистической системы, и во-вторых, идеологию формирования рыночных отношений при помощи социальной инженерии». Успех второй части проекта зависел от того, удастся ли переформатировать стремление к освобождению, выраженное политическими и общественными движениями 1960–1970-х годов, и переопределить понятие «свобода», сместив акцент с его позитивной составляющей (свобода для чего-то) на негативную (свобода от чего-то). Неолиберализм внушает нам идею, что все необходимое и желанное в этом мире нужно покупать[15].
Неолиберализм возник не на пустом месте: его появление стало следствием решений, принятых победителями в политической борьбе. Эти победители реорганизовали государство так, чтобы повсюду насадить конкуренцию, обеспечить соблюдение прав частной собственности и защитить индивидуальное право на накопление. Государственные службы отдали на откуп частным спекулянтам. Граждан сделали потребителями. Свобода уже рядом, утверждали неолибералы, вам осталось только ее купить[16].
Неолиберализм зародился в Чили в 1973 году, когда Аугусто Пиночет свергнул демократического социалиста Сальвадора Альенде и начал силовыми методами перестраивать экономику, получая рекомендации от американских советников. В том же году разразился нефтяной кризис, в экономике произошел глобальный спад, стоимость ценных активов рухнула. У капитализма начались проблемы: безработица и инфляция росли, а общественные движения требовали перемен. На этом фоне Пиночет репрессиями и пытками расчищал дорогу неолиберализму, прикрываясь заявлениями о приверженности ценностям «свободы»[17].
В основе неолиберального проекта лежало насилие, но это не помешало ему распространиться из Чили по всему миру при поддержке правительств демократических стран. Маргарет Тэтчер, ставшая премьер-министром Великобритании в 1979 году, поставила своей целью сокрушить профсоюзы и саму идею солидарности. Она приватизировала объекты коммунальной инфраструктуры и государственные предприятия, а социальное жилье распродала частникам. Малоимущим тэтчеризм предлагал негативную солидарность – возможность наблюдать за тем, как сворачиваются программы социального обеспечения, снижается уровень жизни окружающих, а также утешать себя жестокой мыслью, что у них-то все еще не так плохо, как у соседей. «Экономика – это метод. Цель – изменить душу», – говорила Тэтчер[18].
Другое, возможно, самое знаменитое высказывание Тэтчер – о том, что «у нас нет альтернативы», было сделано в момент, когда коммунизм еще подавал признаки жизни, а в большинстве европейских стран были сильны социал-демократические партии. Но идея TINA (англ. «There is no alternative») легла в основу того, что британский теоретик Марк Фишер назвал «капиталистическим реализмом», – представления, что капитализм – единственно возможная форма мироустройства. Неолибералы опираются на эту идею даже в периоды кризисов – более того, в такие моменты они особенно активно за нее цепляются[19].
В результате «шоковых» мер, которые были предприняты в 1980 году главой Федеральной резервной службы США Полом Волкером, ограничившим денежную массу и повысившим процентные ставки, разорились десятки тысяч компаний. В городах вроде Янгстауна, штат Огайо, работы лишилось более одной пятой населения. Приятель Тэтчер Рональд Рейган, выигравший в том же году президентские выборы, пошел по ее стопам, снизив налоговые ставки и разгромив профсоюз авиадиспетчеров. Экономический и политический кризис 1970-х годов запустил процесс деиндустриализации, а Тэтчер, Рейган и Волкер как следует подлили масла в огонь. Производство либо вывели из богатых стран в бедные, либо автоматизировали. Рабочим автомобильных заводов, которые раньше объявляли забастовки и останавливали работу предприятий, чтобы добиться своих целей, теперь, наоборот, приходилось протестовать против закрытия заводов. Джошуа Кловер в книге «Бунт, забастовка, бунт» («Riot, Strike, Riot») назвал положение рабочих, которые, «борясь за выживание, утверждают собственную эксплуатацию», «аффирмативной ловушкой». А от аффирмативной ловушки недалеко и до идеи о том, что человек должен «любить свою работу»[20].
Те, кто в прежние времена устроились бы на работу в промышленность, теперь шли в розничную торговлю, здравоохранение, сферу услуг и высокотехнологичный сектор. Мы часто слышим разговоры об экономике знаний и о том, что теперь у нас появились возможности заниматься творческим трудом, однако гораздо чаще современный человек оказывается в сфере услуг. Там ждет другая аффирмативная ловушка: улыбайся клиентам, или тебя уволят[21].
Идеалы свободы и выбора, которые на словах отстаивает неолиберализм, парадоксальным образом помогают ему оправдывать неравенство. Вы свободны в своем выборе, но и цена неправильного выбора также полностью ложится на ваши плечи, а с учетом сворачивания программ социального обеспечения эта цена может оказаться смертельно высокой. Такое понимание свободы, пишет политический теоретик Адам Коцко, также представляет собой ловушку, «аппарат, генерирующий чувство вины»[22].
Этот аппарат неизменно нацелен на индивидуализацию. Все, что с вами происходит, – это следствие принятых вами решений. Логично, что если вы оказались в беде, никто не станет сочувствовать вам и уж тем более помогать. Как отмечает Марк Фишер, из-за такого отношения груз стресса – который никто не разделит – становится неподъемным, а депрессия и тревога лишь усиливаются. Если вы не можете найти работу, то сами виноваты – недостаточно трудились (бесплатно), чтобы приобрести необходимые навыки. Если же вам не нравится ваша работа, то рецепт прост – найдите другую! Такие рассуждения служат оправданием высокой текучки кадров, играющей на руку компаниям. У них в распоряжении всегда есть доступные работники, которых легко искать, контролировать и увольнять[23].
В этом контексте стоит вспомнить еще одно ставшее знаменитым высказывание Тэтчер: «Общества как такового не существует». В действительности она сформулировала свою мысль несколько иначе: «…какое общество? Как такового его не существует. Есть отдельные мужчины и женщины, и есть семьи». В ситуации, когда общество отсутствует, границы между семьей и работой стираются, а времени на личную жизнь почти не остается, идея сделать работу более приятной и даже найти в ней замену недостающей любви начинает казаться нам вполне привлекательной. Собирая материал для этой книги, я неоднократно беседовала с людьми, которые рассказывали, что начальство называет их офис или предприятие «семьей». Одна компания по производству видеоигр даже стала называть себя «fampany»[24]. Не любить работу стыдно. Предполагается, что любовь – наш бесконечный внутренний ресурс, а если компания, где мы работаем, стала нам «как родная», то разве не естественно ее любить?[25]
Когда любовь к работе подменяет любовь к людям, солидарность ослабевает. Заявление Тэтчер о том, что общества не существует, было сделано после разгрома профсоюзов, которые не только устраивали забастовки, но и организовывали неформальные встречи для своих членов во внерабочее время. Получается, если любимая работа не отвечает вам взаимностью, логичный выход – работать над отношениями или искать нового партнера, а не объединяться с коллегами, чтобы добиться своего. Коллективное действие в такой ситуации немыслимо. Либо работай над собой более усердно, либо уходи[26].
Однако принуждение, скрывающееся под маской любви, становится сегодня все более заметным, и рабочие начинают действовать. Об этом свидетельствует популярность концепции «выгорания» – ведь что такое выгорание, если не ощущение, вызванное безответной любовью к труду? Повторяющиеся циклы увольнений, стабильно низкая зарплата и сокращения в частном секторе – все это в совокупности привело к тому, что нам стало еще сложнее любить свою работу. Тот факт, что «ключевые» сотрудники должны выходить на смены даже во время пандемии коронавируса, обнажает принуждение, лежащее в основе трудовых отношений. Нас карают за все принятые решения, даже если мы просто делаем, что нам говорят: берем студенческие кредиты, соглашаемся на увеличение продолжительности рабочего дня, отвечаем на рабочие письма, находясь на вечеринке, в постели или на похоронах, работаем больше, а получаем меньше[27].
Неолиберализму необходима идеология любви к работе, чтобы скрыть тот факт, что на заре капитализма людей принуждали к труду. Однако сегодня это насилие все чаще выходит на поверхность, а протестные акции (проходящие по всему миру от Чили до Квебека и Чикаго; я включаю сюда и климатические забастовки) становятся все заметнее. Неолиберализм попытался продать нам не свободу от работы, а свободу, которой мы якобы можем достичь при помощи работы. Но достаточно взглянуть сегодня на улицы городов, чтобы понять: люди больше не желают покупаться на эту уловку[28].
Простая истина о труде при капитализме заключается в том, что на работе мы не контролируем почти ничего. Мы можем найти работу, которая будет приносить нам удовольствие, или добиться повышения зарплаты, но ситуация от этого не изменится. Концепция отчужденного труда описывает не чувства работника, а отсутствие у него возможности решать, где и насколько усердно он будет работать, а также контролировать производимые им продукты или предоставляемые услуги[29].
Труд необходим для производства собственности и накопления капитала, но труд, как мы отмечали, слишком часто выходит из-под контроля. Ведь труд неотделим от трудящихся, то есть от нас с вами – запутавшихся, одержимых желаниями, голодных, одиноких, злых и разочарованных людей. Мантра неолиберализма гласит, что мы можем спокойно уйти с нелюбимой работы и найти другую, которая будет нам по душе. Однако в действительности наша свобода ограничена потребностью в еде, крыше над головой и медицинском обеспечении. Наше место в иерархии капиталистического общества зависит не от того, насколько усердно мы трудимся, а от бесконечного множества неподконтрольных нам факторов, в том числе нашей расовой, гендерной и национальной принадлежности. Как пишет политический теоретик Кэти Уикс, в процессе работы происходит формирование нас как политических и социальных субъектов[30].
Иначе говоря, работа определяет наши представления о том, как стоит жить. И вслед за изменениями форм организации труда и капиталистической системы меняются и наши представления о том, какой должна быть наша жизнь, где и как мы должны реализовывать себя. Представление о «хорошей» работе меняется с течением времени, по мере того как рабочие люди борются за свои права. Нам следует об этом помнить.
* * *Идея о том, что работа должна приносить удовлетворение, стала настолько общепринятой, что несогласие с ней воспринимается как бунт против здравого смысла. Но итальянский теоретик Антонио Грамши напоминает нам, что «здравый смысл» обусловлен исторически, а представления и верования людей меняются по мере того, как изменяются материальные условия их существования. Грамшистская концепция гегемонии объясняет, как социальные группы могут реорганизовать мир в собственных интересах, используя культуру, идеи и материальные силы. Гегемония – это процесс, в ходе которого нас заставляют принять структуры власти, определяющие нашу жизнь[31].