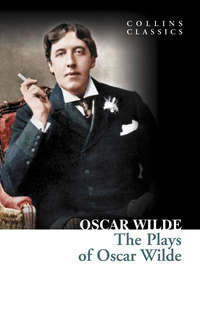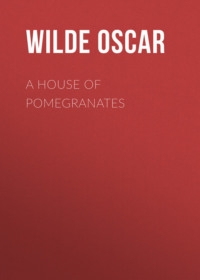Полная версия
Портрет Дориана Грея
– Хорошо бы эту Америку вообще не открывали! – воскликнула она. – У наших девушек не осталось никаких шансов. Это нечестно!
– Возможно, ее толком до сих пор еще не открыли, – предположил мистер Эрскин. – Я бы сказал, что ее всего лишь обнаружили.
– Но мне встречалось несколько туземных особей, – рассеянно ответила герцогиня, – и должна признать, некоторые из них были весьма хорошенькие. Одеваются превосходно. Свои туалеты заказывают в Париже. Я и сама была бы не прочь.
– Говорят, когда добродетельный американец умирает, он попадает в Париж, – хихикнул сэр Томас, имевший в запасе немало поношенных нарядов из гардероба Юмора.
– Неужели? А куда же после смерти попадают американские грешники?
– В Америку, – пробормотал лорд Генри.
Сэр Томас нахмурился.
– Боюсь, ваш племянник настроен против этой великой страны, – обратился он к леди Агате. – Я изъездил ее вдоль и поперек в вагонах, предоставленных мне управляющими компаний. В таких вопросах они весьма любезны. Уверяю вас, посещение Америки способствует образованию.
– Так ли уж важно увидеть Чикаго, чтобы стать образованным? – грустно поинтересовался мистер Эрскин. – Меня такое путешествие не особенно привлекает.
Сэр Томас махнул рукой:
– У мистера Эрскина целый мир на книжных полках. Мы же, люди практичные, предпочитаем смотреть, а не читать. Американцы – очень интересный народ. Они крайне разумны. По-моему, это их отличительная черта. Да-да, мистер Эрскин, это весьма разумный народ. Уверяю вас, они люди серьезные.
– Как ужасно! – воскликнул лорд Генри. – Я еще могу смириться с грубой силой, но грубое здравомыслие абсолютно невыносимо. Есть что-то нечестное в его применении. Это удар ниже интеллекта.
– Не понимаю вас, – сказал сэр Томас, покраснев как рак.
– А я понимаю, – с улыбкой отозвался мистер Эрскин.
– Парадоксы по-своему хороши, – вставил свое слово баронет.
– Разве это парадокс? – спросил мистер Эрскин. – Я бы не сказал. Хотя, возможно, вы правы. Что ж, парадокс прокладывает путь к истине. Чтобы исследовать Реальность, надо посмотреть, как она умеет ходить по канату. Лишь когда Правда становится акробатом, мы получаем возможность о ней судить.
– Боже мой! – воскликнула леди Агата. – Как вы, мужчины, привыкли спорить! Признаюсь, я никогда не могу понять, о чем вы толкуете. Кстати, Гарри, я очень на тебя сердита. Почему ты пытаешься отговорить нашего милого Дориана Грея от выступления в Ист-Энде? Уверяю тебя, он внесет бесценный вклад. Все будут рады услышать его исполнение.
– Я хочу, чтобы он играл для меня, – заявил лорд Генри, улыбнувшись, и посмотрел в конец стола, где встретил счастливый ответный взгляд.
– Но люди в Уайтчепеле так несчастны! – не отступала леди Агата.
– Я готов сочувствовать чему угодно, только не страданию, – сказал лорд Генри, пожав плечами. – Страданию я сочувствовать не в силах. Оно слишком уродливо, слишком кошмарно, слишком гнетуще. Есть что-то крайне нездоровое в том, как в наше время сочувствуют боли. Сочувствовать надо ярким цветам, красоте, радости жизни. Чем меньше мы говорим о жизненных язвах, тем лучше.
– И все же Ист-Энд представляет собою очень серьезную проблему, – заметил сэр Томас, глубокомысленно покачав головой.
– Совершенно верно, – ответил молодой лорд. – Это проблема рабства. А мы пытаемся ее разрешить, устраивая рабам развлечения.
Политик пристально на него посмотрел.
– Тогда какие изменения вы бы предложили? – спросил он.
Лорд Генри рассмеялся.
– Я не имею желания ничего менять в Англии, за исключением погоды, – ответил он. – Мне вполне хватает философских размышлений. Но поскольку девятнадцатый век обанкротился из-за переизбытка сострадания, я, чтобы исправить положение, предложил бы обратиться к науке. Преимущество эмоций состоит в том, что они уводят нас в сторону, преимущество же науки – как раз в отсутствии эмоциональности.
– Но на нас очень большая ответственность, – робко попыталась возразить миссис Ванделер.
– Очень большая, – подхватила леди Агата.
Лорд Генри посмотрел на мистера Эрскина.
– Человечество воспринимает себя слишком серьезно. Это и есть его первородный грех. Если бы пещерный житель умел смеяться, вся история сложилась бы иначе.
– Как приятно от вас это слышать, – проворковала герцогиня. – Я всегда чувствую себя виноватой, бывая у вашей милой тетушки, потому что Ист-Энд меня совершенно не интересует. С сегодняшнего дня я смогу, не краснея, смотреть ей в глаза.
– Румянец всем к лицу, герцогиня, – заметил лорд Генри.
– Только в молодости, – ответила она. – Когда краснеет пожилая дама вроде меня, это очень плохой знак. Ах, лорд Генри, вы бы научили меня, как снова стать молодой.
Лорд Генри на мгновение задумался.
– Вы могли бы вспомнить какую-нибудь страшную ошибку, которую совершили в юности, герцогиня? – спросил он, глядя на нее через стол.
– Боюсь, их было немало, – призналась она.
– Так совершите их снова, – со всей серьезностью произнес он. – Чтобы вновь обрести молодость, нужно всего лишь повторить прежние безрассудства.
– Великолепная теория! – воскликнула герцогиня. – Непременно применю ее на практике.
– И опасная! – сквозь зубы процедил сэр Томас.
Леди Агата покачала головой, но мысль показалась ей забавной. Мистер Эрскин слушал молча.
– Да, – продолжал лорд Генри, – это одна из величайших тайн жизни. В наши дни люди умирают от разъедающего душу здравого смысла. Когда уже слишком поздно, они обнаруживают, что единственное, о чем им не приходится сожалеть, это совершенные ошибки.
Все сидевшие за столом рассмеялись.
Лорд Генри стал играть этой мыслью с присущим ему своенравием: то подбрасывал ее в воздух и менял до неузнаваемости, то давал ей убежать и снова ловил, то заставлял переливаться всеми цветами фантазии, то пускал летать на крыльях парадокса. Восхваление безрассудства в его речи поднялось до уровня философии. Сама философия омолодилась и под безумную музыку наслаждения в залитом вином платье, с венком из плюща на голове, заплясала, словно вакханка, на холмах жизни, насмехаясь над трезвостью медлительного Силена. Факты бежали от нее, как испуганные лесные звери. Ее белые ножки давили на огромный пресс, у которого сидит мудрый Омар[12]. И бурлящий виноградный сок поднимался к этим оголенным ножкам волнами лиловых пузырьков или подбирался красной пеной к краю покатых стенок чана и капал на землю. Это была замечательная импровизация. Лорд Генри чувствовал, что Дориан Грей не спускает с него глаз, и сознание того, что среди слушателей был тот, чью душу он намерен поразить, казалось, добавляло тонкости его остроумию и красок воображению. Лорд Генри был великолепен, фантастичен, безответственен. Он совершенно очаровал своих слушателей, и они, смеясь, шли за ним, повинуясь мелодии его дудочки. Дориан Грей ни разу не отвел от него взгляд и сидел, как завороженный. Улыбка то и дело скользила по его губам, и в потемневших глазах удивление все заметнее сменялось серьезностью.
Наконец в ливрее нынешнего века в столовую вошла Реальность, воплотившись в лакея, который сообщил герцогине, что экипаж подан. В притворном отчаянии она, заломив руки, воскликнула:
– Как досадно, что приходится уходить! Нужно заехать за мужем в клуб и отвезти его на какое-то нелепое собрание в «Уиллисе»[13], где ему назначено председательствовать. Если я опоздаю, он наверняка впадет в ярость, а в этой шляпке мне следует избегать сцен. Она такая воздушная, что любое грубое слово ее просто снесет. Так что, дорогая Агата, я вынуждена вас покинуть. До свидания, лорд Генри! Вы очаровательны и можете развратить кого угодно. Ума не приложу, что сказать о ваших взглядах. Приходите как-нибудь к нам на ужин. Может, во вторник? Вы свободны во вторник?
– Ради вас, герцогиня, я всех отменю, – с поклоном ответил лорд Генри.
– Как мило и как дурно с вашей стороны, – сказала она. – Так, значит, приходите.
И она выплыла из комнаты в сопровождении леди Агаты и других дам.
Когда лорд Генри вновь опустился на свое место, мистер Эрскин обошел вокруг стола и, усевшись рядом, дотронулся до его руки.
– С вашими речами не сравнится ни одна книга, – сказал он. – Не думали заняться писательством?
– Я слишком люблю читать книги, чтобы озадачиться их сочинением, мистер Эрскин. Без сомнения, мне хотелось бы написать роман, который был бы хорош, как персидский ковер. И столь же фантастичен. Но для литературы в Англии не найдется читателей: все читают лишь газеты, учебники и энциклопедии. Если говорить о литературе, то, по сравнению с другими народами, у англичан самое безнадежное чувство прекрасного.
– Боюсь, вы правы, – ответил мистер Эрскин. – У меня у самого когда-то были писательские амбиции, но я давно от них отказался. А теперь, мой дорогой юный друг, если вы позволите вас так называть, разрешите спросить: действительно ли вы верите в то, что говорили за обедом?
– Я уж и забыл, что говорил, – улыбнулся лорд Генри. – Все так плохо?
– Очень плохо. Должен сказать, что, по моему мнению, вы чрезвычайно опасный человек, и, если что-то приключится с нашей доброй герцогиней, мы все сочтем, что в первую очередь за это в ответе вы. Но мне бы хотелось поговорить с вами о жизни. Мое поколение довольно скучное. Когда-нибудь, если вам надоест Лондон, приезжайте в Тредли и изложите мне свою философию наслаждения за рюмочкой прекрасного бургундского, которое у меня, к счастью, еще осталось.
– С огромным удовольствием. О поездке в Тредли можно только мечтать! Там такой прекрасный хозяин и не менее прекрасная библиотека.
– Для полноты картины не хватает лишь вас, – ответил старый джентльмен с церемонным поклоном. – А сейчас я должен попрощаться с вашей замечательной тетушкой. Пора в «Атенеум»[14]. В этот час мы там спим.
– Все члены клуба, мистер Эрскин?
– Все сорок человек в сорока креслах. Готовимся стать Английской литературной академией.
Рассмеявшись, лорд Генри встал.
– Ну а я пойду в парк, – сказал он.
Когда он проходил в дверь, до его руки дотронулся Дориан Грей.
– Позвольте мне пойти с вами, – тихо попросил он.
– Но мне казалось, вы обещали Бэзилу Холлуорду, что заглянете к нему, – ответил лорд Генри.
– Мне больше хотелось бы пойти с вами. Да, я чувствую, что просто должен пойти с вами. Пожалуйста, разрешите. И обещайте, что все время будете со мной беседовать! Никто, кроме вас, не умеет так восхитительно говорить.
– Ах, я сегодня был слишком разговорчив, – сказал лорд Генри с улыбкой. – Сейчас мне хочется только наблюдать жизнь. Если желаете, можете присоединиться, и мы понаблюдаем вместе.
Глава четвертая

Как-то раз месяц спустя Дориан Грей сидел у лорда Генри в Мейфэре[15], раскинувшись в роскошном кресле небольшой библиотеки. Комната в своем роде была поистине очаровательна: она была обшита высокими дубовыми панелями оливкового оттенка, потолок украшали кремовый фриз и рельефная лепнина, а пол устилал войлочный ковер кирпичного цвета, поверх которого были разбросаны шелковые персидские коврики с длинной бахромой. На миниатюрном полированном столике стояла статуэтка Клодиона[16], а рядом лежал сборник ста новелл Маргариты Валуа[17], некогда переплетенный для нее Кловисом Эвом[18] и усыпанный золотыми маргаритками, эмблемой королевы. На каминной полке красовались объемные фарфоровые вазы синего цвета с пестрыми тюльпанами. Сквозь небольшие оконные витражи лился бледно-оранжевый свет летнего лондонского дня.
Лорд Генри еще не пришел. Он всегда опаздывал из принципа, принцип же состоял в том, что пунктуальность – вор времени. Поэтому юноша был угрюм. Его пальцы вяло листали страницы романа «Манон Леско»[19] с прекрасными иллюстрациями, обнаруженного им в одном из книжных шкафов. Дориана раздражало холодное, монотонное тиканье часов эпохи Людовика Четырнадцатого. И не однажды он подумывал уйти.
Наконец послышались шаги, и дверь отворилась.
– Как ты долго, Гарри! – негромко сказал он.
– Боюсь, это не Гарри, мистер Грей, – ответил ему чей-то пронзительный голос.
Дориан Грей обернулся и встал.
– Простите, я думал…
– Вы думали, что пришел мой муж. Но это всего лишь его жена. Позвольте представиться. Я довольно хорошо знаю вас по фотографиям. У моего мужа их, кажется, семнадцать.
– Неужели семнадцать, леди Генри?
– Ну, может, восемнадцать. И на днях я вас видела вместе с ним в Опере[20].
С этими словами она нервно рассмеялась и посмотрела на него туманным взглядом своих незабудковых глаз. Странная она была женщина. Ее наряды всегда выглядели так, будто их кроили в ярости, а надевали в бурю. Обычно она пребывала в состоянии влюбленности, но, поскольку страсть леди Генри никогда не встречала ответного чувства, у нее все еще сохранялись иллюзии. Ей хотелось выглядеть оригинально, но получалось всего лишь неопрятно. Звали ее Виктория, и она с маниакальным увлечением ходила в церковь.
– Наверное, когда давали «Лоэнгрина»[21], леди Генри?
– Да, моего любимого «Лоэнгрина». Музыку Вагнера я просто обожаю. Она такая громкая, что можно все время разговаривать и никто тебя не подслушает. В этом состоит ее несомненное преимущество, не правда ли, мистер Грей?
И снова отрывистый нервный смех сорвался с тонких губ хозяйки дома, а ее пальцы начали теребить длинный черепаховый нож для разрезания бумаги.
Дориан с улыбкой покачал головой.
– Боюсь, я с вами не соглашусь, леди Генри. Я никогда не разговариваю, когда слушаю музыку. Во всяком случае, если музыка хороша. Если же она плоха, то мы просто обязаны заглушить ее разговором.
– Ну конечно! Это одна из мыслей Гарри, да, мистер Грей? Я всегда слышу мысли мужа из уст его друзей. Только таким образом я и могу их узнать. Однако не подумайте, что я не люблю хорошую музыку. Я ее обожаю, но вместе с тем и боюсь. Она вызывает во мне романтические чувства. Я просто преклоняюсь перед пианистами. Гарри говорит, что иногда даже перед двумя сразу. Не знаю, что в них есть такого. Возможно, это потому, что они иностранцы. Ведь правда же, они все иностранцы? Даже те, кто родились в Англии, через некоторое время превращаются в иностранцев. Вы согласны? Очень разумно с их стороны и так мило по отношению к искусству. Оно становится космополитическим, не так ли? Вы, кажется, никогда не бывали на моих раутах, мистер Грей. Непременно приходите! Орхидеи я себе позволить не могу, но зато не скуплюсь на иностранцев. Они добавляют гостиной живости красок. Но вот и Гарри! Гарри, я пришла к тебе, чтобы о чем-то спросить – уж и не помню, о чем именно, – и встретилась с мистером Греем. Мы так славно поболтали о музыке. Наши мнения полностью совпадают. Или нет, они кардинально расходятся. Но он был совершенно очарователен. И я очень рада, что мы познакомились!
– Я счастлив, любовь моя, просто счастлив, – ответил лорд Генри, вскинув свои изогнутые дугой темные брови и глядя на них обоих с веселым удивлением. – Прости, что опоздал, Дориан. Ходил посмотреть на кусок старой парчи на Уордор-стрит[22] и целый час торговался. В наше время люди всегда знают цену, но никогда не понимают ценности.
– К сожалению, мне пора, – воскликнула леди Генри, прервав неловкое молчание внезапным нелепым смешком. – Я обещала поехать кататься с герцогиней. До свидания, мистер Грей. До свидания, Гарри. Полагаю, ты ужинаешь не дома? Я тоже. Быть может, мы с тобой встретимся у леди Торнбери.
– Вполне вероятно, дорогая, – сказал лорд Генри, закрыв за женой дверь, а она, точно райская птичка, всю ночь мокшая под дождем, выпорхнула из комнаты, оставив за собой легкий аромат плюмерии. После чего лорд Генри закурил папиросу и лениво опустился на диван.
– Никогда не женись на женщине с соломенными волосами, Дориан, – сказал он, затянувшись несколько раз.
– Почему, Гарри?
– Потому что они крайне сентиментальны.
– Но я люблю сентиментальных.
– Вообще никогда не женись, Дориан. Мужчины вступают в брак от скуки, женщины – из любопытства. И те, и другие неизменно разочаровываются.
– Я не уверен, что хочу жениться, Генри. Для этого я слишком влюблен. Это один из твоих афоризмов. Я проверяю его на практике, как и все, что ты говоришь.
– И в кого же? – помолчав, спросил лорд Генри.
– В актрису, – ответил Дориан Грей, покраснев.
Лорд Генри пожал плечами:
– Начало весьма тривиальное.
– Ты бы так не говорил, если бы ее видел, Гарри.
– Так кто же она?
– Ее зовут Сибил Вейн.
– Никогда о такой не слышал.
– Никто не слышал. Но придет день, когда услышат все. Она гениальна.
– Мой дорогой мальчик, женщина не может быть гением. Женщины – декоративный пол. Обыкновенно сказать им нечего, но говорят они с исключительным очарованием. Женщины представляют собою победу материи над сознанием, а мужчины – победу сознания над нравственностью.
– Гарри, ну как ты можешь?
– Мой дорогой Дориан, это правда. Сейчас я как раз исследую женщин, так что кому, как не мне, их знать. Предмет моего изучения не настолько замысловат, как мне думалось поначалу. Я выяснил, что в конечном счете существует два типа женщин – бесцветные и яркие. Бесцветные очень полезны. Если желаешь завоевать репутацию респектабельного человека, достаточно явиться с такой дамой на ужин. Яркие женщины обворожительны, однако совершают одну ошибку. Они красятся, чтобы казаться моложе. Наши бабушки красились, чтобы сделаться блестящими собеседницами. Rouge[23] и esprit[24] шли рука об руку. Теперь все иначе. Если женщина выглядит на десять лет моложе собственной дочери, ей уже больше ничего не нужно. Что до бесед, то в Лондоне есть лишь пять женщин, с которыми стоит поговорить, да и то двух из этих пяти не пустят в приличное общество. Однако ж расскажи мне о своем гении. Как давно вы знакомы?
– Ах, Гарри, твои взгляды приводят меня в ужас!
– Не обращай внимания. Ты давно ее знаешь?
– Недели три.
– И где ты с ней познакомился?
– Я расскажу тебе, Гарри, только не будь таким черствым. В конце концов, этого бы не произошло, не встреть я тебя. Ты внушил мне безудержное желание познать в жизни все. После нашей встречи несколько дней кровь во мне так и бурлила. Сидя ли в парке, прохаживаясь ли по Пикадилли, я смотрел на каждого встречного и, понуждаемый безумным любопытством, пытался представить себе, как живет тот или иной человек. Одни меня завораживали. Другие ужасали. Воздух был наполнен сладостной отравой, и я страстно жаждал новых ощущений… Так вот, однажды вечером, около семи, я твердо решил отправиться на поиски какого-нибудь приключения. Я чувствовал, что наш серый, чудовищный Лондон с великим множеством жителей, с гнусными грешниками и восхитительными грехами, как ты однажды выразился, должен дать мне именно то, что нужно. Я воображал самые разные события, и даже опасность наполняла меня радостью. Я помнил, как ты сказал мне в тот чудесный вечер, когда мы впервые ужинали вместе, что истинный секрет жизни таится в поиске красоты. Не знаю, что именно я ожидал, но пошел я в восточную часть города и вскоре заплутал в лабиринте грязных улиц и черных скверов без единой травинки. Примерно в половине девятого я оказался рядом с нелепым театриком с огромными пылающими газовыми рожками и кричащими афишами. У входа стоял мерзкий еврей в самой удивительной жилетке, какую мне приходилось видеть, и курил зловонную сигару. Сальные пейсы и огромный алмаз, сиявший в центре грязной рубашки, довершали картину. «Не угодно ли билет в ложу, милорд?» – предложил он, заметив меня, и снял шляпу с исключительно подобострастным видом. Было в нем что-то такое, Гарри, что показалось мне забавным. Эдакое чудище! Знаю, ты будешь надо мной смеяться, но я вошел внутрь и отдал целую гинею за ложу. До сих пор не понимаю, почему я так поступил. Однако, если бы я прошел мимо… Дорогой Гарри, если бы я прошел мимо, то не встретился бы с величайшей любовью своей жизни. Вижу, ты смеешься. Как это дурно с твоей стороны!
– Я не смеюсь, Дориан. Во всяком случае, не смеюсь над тобой. Но и тебе не следовало говорить о величайшей любви в своей жизни. Тебя всегда будут любить, и ты сам всегда будешь влюблен в любовь. Grande passion[25] – привилегия тех, кому больше нечем заняться. Она случается у самых ленивых классов общества. Не пугайся. Для тебя в запасе у жизни найдутся и другие прелестные вещи. Это всего лишь начало.
– Ты считаешь, что я способен только на мелкие чувства? – разозлившись, воскликнул Дориан.
– Наоборот, на глубокие.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Мой милый мальчик, те, кто любят один раз в жизни, как раз и способны лишь на мелкие чувства. Я бы назвал это летаргией привычки или недостатком воображения. Верность в эмоциональной сфере – то же самое, что постоянство в сфере интеллектуальной, иными словами, просто признание поражения. Верность! Пожалуй, на досуге я о ней поразмыслю. В верности есть страсть обладания собственностью. Мы выбросили бы множество вещей, если бы не боязнь, что их кто-нибудь подберет. Но не хочу тебя прерывать. Рассказывай, что было дальше.
– Итак, я оказался в жуткой маленькой ложе у сцены, прямо передо мной маячил аляповатый занавес. Развернувшись, я осмотрел зал. Безвкусное и дешевое помещение с купидонами и рогами изобилия было похоже на третьесортный свадебный торт. Галерка и места за креслами были почти заполнены, а два ряда обшарпанных кресел стояли пустыми. И едва ли кто-то сидел на тех местах, которые у них, по-видимому, назывались бельэтажем. Женщины угощались апельсинами и имбирным пивом, и все кругом грызли орешки.
– Вероятно, таков был театр в период расцвета английской драмы.
– Полагаю, что да. И он подействовал на меня удручающе. Я уже начал спрашивать себя, что же мне теперь делать, но тут заметил афишу. И какую же пьесу играли – как ты думаешь, Гарри?
– Наверное, «Мальчик-идиот, или Тупой, но невинный». Кажется, нашим отцам нравились подобного рода представления. Чем больше живу, тем острее чувствую, что то, что было хорошо для наших отцов, нам уже не годится. В искусстве, как и в политике, les grandpères ont toujours tort[26].
– Эта пьеса нам бы вполне подошла, Гарри. Давали «Ромео и Джульетту». Должен признать, мне было досадно, что придется смотреть Шекспира в столь жалкой дыре. Но в каком-то смысле даже интересно. В любом случае я решил дождаться первого действия. Оркестр играл отвратительно, вторя звукам, извлекаемым молодым иудеем из расстроенного рояля. Я чуть было не сбежал, но наконец занавес поднялся и начался спектакль. Пожилой тучный господин с подведенными жженой пробкой бровями и с хриплым трагическим голосом, своей комплекцией напоминавший пивную бочку, изображал Ромео. Меркуцио был немногим лучше. Его играл клоун, который вставлял в пьесу собственные шуточки и был на дружеской ноге с той частью публики, что занимала места за креслами. Оба они имели гротескный вид, как, впрочем, и декорации, какие обычно украшают деревенский балаган. Но Джульетта! Гарри, представь себе девушку, которой едва ли исполнилось семнадцать, миниатюрное, нежное, как цветок, лицо, греческую головку с заплетенными в косу вьющимися темно-каштановыми волосами, глаза цвета фиалок, в которых живет глубочайшее чувство, и губы, подобные лепесткам роз. Я в жизни не видел никого прекраснее! Ты как-то раз сказал мне, что чрезмерные восторги тебя не трогают, но что красота, одна лишь красота может наполнить твои глаза слезами. Поверь мне, Гарри, я с трудом смотрел на нее из-за слез, затуманивших мой взор. А голос! Я никогда не слышал ничего подобного! Поначалу он звучал очень тихо, и его глубокие, нежные ноты одна за другой вливались в мое сознание. Потом она запела чуть громче, как будто заиграла флейта или далекий гобой. А в сцене в саду в голосе уже трепетал тот восторг, который в предрассветный час наполняет пение соловья. Позднее были моменты, когда в нем вскипала неистовая страсть виоль д’амур[27]. Ты же знаешь, как может потрясти голос. Ваши два голоса – твой и Сибил Вейн – я не забуду никогда. Они слышатся мне, если я закрываю глаза, и каждый говорит что-то свое. Но я не знаю, за которым из них идти. Почему мне не следует ее любить? Гарри, я люблю ее! Она для меня все. Каждый вечер я хожу смотреть на ее игру. То она Розалинда, то Имогена[28]. Я видел, как она умирает во мраке итальянского склепа, как пьет яд из уст возлюбленного. Смотрел, как она бродит по Арденскому лесу, переодевшись хорошеньким мальчиком в чулках-шоссах, дублете[29] и изящной шапочке. Она впадала в безумие, представала перед преступным королем, предлагала ему носить цветок руты и отведать горькие травы. Она была невинной жертвой[30], и черные руки ревности стискивали ее тонкое, как тростник, горло. Я видел ее в разные эпохи и в разных костюмах. Обычные женщины не дают пищу воображению. Они ограничены своим веком и не подвержены волшебным превращениям. Их мысли известны нам так же хорошо, как их шляпки. Зачем искать таких женщин? Ни в одной из них не скрывается тайны. По утрам они катаются в парке, днем судачат за чашкой чая. У них всегда наготове дежурная улыбка и светские манеры. Они банальны. Иное дело – актриса! Она совершенно не такая! Гарри, почему ты мне никогда не говорил, что только актриса достойна любви?