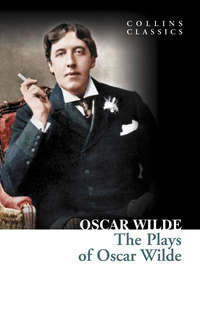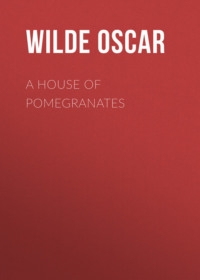Полная версия
Портрет Дориана Грея
При этой мысли острая боль, как нож, пронзила его, заставив трепетать нежные струны души. Его глаза потемнели, сделались аметистовыми и затуманились слезами. На грудь ему словно легла чья-то ледяная рука.
– Неужели тебе не нравится? – наконец воскликнул Холлуорд, немного уязвленный молчанием юноши и не понимающий, что оно означает.
– Конечно, нравится, – ответил вместо Дориана лорд Генри. – Разве такой портрет может не понравиться? Это одно из величайших произведений современного искусства. Я дам тебе за него, сколько скажешь. Мне просто необходимо его иметь.
– Картина мне не принадлежит, Гарри.
– Кому же тогда?
– Дориану, разумеется, – ответил художник.
– Так вот кому повезло!
– Как печально! – пробормотал Дориан Грей, не отрывая глаз от собственного портрета. – Как печально! Я состарюсь, буду страшным, уродливым. А этот человек на портрете навечно останется молодым. Ему всегда будет столько же лет, сколько мне в сегодняшний июньский день… Вот бы случилось все наоборот! Вот если бы я оставался молодым, а портрет бы старился! Я бы… я бы всё за это отдал! Да-да, отдал бы что угодно! Даже свою душу!
– Ты едва ли согласился бы на такое предложение, Бэзил, – рассмеялся лорд Генри. – Твою работу ждала бы печальная судьба.
– Да, Гарри, я бы очень сильно возражал, – подтвердил Холлуорд.
Дориан Грей обернулся и посмотрел на художника.
– Не сомневаюсь, Бэзил. Ты любишь свое искусство сильнее, чем друзей. Я значу для тебя не больше, чем какая-нибудь позеленевшая бронзовая статуэтка. А может, и того меньше.
Художник в изумлении посмотрел на Дориана. Такие речи были на него совершенно не похожи. Что произошло? Юноша явно разозлен, он покраснел, щеки его пылают.
– Да, – продолжал Дориан, – я значу для тебя меньше, чем твой Гермес из слоновой кости или серебряный фавн. Их-то ты всегда будешь любить. А сколько ты будешь любить меня? Наверное, до моей первой морщинки. Теперь я знаю, что, теряя красивую внешность, как бы кто ни понимал красоту, человек теряет все. Меня этому научила твоя картина. Лорд Уоттон абсолютно прав. Юность – единственное, что стоит ценить. Когда я замечу, что старею, я покончу с собой.
Холлуорд побледнел и схватил его за руку.
– Дориан! Дориан! – воскликнул он. – Не говори так. У меня никогда не было и никогда не будет такого друга, как ты. Ты же не можешь ревновать меня к вещам, правда? Ты, который красивее их всех!
– Я ревную ко всему, чья красота не умирает. Я ревную к портрету, который ты написал. Почему он должен хранить то, что я обречен потерять? Каждое проходящее мгновение забирает что-то у меня и отдает ему. О, если бы все было наоборот! Если бы менялся портрет, а я всегда оставался бы таким, как сейчас! Зачем ты его создал? Придет день, когда он начнет глумиться надо мной – ужасно глумиться!
Глаза юноши наполнились горючими слезами. Он отдернул руку, кинулся на оттоманку и зарылся лицом в подушки, словно моля о чем-то.
– Это твоих рук дело, Гарри, – с горечью произнес художник.
Лорд Генри пожал плечами:
– Перед тобой настоящий Дориан Грей – вот и всё.
– Неправда.
– А если неправда, тогда при чем здесь я?
– Тебе следовало уйти, когда я попросил, – проворчал художник.
– Я остался, когда ты попросил, – был ему ответ.
– Гарри, я не могу спорить сразу с двумя своими лучшими друзьями, но вы оба заставили меня возненавидеть самую прекрасную работу из всех, что я создал. И я ее уничтожу. Что она такое? Всего лишь холст и краски! Я не дам ей встать у нас на пути и испортить три жизни.
Дориан Грей поднял с подушки свою златокудрую голову и, бледный, с заплаканными глазами, посмотрел на Холлуорда, который направился к дощатому рабочему столу, стоявшему у высокого занавешенного окна. Что он там делает? Пальцы художника что-то ищут среди выброшенных пустых тюбиков и сухих кистей. Да, ему нужен длинный мастихин с лопаткой из гибкой стали. Вот мастихин уже найден. Художник собирается распороть холст.
Едва сдерживая рыдания, юноша спрыгнул с оттоманки, бросился к Холлуорду и, вырвав у него из рук мастихин, швырнул его в другой конец мастерской.
– Нет, Бэзил, нет! – закричал он. – Это будет убийство.
– Я рад, что ты наконец оценил мою работу, Дориан, – холодно сказал художник, придя в себя от неожиданности. – Я уж думал, этого никогда не случится.
– Оценил? Да я влюбился в нее, Бэзил. Она часть меня самого. Я чувствую.
– В таком случае, как только краски высохнут, тебя покроют лаком, вставят в раму и отправят к тебе домой. И тогда ты сможешь делать с собой что пожелаешь.
Холлуорд пересек мастерскую и позвонил, чтобы подавали чай.
– Ты, конечно, выпьешь чаю, Дориан? А ты, Гарри? Или тебя не прельщают простые радости?
– Я обожаю простые радости, – ответил лорд Генри. – Они последнее прибежище сложных натур. Но я не терплю сцен. Разве только в театре. Какие вы нелепые создания – и тот, и другой! Интересно, кому пришло в голову, что человек – это разумное животное? Самое скоропалительное суждение из всех! Человек бывает очень разный, но только не разумный. И я даже рад, что это так. Хотя мне не хочется, чтобы вы поссорились из-за картины. Будет гораздо лучше, Бэзил, если ты уступишь ее мне. Этому глупому мальчику она, в общем-то, ни к чему, мне же, напротив, нужна.
– Если ты отдашь ее кому-то другому, Бэзил, я тебя никогда не прощу! – воскликнул Дориан Грей. – И я не позволю называть себя «глупым мальчиком».
– Ты прекрасно знаешь, что картина твоя, Дориан. Я подарил ее тебе еще до того, как написал.
– И вы также знаете, что вели себя несколько глупо, мистер Грей, и что обычно не особенно возражаете, когда вам напоминают о вашей молодости.
– Сегодня утром мне следовало гораздо больше возражать вам, лорд Генри.
– Ах, утром! С тех пор вы многое успели пережить.
Раздался стук в дверь, вошел лакей с чайным подносом и поставил его на японский столик. Послышался звон чашек и блюдец и шипение рифленого грегорианского чайника с кипятком. Мальчик-слуга принес два круглых китайских блюда. Дориан Грей подошел к столику и стал разливать чай. Двое приятелей лениво приблизились к нему и принялись разглядывать, что лежит под крышками.
– Давайте пойдем вечером в театр, – предложил лорд Генри. – Наверняка где-нибудь что-нибудь идет. Я обещал быть к ужину в «Уайте»[7], но меня там ждет всего лишь один старый друг, так что я могу телеграфировать ему, что заболел или что лишен возможности прийти в связи с последующей встречей. Пожалуй, это будет самое подходящее объяснение, поскольку поразит его своей откровенностью.
– Терпеть не могу носить фрак, – пробормотал Холлуорд. – А когда его все же наденешь, он так мерзко выглядит.
– Да, – задумчиво отозвался лорд Генри. – Наряды девятнадцатого века отвратительны. Они такие мрачные и гнетущие! Один лишь грех остается поистине ярким явлением современной жизни.
– Право же, Генри, ты не должен говорить подобные вещи при Дориане.
– При каком Дориане? При том, который разливает нам чай, или при том, что на портрете?
– Перед обоими.
– Я бы пошел с вами в театр, лорд Генри, – сказал юноша.
– В таком случае пойдем. Ты составишь нам компанию, Бэзил?
– Скорее всего, у меня не получится. Пожалуй, нет. Много работы.
– Тогда мы с вами пойдем вдвоем, мистер Грей.
– Буду ужасно рад.
Художник закусил губу и с чашкой в руке приблизился к картине.
– Я останусь с настоящим Дорианом, – грустно сказал он.
– Так, значит, это настоящий Дориан? – воскликнул оригинал, с которого был писан портрет, и неспешно подошел к художнику. – Неужели я и впрямь такой?
– Да, именно такой.
– Как это чудно, Бэзил!
– По крайней мере, внешне ты на него похож. А он не изменится, – вздохнул Холлуорд. – Это кое-что да значит.
– Отчего люди так превозносят верность? – воскликнул лорд Генри. – Даже в любви это лишь вопрос физиологии. Верность не имеет никакого отношения к проявлению нашей воли. Молодые люди хотят быть верными, но у них не получается. Старики хотят изменять, но не могут. О чем еще говорить?
– Не ходи сегодня в театр, Дориан, – попросил Холлуорд. – Останься и поужинай со мной.
– Не могу, Бэзил.
– Почему?
– Потому что я обещал лорду Генри, что пойду с ним.
– Если ты сдержишь обещание, он не станет думать о тебе лучше. Сам он свои обещания никогда не выполняет. Прошу тебя, не ходи.
Дориан Грей рассмеялся и покачал головой.
– Умоляю тебя.
Юноша в сомнении посмотрел на лорда Генри, который наблюдал за ними, сидя у чайного столика с довольной улыбкой.
– Но я должен пойти, – ответил Дориан.
– Что ж, хорошо, – сказал Холлуорд, подойдя к столику и поставив на поднос чашку. – Уже довольно поздно, а так как тебе надо переодеться, не стоит терять время. До свидания, Гарри. До свидания, Дориан. Приходи поскорее. Хоть завтра.
– Непременно.
– Ты не забудешь?
– Разумеется, нет, – воскликнул Дориан.
– И вот что… Гарри!
– Да, Бэзил?
– Ты помнишь, о чем я тебя попросил сегодня утром в саду?
– Нет, забыл.
– Я доверяю тебе.
– Хотел бы я доверять сам себе! – смеясь, ответил лорд Генри. – Пойдемте, мистер Грей, мой экипаж ждет. Я могу подвезти вас. До свидания, Бэзил. Денек выдался весьма интересный.
Когда за ними закрылась дверь, художник бросился на оттоманку, и лицо его исказилось от боли.
Глава третья

На следующий день в половине первого лорд Генри Уоттон, не торопясь, шел по Керзон-стрит в направлении Олбани, чтобы навестить своего дядюшку, лорда Фермора, добродушного, хоть и немного грубоватого старого холостяка, которого более широкое общество считало эгоистичным, поскольку никакой пользы от него не получало, и который слыл щедрым в светском кругу, ибо кормил тех, кто его развлекал. Его отец служил нашим послом в Мадриде, когда Изабелла[8] была еще совсем юной, а о Приме[9] никто не слышал. Но поскольку ему не предложили возглавить посольство в Париже, он, не стерпев обиду, оставил дипломатическую службу, ибо полагал, что полностью соответствует должности посла благодаря своему происхождению, склонности к безделью, прекрасному английскому языку посылаемых на родину депеш и неумеренной тяге к удовольствиям. Сын, исполнявший обязанности отцовского секретаря, подал прошение об отставке вместе со своим начальником, что некоторые сочли тогда глупостью, и, унаследовав титул несколько месяцев спустя, посвятил себя серьезному изучению великого искусства аристократии – пребывания в полнейшей праздности. У него было два больших городских дома, но он предпочитал жить в меблированных комнатах, поскольку с ними меньше возни. Ел он в основном в клубе. Некоторое внимание уделял управлению своими шахтами в центральных графствах Англии, находя оправдание этому «индустриальному» пороку в том, что добыча угля позволяет джентльмену со всей благопристойностью жечь в собственном камине дрова. В политике он был тори, но только не в те годы, когда тори находились у власти. В этом случае он без всякого снисхождения клеймил их как свору радикалов. Для своего камердинера он был кумиром, однако тот спуску ему не давал, а для большинства родных, которым сам лорд не давал спуску, – сущим кошмаром. Такого человека могла породить только Англия. Впрочем, он не уставал повторять, что страна катится ко всем чертям. Его принципы отличались старомодностью, при этом немало можно сказать в защиту его предрассудков.
Когда лорд Генри вошел в комнату, его дядюшка сидел в грубой охотничьей куртке, курил манильскую сигару и с ворчанием читал «Таймс».
– Итак, Гарри, – сказал старый джентльмен, – что привело тебя в такую рань? Я думал, вы, денди, не встаете раньше двух и не появляетесь на людях раньше пяти.
– Исключительно семейные чувства, уверяю вас, дядя Джордж. Мне от вас кое-что понадобилось.
– Деньги, не иначе, – сказал лорд Фермор с кислой миной. – Что ж, садись и расскажи, в чем дело. Современные молодые люди считают, что деньги – это всё.
– Да, – негромко проговорил лорд Генри, поправляя цветок в петлице, – а состарившись, они знают это наверняка. Но я пришел не за деньгами. Деньги нужны лишь тем, кто платит по счетам, дядюшка, а я никогда не плачу. Капитал младшего сына – это кредит, на него можно прекрасно жить. Кроме того, я имею дело только с поставщиками Дартмура, поэтому мне они не досаждают. Я хочу получить от вас информацию. Разумеется, не полезную, а бесполезную.
– Я могу рассказать тебе все, что написано в Синей книге[10], Гарри, хотя в наше время там пишут полнейшую чепуху. Когда я состоял на дипломатической службе, дела шли намного лучше. Говорят, теперь туда назначают по результатам экзамена. Так чего ж еще ждать? Экзамен, сэр, – это одна сплошная болтовня. Если человек джентльмен, он и так знает достаточно, а если нет, то все его знания идут во вред.
– Мистера Дориана Грея нет в Синей книге, дядя Джордж, – лениво протянул лорд Генри.
– Мистера Дориана Грея? Кто он такой? – спросил лорд Фермор, сдвинув седые косматые брови.
– Вот это я и пришел узнать, дядя Джордж. Вернее, я знаю, кто он такой. Он последний внук лорда Келсо. Его мать происходила из семьи Девероу, леди Маргарет Девероу. Расскажите мне о его матери. Какая она была? За кого вышла замуж? В свое время вы знали почти всех, а следовательно, наверняка с ней встречались. Меня сейчас очень интересует мистер Грей. Мы только что познакомились.
– Внук Келсо! – воскликнул старый джентльмен. – Внук Келсо!.. Как же, как же!.. Я хорошо знал его мать. Кажется, даже присутствовал на ее крестинах. Маргарет Девероу была поразительно красивой девушкой. Все мужчины с ума сошли, сэр, когда она сбежала с тем пареньком без гроша за душой, без положения в обществе, каким-то младшим офицером вроде бы из пехотного полка. Такое не забудешь! Я все помню, точно это было вчера. Беднягу убили на дуэли в Спа всего через несколько месяцев после свадьбы. Препоганая история. Говорили, что Келсо нанял какого-то гнусного авантюриста, проходимца-бельгийца, чтобы тот прилюдно оскорбил его зятя. Заплатил ему, сэр, хорошо заплатил. И этот бельгиец насадил паренька на шпагу, как голубя на вертел. Дело замяли, но, ей-богу, потом в клубе Келсо долго ел свой бифштекс в одиночестве. Дочь он вернул домой. Мне рассказывали, что с тех пор она больше никогда с ним не разговаривала. Да, дрянное это было дело. Девушка тоже умерла. Через год. Выходит, остался сын, да? Об этом я позабыл. Каков же он теперь? Если пошел в мать, то должен быть прехорошенький.
– Он очень красив, – ответил лорд Генри.
– Надеюсь, парень попадет в надежные руки, – продолжал старик. – У него должно быть приличное наследство, если Келсо повел себя с ним по совести. У его матери тоже было большое состояние. Ей от деда досталось поместье Сэлби. Дед ненавидел Келсо, считал его скрягой. И правильно делал. Однажды в мою бытность в Мадриде туда приехал Келсо. И я из-за него, ей-богу, горел со стыда. Королева не раз спрашивала меня, кто этот английский аристократ, который вечно торгуется с извозчиком. Да уж, подняли они его там на смех. Я месяц не осмеливался показаться при дворе. Надеюсь, он отнесся к внуку лучше, чем к кучерам.
– Не знаю, – ответил лорд Генри. – Думаю, мальчик будет при деньгах. Пока он несовершеннолетний. Владеет Сэлби. Это я знаю от него. Так что же… его мать действительно была очень красивой?
– Маргарет Девероу была одним из прекраснейших созданий, каких мне довелось видеть в жизни, Гарри. Как ее угораздило так поступить, ума не приложу. Она могла выйти за кого угодно. Карлингтон сходил по ней с ума. Впрочем, она была натурой романтической. У них в семье все женщины такие. Мужчины никуда не годились, но женщины были потрясающие. Карлингтон умолял ее на коленях. Сам мне рассказывал. Но она только смеялась. А в Карлингтона тогда были влюблены все девушки Лондона. Кстати, Гарри, по поводу бестолковых браков. Что за вздор рассказывает твой отец, будто Дартмур собрался жениться на американке? Выходит, английские девушки для него недостаточно хороши?
– Нынче в моде жениться на американках, дядя Джордж.
– Я ставлю на англичанок, даже если против них весь мир, Гарри! – заявил лорд Фермор, стукнув кулаком по столу.
– Но на американок ставки выше.
– Говорят, они долго не выдерживают, – проворчал дядюшка.
– Они плохо переносят длительную помолвку, но хороши в скачках с препятствиями. Преодолевают на лету. Не думаю, что у Дартмура есть шанс спастись.
– Из какой она семьи? – пробурчал старый джентльмен. – Да и вообще, семья-то имеется?
Лорд Генри покачал головой.
– Американки так же ловко умеют скрывать свою семью, как англичанки – свое прошлое, – ответил он, поднимаясь, чтобы уйти.
– Заготовители свинины, наверное?
– Надеюсь, что так, дядя Джордж, ради бедолаги Дартмура. Говорят, что в Америке заготовка свинины – самое прибыльное дело после политики.
– Девица хорошенькая?
– Ведет себя, как будто она красавица, что присуще большинству американок. В этом секрет их очарования.
– И чего этим американкам дома не сидится? Они нас без конца уверяют, что их страна – рай для женщин.
– Так и есть. И как раз по этой причине они, как Ева, ужасно хотят вырваться оттуда, – сказал лорд Генри. – До свидания, дядя Джордж. Опоздаю к обеду, если еще задержусь. Спасибо, что дали мне сведения, о которых я просил. Мне всегда хочется знать все о своих новых знакомых и не хочется ничего знать о старых.
– Где ты обедаешь, Гарри?
– У тетушки Агаты. Я попросил ее пригласить нас с мистером Греем. Он ее последний протеже.
– Хм! Скажи своей тете Агате, Гарри, чтобы больше не беспокоила меня своими призывами к благотворительности. Надоело. Эта милая женщина, похоже, решила, что мне больше нечего делать, кроме как выписывать чеки на ее глупейшие фантазии.
– Хорошо, дядя Джордж, передам, только едва ли это приведет к результату. Филантропы абсолютно лишены человеколюбия. Это их отличительная черта.
Старый джентльмен проворчал что-то одобрительное и позвонил слуге. Лорд Генри вышел и, пройдя через невысокую аркаду, оказался на Берлингтон-стрит. Оттуда он направился к Беркли-скверу.
Так вот, значит, какова история семьи Дориана Грея. Хоть и рассказанная в общих чертах, она взволновала лорда Генри ореолом неожиданной, почти современной романтичности. Ради безумной страсти молодая женщина решилась на все. Но нескольким восхитительным неделям счастья был положен конец подлым и гнусным преступлением. Потом несколько месяцев молчаливой агонии и рожденный в муках ребенок. Мать уходит в чертоги смерти, мальчик остается один на милость бессердечного деда-тирана. Да, интересное происхождение. Оно делает образ юноши еще рельефнее, еще совершеннее. За любой изысканной вещью непременно таится что-то трагическое. Миры должны претерпеть родовые муки, дабы расцвел даже самый маленький цветок… А как очарователен был этот мальчик за ужином в клубе накануне, когда сидел напротив лорда Генри с удивленными глазами и полуоткрытым ртом, словно испугавшись доступности наслаждения, и отсвет от красных абажуров делал румянец на его чудесном, пробуждающемся к жизни лице еще ярче! Разговаривать с ним было все равно что играть на нежнейшей скрипке. Он отвечал на каждое касание, каждое дрожание смычка… Было что-то захватывающее в таком влиянии. Оно ни с чем не может сравниться. Посылать в некую прекрасную оболочку частицу своей души и позволять ей какое-то мгновение пребывать там; слышать, как к тебе возвращаются твои собственные мысли, окрашенные музыкой страсти и молодости; передавать другому свой темперамент тончайшими флюидами, подобными аромату редких духов, – все это вызывало у лорда Генри истинную радость, возможно, самую большую радость, которую сохранил для нас наш век – век столь ограниченный и пошлый, столь грубый в своих удовольствиях и убийственно примитивный в своих устремлениях… Мальчик, встреченный им по прихоти судьбы в мастерской Бэзила, – какой это замечательный тип! Или же из него, по крайней мере, можно вылепить замечательный тип. В нем есть изящество, белоснежная чистота юности и та красота, которая до сих пор живет в мраморе греческих скульптур. Из него можно вылепить что угодно – титана или игрушку. Жаль, что такой красоте суждено увянуть!.. А Бэзил? До чего же он интересен с психологической точки зрения! Новая манера в искусстве, свежий взгляд на жизнь, странно подсказанные одним лишь присутствием человека, ни о чем не подозревающего. Молчаливый дух, обитавший в сумрачном лесу, вдруг вышел, невидимый, в открытое поле и, не боясь, словно дриада, явил себя миру, ибо в душе художника, искавшей его, возникло то единственное чудесное видение, где раскрываются удивительные вещи, и сами формы и образы вещей стали, если угодно, определеннее и обрели некую символическую ценность, как будто оказались прообразами иной, более совершенной формы, смутные очертания которой они превратили в реальность. Как все это удивительно! Он вспомнил, что о чем-то подобном уже говорилось в истории. Не был ли Платон, этот художник мысли, первым, кто описал сходную картину? Не Буонарроти[11] ли воплотил ее в венке сонетов, словно высеченных из разноцветного мрамора? Но в нашем веке такое кажется странным… Да, он попытается стать для Дориана Грея тем, кем, сам того не осознавая, стал юноша для художника, создавшего его потрясающий портрет. Он будет пытаться влиять на него – в чем отчасти уже преуспел. Он сделает его удивительную душу своею собственностью. Чем-то притягивал его этот мальчик, дитя Любви и Смерти.
Вдруг лорд Генри остановился и взглянул на стоявший рядом дом. Оказалось, он прошел мимо дома тетушки и потому, улыбнувшись, повернул назад. Когда он вошел в мрачноватый холл, дворецкий сообщил, что все уже приступили к обеду. Отдав лакею шляпу и трость, лорд Генри направился в столовую.
– Как всегда, опаздываешь, Гарри, – попеняла ему тетушка, покачав головой.
Он на ходу придумал подходящее объяснение и, усевшись на свободное место рядом с нею, огляделся, чтобы рассмотреть присутствующих. Дориан, чуть покраснев от радости, застенчиво кивнул ему с другого конца стола. Напротив лорда Генри сидела герцогиня Харли, дама на редкость приятного, добродушного нрава, пользовавшаяся любовью всех своих знакомых. Ее внушительные архитектурные пропорции современные историки назвали бы тучностью, если бы речь не шла о герцогине. По правую руку от нее расположился сэр Томас Бердон, член парламента и радикал, который в общественной жизни всецело поддерживал лидера своей партии, однако в частной жизни предпочитал поддерживать искусство лучших поваров, следуя известному мудрому правилу: идейно быть заодно с либералами, но обедать с консерваторами. Место по левую руку от герцогини занимал мистер Эрскин из Тредли, старый джентльмен большого обаяния и образованности, который, однако, приобрел дурную привычку молчать, поскольку, как однажды он объяснил леди Агате, до тридцати лет успел высказать все, что имел поведать миру. Соседкой самого лорда Генри была миссис Ванделер, одна из давнишних подруг тетушки, женщина поистине святая, но одетая так неаккуратно и безвкусно, что напоминала сборник церковных гимнов с обтрепанным корешком. К счастью, по другую сторону от нее сидел лорд Фодель, чрезвычайно эрудированная посредственность средних лет, с лысиной, которая своей сияющей пустотой напоминала отчет министерства в палате общин. С ним миссис Ванделер беседовала абсолютно искренне, что, как лорд Генри однажды заметил, было непростительной ошибкой – ее допускают все поистине добродетельные люди и никогда не могут от нее полностью избавиться.
– Мы говорим о бедняжке Дартмуре, лорд Генри, – громко сказала герцогиня, приветливо кивнув ему через стол. – Вы думаете, он и вправду женится на этой поразительной молодой женщине?
– Полагаю, она решила сделать ему предложение, герцогиня.
– Какой ужас! – воскликнула леди Агата. – Право же, кто-то должен вмешаться!
– Мне сообщили из самых верных источников, что ее отец держит в Америке галантерейный магазин, – с презрительным видом бросил сэр Томас Бердон.
– Мой дядюшка выдвинул предположение о предприятии по заготовке свинины, сэр Томас.
– Галантерея! Что такое американская галантерея? – воскликнула герцогиня, с удивлением воздев к небу свои большие руки.
– Это американские романы, – ответил лорд Генри и положил себе кусочек куропатки.
Герцогиня не совсем его поняла.
– Не обращайте внимания, дорогая, – прошептала ей леди Агата. – Он никогда не говорит, что думает.
– Когда была открыта Америка… – вступил в разговор радикальный член парламента и принялся нудно перечислять факты, связанные с этим событием.
Как все люди, желающие исчерпывающе изложить суть дела, он исчерпал терпение своих слушателей. Вздохнув, герцогиня решила, что пора воспользоваться своей привилегией и прервать его речь.