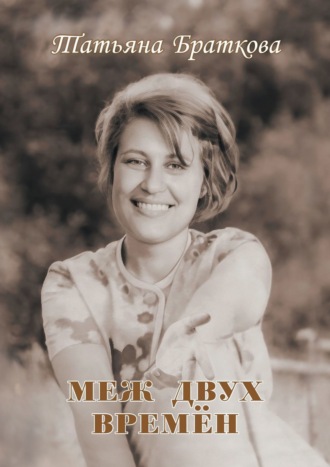
Полная версия
Меж двух времён
– Убей немца! – призывал Илья Эренбург с газетной полосы.
– Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей! – вторил ему Константин Симонов, самый популярный в то время поэт.
И я, совсем ещё дитя, научившееся рано читать, смаковала, как радостную весть, сводку Информбюро: «В ходе боёв за такой-то населённый пункт враг понёс значительные потери в живой силе и технике».
Я не воспринимала эту фразу, как «Убито столько-то человек. Молодых и старых. Злых и добрых…»
Помню, как мы, первоклассницы, девчонки, сбивались в кружок на переменках в школе: «А посадить бы немцев в клетки и возить по стране, и чтоб каждый мог…»
– Плюнуть!
– Пырнуть ножом!
– Выколоть глаза!
И совершенно соответствовал нашим чувствам призыв, ежедневно звучащий из черной тарелки репродуктора: «Смерть немецким оккупантам!»
Вернее, это наши чувства уже вполне ему соответствовали.
А потом в сводках замелькали названия немецких городов. И родился иной, как теперь сказали бы, «слоган»: «Не забудем, не простим». Пожалуй, последний, проросший из того «остервенения народа», которое заканчивается, когда одержана Победа.
Да, пожалуй, не забудем. Во всяком случае, пока будут живы не только сами участники той войны, но и те, для кого она стала собственным, личным воспоминанием, а не шагнула с экрана телевизора. Но у этого «слогана» есть вторая «составляющая»: не простим.
Простили.
Поверили, что немцы сами ужаснулись, увидев, куда их завели мечтания вождей Третьего рейха?
Приняли их покаяние, начавшееся с Нюрнберга и продолжающееся, по существу, в разных формах по сей день?
Есть такая пословица: «Победителей не судят». А побеждённых? Есть еще такое выражение: «Горе побеждённым». Развязавшим войну предстояло за всё ответить. Убеждённым фашистам. Эсэсовцам. Гестаповцам.
Спросить с той же силой ненависти с рядовых солдат? С мирных обывателей?
Мне рассказывал один пожилой человек, актёр. Их фронтовая агитбригада следовала уже по территории Германии за нашими наступающими войсками. Форсировали какую-то речонку на старом, битом грузовичке. И вдруг у обочины дороги выплыл из сумерек плакат. Не немецкий, уже наш, русский. Рисунка никакого не было – только надпись, сделанная явно на скорую руку, но крупно, чтоб и на скорости можно было прочитать: «А твоя мать жива?»
Нетрудно было поддержать ненависть к врагу, пусть уже почти поверженному, в солдате, прошедшем до границы по разгромленной, сожжённой родной земле. Что удержало страну, где почти в каждой семье кого-нибудь унесла война? Что помешало, не дало сорваться на долгие годы в месть и ненависть?
Если честно – не знаю. Наверное, нужно уйти в исследование внешней политики, международных отношений, чтобы понять и это, и то, почему с немцами сейчас отношения ровнее и доброжелательнее, чем с некоторыми «союзниками» – в смысле бывшими братьями по Союзу ССР.
Или это особенность нашего национального характера? Ведь исстари в тех же кулачных боях повелось: в драке – до первой крови, упавшего – не бьют…
Впрочем, у каждого был, наверное, свой путь, чтобы отойти, как от анестезии, от «науки ненависти». О тех, кто прошёл войну и вышел из этого ада живым, сказал почти два века назад французский учёный Лагранж со свойственной математикам лапидарностью, точностью и благодаря этому применимостью ко всем временам: «Раны у победителей заживают быстрее».
В моей жизни случилось событие, которое во многом перевернуло массу моих, казалось бы, сложившихся понятий. Хотя ничего экстраординарного не произошло: просто после долгих хлопот маме удалось перевезти к нам в Москву свою маму, мою бабушку, всю жизнь прожившую в Киеве и повидавшую там много чего, начиная от революции и Гражданской войны и кончая почти двухлетней немецкой оккупацией. Рассказы бабушки и общение с ней повлияли на ряд довольно укоренившихся моих представлений, особенно о недавно закончившейся войне, основой которых, было, конечно, что все немцы – не люди. Вернее, нелюди. Все. Без исключений.
Одну рассказанную бабушкой историю я отдам ей, то есть напишу от первого лица, так, как сама услышала от неё.
– Дом, где я жила последние годы, был старый, даже старинный. До революции он был доходным домом. Стоял в глубине двора, вымощенного булыжником. Я занимала комнату в квартире на третьем этаже. Остальные комнаты были заперты – соседи эвакуировались. На лестничную площадку выходили двери ещё одной квартиры – она вообще была пустая, никто не жил, все уехали. И вот однажды слышу у той двери шевеление какое-то. Глянула в щёлочку – какой-то немолодой мужчина, в штатском, прилично одетый, открывает дверь ключом, по-хозяйски так… Я всех жильцов в той квартире знаю, его никогда не видела… А с ним – Шура, дворничиха наша. Все, кто уезжал, ключи от квартир у неё оставляли. А она так и жила в своей комнатке под лестницей и оставалась во всём доме за главную.
Покивала она мне.
– Вот, говорит, вселили. Какой-то ихний чин на машине привёз. Ну, я решила: в эту квартиру запущу. В остальных-то кто-нибудь да остался ещё.
А сосед новый обернулся, улыбается и вежливо так – мол, буду вашим соседом. По-немецки, конечно…
Ну я ему тоже по-немецки, мол, живите, всё ж живой человек.
Он так обрадовался: «О, фрау по-немецки говорит?»
– Говорит, – отвечаю, – и по-французски тоже. Но хуже.
Так в нашем «теремке» не успевших или не смогших почему-то эвакуироваться, появился новый жилец – немец. Кем он был? Что делал в Киеве? Почему штатский? Я, конечно, не спрашивала. Встречались иногда на лестнице, он всегда шляпу приподнимал, перекинемся парой слов о погоде..
Однажды обнаружила на ручке двери пакет с запиской: «Это для Вас, от чистого сердца». В пакете был сахар. Сладкого чая я не пила уже, наверное, больше года. Сахар на толкучке стоил очень дорого. Продавала я всё подряд, оставшееся от прежней жизни: ложечки, подстаканники, вышитые рушники, что-то из посуды. Могла себе позволить купить какую-нибудь самую дешёвую крупу и подмороженную картошку. Похудела так, что всё на мне болталось. Надвигалась осень сорок четвёртого года. Поползли слухи о том, что наши войска подходят к Киеву. И однажды, когда я закрывала форточку, мне почудился звук далёкой канонады.
А наутро на стенах домов нашей улицы мы обнаружили листки с приказом: всем жителям в течение суток покинуть свои жилища. За неисполнение – расстрел. У них так заведено было: что-то серьёзное или не очень, а за неисполнение всегда расстрел.
А ночью я поняла, что заболела. Простудилась. Долго ли. Ботинки порвались. Ноги промокают. Да и силы уже на исходе. Шутка ли – восьмой десяток уже пошёл. Постоишь на толкучке часа четыре, а потом домой – пешком, полгорода пройти надо…
И такое безразличие вдруг мной овладело. Не пойду, думаю, никуда. Пусть убивают. Пожила, – и хорошо было, и плохо. Хватит.
Сознание, наверное, теряла. В сон проваливалась. В общем, когда в дверь застучали, я словно из-под воды вынырнула. Глаза открыла – темно. Вечер уже. Ну вот, думаю, и смерть моя пришла.
Встала через силу, доползла кое-как до двери. Открыла. А там немец мой стоит.
– Почему Вы не уходите?
А я на ногах еле держусь. Махнула рукой, ушла в комнату. Упала на кровать. Он следом прошёл. Взялся за пульс.
– О, – говорит, – да у вас жар!
Помолчал. Вздохнул.
– Всё равно уходить надо.
– Не пойду, – отвечаю, – никуда. Сил больше нет. Да и желания жить дальше тоже, честно говоря, нет.
Он придвинул стул. Сел.
– У Вас есть родные?
– Есть, – говорю, – только они не здесь, не в Киеве. Дочь с внучкой в Москве жила. Успела дать знать, что уезжают они в эвакуацию, на восток куда-то. Сама ещё не знала, куда. А сын… Сын с вами воюет. С самого начала войны. Он врач. Может, жив ещё…
– А вам есть куда уйти сейчас?
– Господи, да конечно есть. Я же киевлянка коренная. Родилась здесь. Всю жизнь здесь прожила.
Он взял меня за руку, гладит, в лицо заглядывает.
– Прошу вас, встаньте. Я через двор шёл, у вас шторы неплотно задвинуты, увидел свет. У меня сердце упало. Умоляю вас, соберитесь с силами. Я помогу вам. Надо уйти. Утром пойдут по домам. Эсэсовцы. Всех, кого застанут, выведут во двор… А может, прямо здесь, в комнате пристрелят…
Он приблизил своё лицо к моему и почти прошептал:
– Это же не будет продолжаться вечно. Это кончится, обязательно кончится… И вы увидите и сына, и дочь, и внучку. Ну подумайте о ваших близких! Каково им будет узнать, что какая-то солдатня пристрелила вас, как собаку! Что вам нужно взять с собой? Я помогу вам собраться.
Ночь уже отступила, когда мы вышли во двор. Он крепко держал меня под руку. А мне на воздухе почему-то стало лучше. А может быть, потому, что его настойчивость заставила меня преодолеть апатию, безразличие, которое овладело мною, и я поверила, что дойду до следующего квартала, где жила моя хорошая знакомая и где не было на стенах домов этих приказов, кончавшихся словом «расстрел». Почему именно наш квартал был ими обклеен, мне так и не довелось узнать.
– Ну вот, мы почти пришли. Мне вон в тот дом. Спасибо, я дойду сама. Я не знаю, что вы делаете здесь, в Киеве, но одну человеческую жизнь Вы спасли точно. Храни вас Бог!
Я хотела перекрестить его, но он поймал мою руку и припал к ней – щекой, потом губами. И прошептал: «Вы напомнили мне мою мать».
Бабушка поднимает на меня глаза, сохранившие свою яркую голубизну до самой её глубокой старости. Они полны слёз. Я смотрю на неё почти с ужасом.
– И ты представляешь себе, я поцеловала его в лоб…
Не помню лекции, которые мне довелось выслушать в школе, в институте – о патриотизме, о классовой солидарности, об интернациональном воспитании…
Но на всю жизнь врезался в память «бабушкин немец», её рассказ о нём – безыскусный, не претендующий на «формирование моего мировоззрения». И пусть кто-нибудь попытается убедить меня, что есть не дрянные люди, а плохие нации.
ПЕВЗНЕРЭЛЛА
– А теперь, дорогая моя, нам нужен маленький перерыв. Потому что сидим мы с тобой уже… восемь часов. Ну да, полный рабочий день. Без перерыва на обед.
– А сидеть нам с тобой до утра. Сейчас начало первого, и я, естественно, тебя не отпущу.
– А я и не пойду. Но не спать же мы будем. Значит, бутерброд и стакан чаю. Я думаю, достаточно?
Элке точно достаточно. Судя по ее габаритам, она может не есть сутками. Во всяком случае, свой сороковой размер (не на ноге, а на теле) она носит, по-моему, класса с шестого. А знакомы мы уже… м.м.м… Ну да, больше 65 лет. Во всяком случае, в 2003 году мы отпраздновали 60-летие дружбы нашего класса – навеки 10 «Б».
Мы не просто встречаемся все эти годы, прошедшие со дня окончания школы. Мы дружим. Пожалуй, так же, как дружили в школе. Кто-то поближе друг другу, кто-то – подальше. С Элкой, как ни странно, «поближе» мы стали лет 30 назад. В школе были «подальше».
Помню её мокрое лицо, слепые от слез глаза. Я тоже, как в тумане, – редкий случай, сама плачу. Элка, которая при моем весьма среднем, обычном для нашего поколения росте, на голову ниже, со страшной силой трясет меня, вцепившись в лацканы моего жакета, и повторяет, захлебываясь рыданиями: «Ну почему, почему мы не дружили с тобой в школе…»
Я уже ухожу. За спиной в комнате чемоданы, узлы, баулы. Гул голосов. Люди идут вторые сутки. Прощаться. Элка уезжает. Навсегда. В 80-м году это было совсем иначе, чем сейчас. Мы были уверены, что больше не увидимся. Элка была близка к диссидентским кругам. Ей намекнули: для её же блага ей лучше уехать. Муж. Дочь. Правда, почти взрослая. И девятилетний сын. Кто посмеет сказать, что она должна была поступить иначе? Но сердце разрывалось. Наверное, никогда не довелось мне ощутить сильнее – по живому человеку – это страшное вороново «nevermore».
Прошло почти десять лет. Несколько писем, переданных с оказией через верных людей. Элка боялась кого-нибудь из нас «подставить». Собирались классом, читали. В одном из писем она написала для меня: «Будь в мой день рождения у твоей тезки. Я сделаю себе подарок – позвоню». Я знала, где надо быть. Нас собралось несколько человек. И раздался воистину «гром небесный телефонного звонка». Ну что скажешь за минуту? Голос, родной, Элкин – главное. Жива. Есть. Пусть где-то далеко-далеко… Впрочем, времена уже стремительно менялись.
И настал день, когда позвонила Наташа у которой мы всегда собираемся – мы помним эту квартиру со школьных лет.
– В субботу в три. Певзнерэлла приезжает.
Ну вот, наконец-то я «выхожу» на ее имя – конечно, Певзнерэлла, и только так. Элка – совсем редко, будто и не про нее. И в отличие от многих школьных прозвищ – правда, у нас они не были в общем-то в ходу, скорее некие искажения фамилий: Кузя, Фома, Братковина – ясно, да? – которые неведомо, кто первый произнес, Элкин вариант «Певзнерэлла» имеет свое четкое происхождение.
Виктор Данилович появился, когда мы учились во втором классе. Сохранилась первая общая классная фотография. Мы еще, что называется, кто в чем. Обязательной формы пока нет. Элка, вытянувшаяся, как солдатик, по стойке смирно, очевидно, чтобы соответствовать важности и торжественности момента, почему-то обрита наголо (потом у нее будут роскошные каштановые косы). Если бы не эта фотография, лица Виктора Даниловича я бы, конечно, не помнила. Он преподавал у нас предмет, который назывался «военное дело». Да, и у нас в женской школе было тогда военное дело. Война…
Мы маршировали по школьному двору с деревянными муляжами маленьких винтовочек. Я и сейчас сделаю вам «на караул» – винтовка перед собой, или «смирно», когда винтовка у ноги. Учились дружно поворачиваться по команде «на-пра-ву-у!». Неловко, по-девчачьи, от кисти, а не от плеча, как положено, бросали муляжные гранаты, заставляя Виктора Даниловича морщиться, как от боли.
Он мечтал научить нас окапываться – в школьном дворе. Но не было саперных лопаток. Энтузиазм Виктора Даниловича не имел пределов. Он наверняка хоть одну бы да раздобыл, но «окапывание» было пресечено, по-видимому, нашей директрисой, быстро понявшей, во что превратятся наши платьишки, у большинства – единственные. Но теоретически – пожалуйста. На доске рисовались разного вида надолбы, доты и траншеи. Помню веселый ужас одной дачной компании, когда я всего-то лет двадцать тому назад единственная отгадала в кроссворде «вид окопа из четырех букв» – сапа.
Господи, ведь он казался нам взрослым человеком, Виктор Данилович! На фотографии видно – пацан, лет девятнадцати. На рукаве нашивки за ранения: две желтые и красная (кто не знает – большинство! – красная – это тяжелое). Он успел повоевать, этот мальчик, и был, наверное, списан по ранению. Специальности, очевидно, никакой, работать как-то надо. А во всех школах как раз ввели военное дело…
Урок Виктор Данилович начинал с переклички. В классном журнале мы в силу своего мелкого возраста именовались по фамилии и сокращенному имени: Акимцева Люба, Браткова Таня.
– Власова!
Надо было аккуратно подняться, не хлопнув крышкой парты, четко сказать – Я! – и так же аккуратно сесть на место, беззвучно опустив крышку.
– Кузовкина!
– Я!
– Лебедева!
– Я!
Виктор Данилович легко «отсекал» имя от фамилии, пока дело не доходило до Элки. Здесь он ничего не мог с собой поделать.
– Певзнерэлла!
И так на каждом уроке. Все! Элка оказалась обречена. И хотя она уже больше полувека не Певзнер, оказалось – навеки.
– Певзнерэлла приезжает…
Мы сидим давно у стола. Большой, раздвижной, он занимает почти всю комнату. Сегодня сбор «по максимуму». Нет пока только Певзнерэллы.
Звонок.
Мы продолжаем сидеть, замолкнув сразу, как по команде, и глядим друг на друг – потом мы оторали свое, обнимая и тиская Певзнерэллу, – но в первую минуту у всех вдруг ослабли ноги и не было сил встать. Мы не видели ее десять лет, нашего маленького Лазаря, воистину словно вернувшегося из небытия.
А теперь раз в год я снимаю телефонную трубку и…
– Татка! Я здесь…
Только она во всем мире называет меня так. Иногда – очень редко – мама говорила: Татуся.
И конечно, кроме общего сбора, бесконечное счастье бесконечных наших с Певзнерэллой разговоров. И горький опыт эмиграции, и судьбы ее детей и внуков, и всё, что прочитано, увидено, передумано с последней встречи. Как странно… Мы теперь вроде бы так далеко, а с каждым ее приездом все ближе и ближе. Вспоминается отчаянный Элкин крик: «Ну почему, прочему мы с тобой не дружили в школе?». Может быть, в этом есть своя закономерность. Мы шли разными путями, и в какой-то момент пришли в точку, откуда совпадений все больше и больше.
А главное, наверное, то, что мы обе мучительно ищем ответ на один и тот же вопрос: почему мы, девочки из 10-го «Б», получились такие. Сколько я читала воспоминаний о детстве и ранней юности сверстников, интервью всяческих знаменитых людей нашего возраста – порой возникает ощущение, что они жили как бы в другом времени. И школу они будто пролетели на одном дыхании, а вся сознательная жизнь началась уже позже, в институте. Часто встречаются люди, сохранившие навсегда институтское братство. Школьное – почти никогда. Тем более у тех, кто попал в годы раздельного обучения. Да еще в женской школе…
Что было в тех наших годах, что так мощно протянуло свои нити сквозь всю жизнь, что было в том нашем времени, чего не было ни в каком другом.
У меня хорошая память. Я помню очень многое. Певзнерэлла – всё.
И сколько часов провели мы на моей кухне за эти годы, перебирая воспоминания, словно пересыпая горсти драгоценных камней. Где ответ? В этом камушке? Или в этом?
Мы – последние, для кого война – личное воспоминание. Не книги, не фильмы, не рассказы участников и очевидцев. Ну да, мы помним ВСЮ ВОЙНУ, а не только Победу, как те, что всего на три-четыре года моложе. Что это сейчас за разница, мы ощущаем себя ровесницами.
Сталин… Ведь мы же были почти верующими. Это нас переломили резко, через колено. Но мы не сломались. Из нас не получились анпиловские старухи. Значит, что-то иное было заложено в душах еще тогда.
Мы – последнее поколение, воспитанное дореволюционными бабушками.
Мы – единственные из ныне живущих, проучившиеся все десять лет отдельно, в женской школе. Разделили школы в сорок третьем – мы как раз пошли в первый класс. А соединили младшие классы осенью пятьдесят третьего. Мы были уже студентками. Раздельного обучения никогда больше не было. Женских гимназий, существовавших до революции, никто из ныне здравствующих не помнит. Наш опыт – уникален. Тем более, что наша женская средняя школа №613 имени Н.А.Некрасова в общем-то не была похожа на старые гимназии.
Мы – последнее «бестелевизорное» поколение. Мы не просто не смотрели телевизор, как многие из молодых сегодня. Его просто не существовало. Мы читали.
…Мы пересыпаем камушки из ладони в ладонь, и уже неважно, где чья.
– Татка! – Певзнерэлла смотрит на меня в упор своими совсем не еврейскими, зелеными, как крыжовник, глазами. У нее всегда были такие – как у молодой козочки. Иногда казалось, что если присмотреться, и зрачки окажутся, как у козочки, – не круглые, а продолговатые.
– Ты должна об этом написать.
– Певзнерэлла, – вяло сопротивляюсь я, – ведь мы, в общем-то, классические шестидесятники. Всё уже написано…
Она делает головой такое своё, Элкино движение, словно хочет боднуть, что, наверное, и придавало ей всегда еще большее сходство с козочкой.
– Ну да. То-то мы с тобой сидим здесь столько лет… Нет, дорогая моя. Всё не может быть написано никогда. Любой опыт индивидуален и бесценен.
Жоржу Дантону приписывают слова: «Нельзя унести родину на подошвах своих сапог». Он произнес их в ответ на предложение бежать из Франции после того, как Революционный трибунал осудил его на смерть за требование ослабить якобинский террор, заливший кровью всю страну. И тоже нашел свою гибель на гильотине.
Почему мы, никуда не бежавшие, или Элка, уехавшая тридцать лет назад, живем с ощущением, что всю жизнь несем на своих подошвах наше детство, нашу школу, наше братство, – как нашу родину.
У нас разные жизни, несхожие судьбы. Да, детство – общее. Но на одном – «а помнишь?» – почти шестьдесят лет не продержаться. И чем дальше, тем больше мы понимаем: что-то посильнее общих воспоминаний тянется к нам оттуда – из детства, из ранней юности, из школы.
Из нынешних молодых нас мало кто понимает. Мне кажется, нас легко понял бы Пушкин. В стихотворении «19 октября» рядом с широко цитируемыми строками:
Мы можем долго не видеться, но жить друг без друга нам очень трудно. Вернее так: чтобы жить, каждой из нас необходимо сознание, что МЫ – есть.
Вот и Певзнерэлле помогала на чужбине выживать в первые, самые трудные годы эта самая «пыль родины» на подошвах. Не случайно Саша, сын её, которому к моменту отъезда едва сравнялось девять лет, стал в Германии не просто известным немецким поэтом, но и переводчиком русской поэзии. И Пушкина, конечно, тоже. И, кстати, первый переводит рифмованно – до этого Пушкина так никто никогда не переводил: только белым стихом. Может быть, теперь немцы, наконец, поймут, почему Пушкин – «наше всё».
А Певзнерэлла… В городе Дортмунд, где она провела первые двадцать лет эмиграции, в единственном в Германии музее школы, она устроила выставку, посвященную нашим школьным годам. И назвала «Моя школа и Пушкин». Задумала – когда задыхалась. Собрала экспозицию – когда получила возможность приезжать сюда. И мы тащили ей, что сохранилось в шкафах и ящиках письменных столов: дневники, фотографии, тетрадки, сочинения, письма. И надо же – немцы стояли в очередях, чтобы вглядеться в наши лица на фотографиях, рассмотреть исписанные нашими каракулями страницы, где им понятны были, наверное, только даты: 1943 год, 44,45…
Вот куда занесла Певзнерэлла нашу родину на подошвах своих туфелек тридцать второго размера, которые она всегда покупала в магазине «Детский мир».
Друзья мои, прекрасен наш союз!Он как душа, неразделим и веченЕсть другие, менее известные:Ты сохранил в блуждающей судьбеПрекрасных лет первоначальны нравы…КАПРИЗЫ СУДЬБЫ
Нет ничего прекраснее правды,
кажущейся неправдоподобной.
Стефан ЦвейгУвидеть Париж и умереть… Пишу без кавычек – многие годы спустя слова эти превратятся в название фильма, а мое поколение (это нас потом окрестят шестидесятниками) жило с этой мечтой долгие годы. Нет, умирать, конечно, не хотелось. Но пройтись по Елисейским полям, глянуть на город с высоты Эйфелевой башни, постоять под сводами Собора Парижской Богоматери…
После Москвы я лучше всего знала, наверное, Париж. Да и могло ли быть иначе? Как сейчас вижу устало облокотившуюся о кафедру незабвенную Елизавету Петровну Кучборскую, которая все пять лет читала нам на журфаке МГУ иностранную литературу: «А теперь – список обязательной литературы: Стендаль – всё, Флобер – всё, Бальзак – всё».
Нет, Париж – это была даже не мечта. Мечта – всё же что-то в принципе достижимое, какая-то цель, до которой можно дотянуться, приложив огромные, может быть, сверхчеловеческие усилия.
Париж был недостижим аб-со-лют-но!!!
Работала я тогда в одном молодежном журнале. И поэтому частенько приходилось бегать в здание ЦК ВЛКСМ, чтобы визировать у разного ранга комсомольских работников статейки, в которые мы, литсотрудники, регулярно превращали их выступления на всяческих заседаниях, совещаниях и пленумах.
Однажды, было это ранней весной 64-го года, отряхнувшись, как собака, от налипшего на шубейку мокрого снега, я поднялась на верхний этаж. Нет, не самый верхний, конечно. На последнем размещались кабинеты секретарей ЦК ВЛКСМ. Там, выходя из лифта, надо было предъявить специальный пропуск. Мне было этажом пониже. Должности на дверях обозначать было не принято: об этом говорил размер букв на табличке. Миновав двери, расположенные по разные стороны коридора напротив друг друга, на одной из которых было написано крупно ЗАЙЦЕВ (это был зав. отделом), а на другой – помельче – Зайчиков, что свидетельствовало о его ранге – инструктора отдела, и пройдя по умеренно вытертой красной дорожке, я поскреблась в нужную мне дверь, на которой была табличка с буквами средней величины.
– А-а, пресса, привет! – с радостной готовностью оторвался от горы разных бумаг, покрывавших письменный стол, хозяин кабинета. И увял, увидев у меня в руках перепечатанные страницы. – Еще?
– А как же! Выступал же недавно на пленуме в Белгороде, кажется.
– В Воронеже, – вздохнул он. – Ну, давай!
Пробежал глазами протянутые мной странички, привычно заковыристо расписался.

