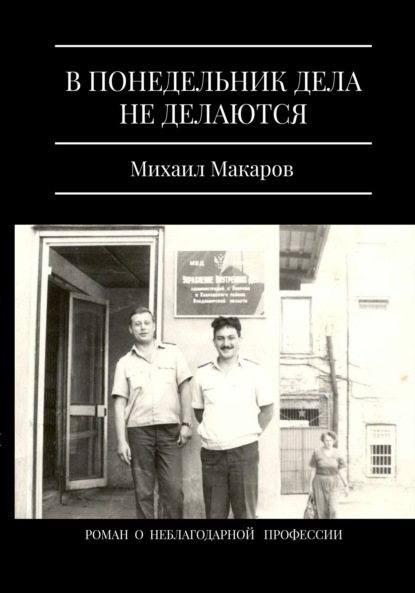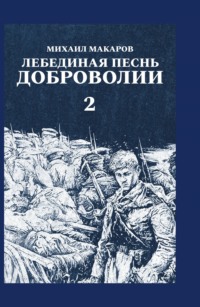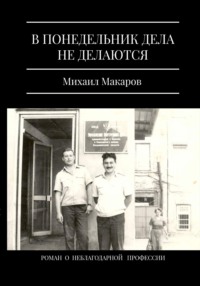Полная версия
Реверс
– Круто, – оценил Кораблёв, похлопал себя по карманам кителя и протянул руку. – Дай сигаретку. Спасибо. С областью говорил?
– Сразу Насущнова по «тройке»[25] набрал. Надзор за милицией – его епархия.
– И чего дядя Коля хорошего сообщил?
– Чего он может сообщить? «Мужики, мужики, – сказал, – Отнеситесь со всей серьёзностью, это не шутки».
– У старика чуйка, дай бог каждому. А в других районах чего помышляют?
– Я больше никому не звонил. Смысл? Они меньше нашего знают. Давай лучше кумекать, чего делать.
– Аркадьич, ты ж понимаешь, что это полный бред, – Саша дотянулся до тяжёлой хрустальной пепельницы, раздавил окурок. – Начальник милиции или замы, когда пачками утверждают отказные, в суть не вникают. Мы никогда не докажем умысел на укрытие, если они его не признают. А они дауны, что ли – признаваться? Для состава двести восемьдесят пятой[26] прямой умысел нужен. После исполнителя ещё начальник службы на постановлении закорючку ставит. С ним как быть? Он, конечно, лицо не процессуальное, но тоже ведомственный контроль осуществляет. Почему у начмила – состав, а у начальника службы – нет? Потом, когда я за ментурой надзирал, всё, что из отказных возбуждалось, было без мухлежа с их стороны. Такого, чтоб они заявителя склонили сумму похищенного занизить или сказать, что пропажа якобы нашлась, я не выявлял. Ты ж знаешь, наша милиция в целом вменяемая…
– Всё ты правильно, Сань, говоришь, только слушать тебя никто не будет, – прокурор грузно уселся в кресле под закреплённым на стене резным двуглавым орлом – творчеством сидельцев «шестой» колонии, расположенной на поднадзорной территории. – Пускай следаки всё бросают и падают на материалы. Слепим, сколько успеем.
– Как это ты себе представляешь? – Кораблёв недобро прищурился. – У Винниченко на следующей неделе – срок по облподсудности. А он за обвиниловку[27] не брался. Там у злодеев стражный срок истекает. Десять месяцев сидят! Нам яйца оторвут, если мы ещё раз с продлением заявимся.
– Сань, а зачем тебе яйца? Наследника ты себе сделал, – Буров попытался свести разговор к шутке.
Кораблёв не склонен был ёрничать, он сверкал глазами и загибал пальцы:
– Вася Максимов – по вчерашнему убийству работает. На показ[28] после обеда собирается, пока жулик[29] не переобулся. Отменить прикажешь? А с чем завтра на арест выходить? Балбес Каблуков – с понедельника в отпуске, за ним долгов по материалам – с середины прошлого года. Самандарова мы с тобой под фээсбэшную наработку бережём. Сам знаешь, на какую рыбину они крючок закинули. Яковлев подтвердил, что реализация завтра стопудово. У неаттестованных вундеркиндов, у каждого на руках не меньше пяти дел, по всем сроки тикают… Гальцев в Питере на учёбе. Конец месяца не за горами. И вместо того, чтобы дела в суд заталкивать, ты предлагаешь гробить время на бессмысленную лабуду. Зашибись…
– Я предлагаю?! – возмутился Аркадьич. – Слушай, Александр Михалыч, тебе не кажется, что ты оборзел в корягу?! Это не я, это прокурор области во исполнение указания Генерального предлагает. И не предлагают они, бляха-муха, приказывают! А за неисполнение грозятся покарать по всей строгости, безо всякой справедливости! Озадачивай личный состав по полной! У Самандарова до реализации сутки, пусть вваливает. Февралёв у нас на следующей неделе выходит? Звони, пускай завтра является, как штык. Прилетел он из своего Египта? Кудряво молодежь живёт! Я в его годы не знал, что такое отпуск! Ночевал в кабинете! Пусть выходит и отрабатывает важняка[30]!
– А милицейский надзор чего? Бамбук курить будет? Учёт и регистрация, вообще-то, их участок, – выпустив пар, Саша прикидывал, как организовать работу по свалившейся вводной.
– Кто сказал? Неохота мне Органчика в эту тему впрягать, а куда деваться… Ох, он, паскудник, обрадуется!
Прозвище Органчик, заимствованное из бессмертного произведения Салтыкова-Щедрина, носил заместитель прокурора Хоробрых Андрей Леонидович.
Вторую должность зама в межрайонной прокуратуре ввели в январе 2003 года. Принятый с помпой новый УПК[31] взвалил на надзорный орган такой массив дополнительных обязанностей, что прокурор с замом буквально выли на луну от отчаяния. Теперь каждое уголовное дело возбуждалось с письменного согласия прокуратуры. Преступники, как известно, чинят злодеяния в любое время суток, не считаясь с режимом работы правоохранителей. Аркадьич с Кораблёвым заступали на вахту по графику «через неделю». Дежурная часть УВД, следователи и дознаватели поднимали их практически каждую ночь и ладно бы, по делу, а то чаще по ерунде. Консультировались, перестраховывались. В новых условиях ответственные от руководства милиции устранились от разбора сообщений о преступлениях. Прокурорский надзор стал дублировать, а потом и подменять ведомственный контроль. Соответственно, умножилась ответственность. Главный спрос за законность возбуждения дела был с того, чья подпись стояла в правом верхнем углу постановления. В дежурную неделю приходилось проводить на службе все выходные. Разумеется, многократно увеличив объём работы, никто наверху не задумался о повышении заработной платы. Начавшийся исход квалифицированных кадров вынудил Москву ввести в штаты низовых прокуратур ещё по одной ставке заместителей.
В Остроге явление нового зама принесло больше проблем, чем помощи. Хоробрых десять лет оттрубил в области на должности старшего прокурора отдела по надзору за следствием и дознанием. Заслужил зловещую репутацию «киллера». Являл собой ярко выраженный тип мизантропа, из всей палитры красок различавшего единственный цвет – густо-чёрный. Кораблёву он, будучи зональником[32], попортил крови немало.
Постепенно своим рвением Хоробрых допёк непосредственное начальство. Его начали осаживать: «Андрей Леонидович, нельзя на местах переувольнять всех, кто-то должен расследовать дела, раскрывать преступления». Вошедший в раж Хоробрых увещевания игнорировал. С каждым днём влиять на его поступки становилось проблематичнее. Андрей Леонидович не имел вредных привычек в быту, чтил трудовую дисциплину, был исполнителен и неутомим, как робот. Осознавая свою неуязвимость, он утратил чувство меры. Дошло до того, что он накатал рапорт прокурору области на его первого заместителя Насущнова, обвинив почётного работника в непринципиальности и потворстве нарушителям закона. Копию рапорта Хоробрых направил в Генеральную. Прозревшее начальство начало методично, не давая поводов для жалоб, зафлаживать бунтаря по всему периметру. Знакомясь с графиком отпусков на следующий год, он обнаружил свою фамилию среди парий[33], записанных на ноябрь. После перераспределения обязанностей в отделе его перевели на аналитику и завалили контрольными заданиями. Хоробрых с присущим ему упорством пару месяцев отчаянно барахтался, но в итоге нарушил несколько сроков исполнения, за что был стремительно привлечён к дисциплинарной ответственности. Коварство неблагодарного руководства оскорбило Андрея Леонидович до глубины души. В отделе кадров думали – неустрашимый боец обжалует наказание в суде, и уже трепетали от мысли, что проиграют процесс. Но обескураженный несправедливостью Хоробрых впал в ступор и неожиданно для всех согласился с предложением годик поработать в Остроге заместителем. Возможно, Андрей Леонидович полагал, что сразу после его ухода начальники поймут, какого незаменимого сотрудника потеряли, и наперебой примутся упрашивать вернуться с повышением и особыми полномочиями. Он заблуждался. В области, избавившись от склочника, вздохнули с облегчением.
Зато в Остроге схватились за голову. Неконфликтному Аркадьичу сложно оказалось противостоять носорожьему натиску заскорузлого аппаратчика. Тем паче, что по возрасту тот был старше межрайпрокурора на целых пять лет и имел равный с ним чин советника юстиции[34]. С приходом Хоробрых Кораблёв переместился на прокурорское следствие, освободив участок надзора за органом внутренних дел. Через неделю знакомства с новым зампрокурора его предшественники казались милиционерам воспитателями из детского сада. Хоробрых ни с кем из УВД, кроме руководства, не здоровался. Обращался на «вы», но обезличенно и с ледяной интонацией. Костистое лицо его походило на застывшую алебастровую маску. В каждом он видел классового врага. В первый месяц его кипучей деятельности возникла реальная угроза коллапса. Он возвращал все дела, поступавшие к нему для утверждения обвинительного заключения, выдвигая невыполнимые требования. Начальницы следствия и дознания (первая клокоча от ярости, вторая обливаясь слезами) кинулись за правдой к Аркадьичу. Тот нашёл их доводы обоснованными, вызвал к себе подчинённого и разъяснил ему: «Наша милиция не самая плохая, конвейер уголовного преследования должен функционировать беспрестанно». За полчаса аудиенции Хоробрых, как каменный идол на кургане, не проронил ни слова. На следующий день по спецсвязи позвонил первый зампрокурора области Насущнов, сообщивший, что по факсу поступил рапорт от известного лица. Ассортимент обвинений был стандартным – попустительство нарушениям закона, сращивание с милицией.
– Вы там поаккуратней с ним, мужики, поаккуратней, – сочувственно вздыхал на другом конце провода Насущнов. – Главное, повода не давайте.
– Мы на работе не употребляем, Николай Николаич, – поспешил заявить Буров.
– А чего ты, Сергей Аркадьич, сразу оправдываться… оправдываться? Может, я не то имел в виду?
С тех пор боевые действия на открывшемся внутреннем фронте не затихали ни на день. Конечно, служба на «земле» немного обтесала правдоискателя. Скоро выяснилось, что виртуоз штабной культуры плавает в вопросах квалификации преступлений. За многие лета его аппаратной работы следственная практика ушагала далеко вперёд. В первый квартал замства Андрея Леонидовича из суда для устранения недостатков прилетела стайка дел, обвинительные по которым утверждались им. Последовавший разбор полётов установил – причиною брака стало исполнение следователями письменных указаний надзирающего прокурора. Приказ о наложении нового выговора, на сей раз строгого, не заставил себя ждать. Ознакомившись с документом о взыскании, Хоробрых пригорюнился. Следующим шагом грозило стать неполное служебное соответствие, после которого впавшему в немилость сотруднику обычно предлагают уволиться по-собственному. Аркадьич с Кораблёвым потёрли руки – обломался конь педальный. Но Андрей Леонидович отличался фантастической упёртостью. Поумерив спесь, он обложился руководящими разъяснениями пленумов Верховного суда, пухлыми комментариями к УК[35] и УПК[36], и в считанные недели овладел методикой основных операций. После этого уровень его опасности возрос. Заматерев, Хоробрых снова стал щерить клыки по каждому поводу. В милиции не смолкал плач Ярославны.
Органчиком его нарек книгочей Саша Веткин, ветеран прокуратуры, всё чаще заводивший блюз о скором уходе на пенсию.
С учётом объявленной кампании для Органчика открывалась заманчивая возможность поквитаться с ненавистными ему ментами, выслужиться перед новым прокурором области и вырваться из опостылевшей ссылки. По сути, ему вручалась лицензия на отстрел. Отодвинуть в сторону зама, в обязанности которого входил надзор за законностью при учёте и регистрации преступлений, было невозможно.
– Ты ему, Аркадьич, сразу внуши, чтобы сам он не вздумал дела возбуждать, – капал на мозги прокурору Кораблёв. – Навозбуждает всякой хрени, а мне потом расхлёбывай.
– Знамо дело! – весомо согласился Буров. – Все решения только с моего ведома. Не в службу, а в дружбу, выгляни в приёмную, скажи Эле, чтобы позвала его.
Судя по нахмурившемуся лбу прокурора, он формулировал пункты инструктажа для своенравного подчинённого.
4
20 мая 2004 года. Четверг.
11.30–13.00
Муратов под расписку сдал Миху дознавателю Семёркиной и отчалил.
Дознавательница указала подозреваемому на стул, а сама озадачилась поисками дела. Пока она энергично рылась во встроенном шкафу, Маштаков по часовой стрелке обвёл взглядом кабинет. Тот по-прежнему хранил ауру зала ожидания на ж/д вокзале. Троица допотопных столов, скреплённых грубыми стальными уголками, кособокие стулья-инвалиды с протёртыми сиденьями. Потолок с осыпающейся побелкой и купоросной плешиной от протечки «стояка» центрального отопления. Рассохшиеся рамы, треснутое по диагонали стекло, заклеенное сморщенной полоской скотча. Обитание в помещении женщин декорировало процесс его распада. Никотиновый настой в воздухе присутствовал, но не в концентрированной форме. Цветы на подоконниках маскировали щели, глянцевые календари и плакаты по стенам оживляли казённость интерьера. На карандашном эскизе, прикреплённом магнитом к облезлому сейфу, цапля, растяпив клюв, глотала лягушку, которая передними лапками душила свою пожирательницу за длинную шею. «Никогда не сдавайся!» – призывала надпись под картинкой. На всех столах, впрочем, громоздились мониторы компьютеров, из чего Миха сделал вывод, что за годы его отсутствия технической вооруженности отделения дознания внимание уделялось.
Олеся Семёркина перелопатила пыльные груды старых дел на верхних полках, искомого не обнаружила и присела перед нижним отсеком. Маштаков обратил взор на обтянутый форменной юбкой бэксайд женщины, представший в выгодном ракурсе. Время прибавило фигуре Семёркиной плавности, а Миха ценил это качество в представительницах прекрасного пола.
Почувствовав пальпирующий взгляд, Олеся обернулась и одновременно звонко чихнула.
– Будьте здоровы, – вежливо пожелал ей Маштаков, отмечая противоестественность обращения на «вы» к женщине, с которой прежде был близок.
На щеках старшего лейтенанта милиции рдел пятнистый румянец, она забавно сморщила нос, пытаясь больше не чихать.
– Дельце моё запропало? – поинтересовался Миха, чтобы не молчать.
– Да, эти росомахи весь архив перевернули, пока я в «декрет» ходила, – Семёркина смотрела мимо привалившегося к стене подследственного.
Обручальное кольцо на безымянном пальце в совокупности со сказанным выдали достаточный объём информации: «вышла замуж, родила, всё, как у людей».
Их связь вспыхнула в июне двухтысячного. Олесей тогда двигало девчоночье любопытство к непохожему на других оперу с прокурорским прошлым, представленному к награде за задержание вооружённых бандитов, одного из которых он застрелил. Маштаков в свою очередь надеялся затеять новую жизнь при посредстве этой куколки. Закончилось всё предсказуемо – Мишка косолапый едва не сломал девушке судьбу. Свои поступки вспоминать ему было стыдно, а вот Олесины особые приметы в виде трогательно острых грудок, жёстких косточек таза и длинных голенастых ножек – приятно.
Наконец уголовное дело по подозрению гр-на Маштакова М.Н., 1965 г.р. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ[37], отыскалось в коробке с чистыми бланками. Семёркина заняла место за столом, пролистала бумаги, прикидывая последовательность своих действий.
Миха сообщил: «Готов всё подписать, виновным себя признаю полностью, от защитника отказываюсь».
– Всё сегодня не получится, – Олеся состроила гримаску сожаления. – Мне надо в прокуратуре дознание возобновить и обвинительный акт[38] составить. Придется ещё раз прийти.
– Как скажете, – кротко согласился Маштаков.
Включив компьютер, Семёркина утвердила наманикюренные пальцы на клавиатуре, демонстрируя готовность слушать и записывать. Миха, откашлявшись, пояснил, что о начатом уголовном преследовании не ведал, потому злонамеренно от органов правопорядка не скрывался. Своё трёхлетнее отсутствие объяснил ведением бродяжнического образа жизни. Повторять версию про амнезию не стал, рассудив, что прокурор при таком раскладе заставит дознавателя проводить по делу психиатрическую экспертизу. А это геморрой.
Олеся в расспросы не углублялась. Распечатав объяснение, занялась перекройкой файла в протокол допроса подозреваемого, который пока в целях соблюдения норм УПК не датировался.
Выводя внизу листа сакраментальное «с моих слов записано верно и мною прочитано», Маштаков узрел, что в «шапке» документа дознаватель именуется Калёновой О.Г. Миха вопросительно вскинул выгоревшие на солнце брови. Экс-Семёркина раскраснелась ещё жарче, открыла аккуратный ротик, надо полагать, чтобы дать необходимое пояснение…
Помешала вторгшаяся в кабинет особа, стремительным колобком прокатившаяся за дальний стол. Рывком придвинув телефонный аппарат, особа с треском принялась накручивать диск. По хозяйским замашкам судя, это была коллега из новых.
Олеся сразу передумала уточнять, тот ли это Калёнов, о котором подумал Маштаков, но так как рот её уже был открыт, произнесла:
– В качестве меры пресечения вам избирается подписка о невыезде и надлежащем поведении. Явитесь в следующую среду, сейчас я выпишу повестку. Сможете принести характеристику с места жительства? Да, за подписью участкового пойдёт. Только не подводите, а то я на «дипломе», не хочется лишний раз тудым-сюдым мотаться.
Миха поинтересовался суммой задолженности. Услышав «сто две тысячи пятьсот рублей», еле удержался, чтобы не выразиться по-татарски. Вникать в правильность расчёта постеснялся, урезонив себя доводом, что пристав-исполнитель не с потолка взяла цифры. Севшим голосом спросил, имеются ли в деле сведения о месте жительства бывшей супруги.
От сестры он знал, что Татьяна через суд добилась признания его безвестно отсутствующим, продала двухкомнатную «хрущёвку» и переехала в Иваново к родне. В стародавние времена перспективный зампрокурора Маштаков, обоснованно рассчитывая получить жильё в другом регионе, куда его пошлют на повышение, отказался от участия в приватизации. Поэтому заморочек с продажей квартиры в его отсутствие не случилось.
Олеся полистала дело и обнаружила конверт, приколотый степлером к задней «корке». В нём было датированное декабрём прошлого года заявление потерпевшей, в котором она справлялась о мерах по розыску алиментщика. Адрес на конверте был указан ивановский: улица Куконковых, дом, квартира… Миха не помнил, где располагается такая улица. Отметил мимоходом, что Татьяна обосновалась не у матери, та жила на Мархлевского в частном секторе.
Подчеркнуто официальная Семёркина-Калёнова выудила из стеклянной коробочки квадратик бумаги, на который переписала адрес. Удивительно, но при изобилии писанины ей удалось сохранить красивый почерк хорошистки. Маштаков сунул записку и повестку в нагрудный карман рубашки, к сигаретам.
На его «до свидания» дознаватель скупо кивнула, вступив в диалог с коллегой-колобком, искавшей телефонный справочник.
Михе не терпелось вырваться на открытое пространство. Отделение дознания располагалось на втором этаже возле лестницы, поэтому процесс эксфильтрации много времени не занял. Пересекая фойе перед «дежуркой», Маштаков отметил – в прошлой жизни, проходя мимо мемориальной доски в честь погибших при исполнении, он думал всякий раз, что на месте последней фамилии могла значиться его. И меж лопаток тогда пробегал кусачий холодок. А сейчас реакции не последовало. Видно, шкура задубела.
На КПП до него докопался незнакомый молодой милиционер, но тут из тормознувшей у ворот бежевой «шахи»[39] вывалился Андрейка Рязанцев.
– Никола-аич, ты?! – у бывшего напарника челюсть отвалилась от изумления.
Постовой сразу потерял служебный интерес к стриженому «под ноль» гражданину. Андрейка, как в слесарных тисках, стиснул Маштакова.
– Жив-вой! Когда вернулся?!
Периферическим зрением Миха зацепил, что из-за тонированных стекол оперативной «ВАЗ-2106» его сверлит пара цепких глаз.
– Расскажу, всё расскажу, только не сейчас. Тороплюсь, брат, извини, – Маштаков стал вывинчиваться из объятий.
– Где обитаешь?
– Пока у сестры.
– Ага, адрес помню. На Орджоникидзе. Вечерком заскочу?
– Давай не сегодня. Сегодня – родня, то-сё. Я сам нарисуюсь завтра-послезавтра. Телефон старый?
– Я в убойный перевёлся, – заскучавшая интонация выдала, что от нового места службы Рязанцев не в восторге.
Он заматерел, в плечах стал неохватен, а выражение глаз сберёг мальчишеское.
– Пообещай, что не пропадёшь, Николаич, – проникновенно сказал Андрейка.
– Обещаю, – улыбнулся Миха и двинул по Ворошилова направо в сторону улицы Абельмана.
Никакая родня по поводу его возвращения нигде не собиралась. От общения с Андрейкой и Титом, которого Рязанцев, к гадалке не ходи, притащит, он отоврался из-за неготовности к ответам на вопросы. А они посыплются, как из прорехи: «Где был, что делал, да почему не давал о себе знать».
Маштаков ссутулился, придавленный своими враками, подкурил «Приму».
«Завтра-послезавтра нарисуюсь… У-у-у, трепло! С понтом, чего-то изменится за день-два…»
Скверно обстояли дела с родными людьми. Прошлой зимой в возрасте шестидесяти двух лет от острого инфаркта миокарда умерла мама. Безвестное исчезновение первенца не добавило ей здоровья. Отец вдовствовал, жил отшельником в трёхкомнатной квартире. Вчера сестра Светка известила его о явлении блудного сына. И родитель изрёк в ответ: «У меня сына нет, и никогда не было». С отцом у Михи и раньше были непростые отношения, теперь же, когда на него возложена вина за преждевременную кончину матери, путей к примирению не предвиделось.
Что по сравнению с этой драмой объяснения с бывшими коллегами?
«Скажу им, как Львовичу, – «память отшибло». Покрутят, поколют, не поверят и плюнут. А вот с батей чего делать, ума не приложу…»
Маштаков шоркал городским бульваром, прозванным за протяжённость дистанции «стометровкой». Клейко зеленевшие насаждения ещё не давали тени. Две женщины в спецовках, «гусиным» шагом двигаясь вокруг клумбы, высаживали рассаду красной петуньи. Похмельного вида рабочий в замызганном комбезе макал квач в ведро с растопленным гудроном и щедро мазюкал им поверх ржавчины чугунную решетку, ограждавшую бульвар от проезжей части. За бронзовым памятником воину-победителю Миха прибавил шагу. Ближе к вокзалу архитектурный ансамбль улицы Абельмана составляли двухэтажные строения дореволюционной постройки (кирпичный низ, деревянный верх). В одном из таких домов по фасаду висела жестяная, в известковых разводах вывеска, на которой посвящённый прохожий мог угадать надпись: «Антикварная лавка». Потянув на себя тяжёлую дверь, Маштаков шагнул внутрь, сопровождаемый блямканьем колокольчика.
В лавке царил неистребимый запах лежалых вещей, но посетителю показалось, будто он свежего воздуха полной грудью глотнул. А ещё почудилось, что все сегодняшние события: милиция, алименты, подписка о невыезде, автоматчик у ворот – затянувшееся сновидение, а в реальность он возвращается теперь.
…По левую руку высилось бюро из массива дуба с выдвижными ящиками. Лак на нём давно облупился и пузырился шпон, однако своей величавости предмет офисной мебели конца девятнадцатого века не утратил. Как и втиснутый в простенок у окна тёмного дерева резной буфет, рябой от трещин и сколов. На перегородившей помещение стойке по убывающей были расставлены: пузатый угольный самовар с оттопыренными ручками, канделябр в стиле ампир и керосиновая лампа с закопченным стеклом. Латунный маятник кривовато висевших на стене часов с боем был недвижен, и Михе захотелось его толкнуть, чтобы возобновить ход времени. С порога он не мог разглядеть затейливой надписи на эмалевом циферблате, но знал доподлинно, что марка часов – «Густав Беккер» и изготовлены они в Германии…
Наваждение нарушил долговязый человек, появившийся из подсобки.
– Свят-свят-свят, – деланно запричитал он. – То не стая воронов слеталася!
– День добрый, Семён, – Маштаков пропустил мимо ушей каркающее сравнение. – Бизнес процветает?
– Какой у меня бизнес, Михаил Николаевич? Слёзы, – вытянув жилистую шею, хозяин лавки разглядывал сквозь тусклое оконце, нет ли за порогом сопровождения нежданного гостя.
Сеня Чердаков слыл оригиналом. Имел в активе смекалистую голову, подвешенную «метлу», фактурный экстерьер. Учился в трёх ВУЗах (мехмат, физвос, биофак), полного курса не осилил ни в одном. В своё время судимости приобрел сообразно интересам: первую за незаконные валютные операции, вторую – за «травку». Миха познакомился с Сеней до того, как тот попал в поле зрения правоохранителей. Старшую дочь Маштаков водил в один детсад с отпрыском Чердакова. В один садик, в одну группу и даже ящички для одежды соседствовали: у Даши – с яблоком на двери, у Сениного Орфея – с морковкой. По роду своей деятельности Чердаков обязан был перманентно общаться с представителями криминального мира, сбывавшими в его лавку предметы старины, и, соответственно, с ментами. Насколько Михе было известно, Сеню в корки закатать[40] не сподобились, но от разовой помощи уголовному розыску он не увиливал.
Чердаков, сверстник Маштакова, словно сошёл с фотки начала восьмидесятых. Расчёсанные на прямой пробор соломенные волосы достигали воротника, не знавшая сносу затёртая джинсовая пара стала второй кожей, кроссовки с тройными синими полосками титуловались, естественно, «Adidas», за щекой перекатывалась неизменная жвачка.