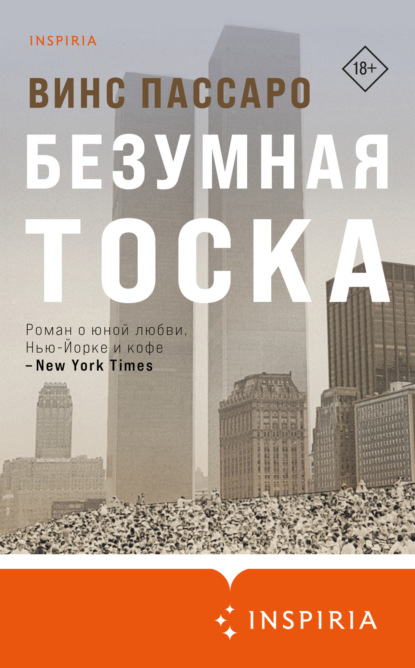Полная версия
Воспоминания Свена Стокгольмца
Снова возникла пауза. Полагаю, мы оба решали, заслуживает ли Макинтайр права считаться исключением.
– А еще есть вы, мистер Ормсон. Я дошел до сути и чувствую, что сказать мне почти нечего. Я смотрю, как ты ходишь туда-сюда, опустив голову так низко, словно только что узнал, что ты не жилец. Как все местные, я ужинаю в столовой, а ты, вечно витающий в облаках, вряд ли хоть раз меня замечал. Местные болтают. Болтают в основном на норвежском, на котором ты явно не говоришь. Я слышал, что местные говорят о тебе. – Макинтайр отмахнулся, словно умудрившись меня заинтриговать. – Нет, нет, не спрашивай, что они болтают. Кого колышет мнение шахтеров? Я для себя отметил лишь то, что ты держишься особняком и живо интересуешься книгами. Книгами, мистер Ормсон. Представляешь, как трудно найти читающего человека на архипелаге Шпицберген?
Чувствовалось, что вопрос не пустая риторика.
– Да, – ответил я.
– Да! – повторил Макинтайр. – В этом-то дело! Ты книгочей вроде меня и потенциальный собеседник! Теперь понимаешь, как нужен мне товарищ с определенной, нет, пусть даже с минимальной любознательностью?! А тебе… Тебе, наверное, нужен друг.
8Не прошло и двух недель, а я возродился как человек, раскрыв Макинтайру не только свою тягу к литературе, но и свои мечты и сожаления. Он имел привычку подолгу говорить, а потом неожиданно останавливаться, будто он с самого начала ждал, когда я его перебью, и потом, слегка раздосадованный, передавал слово мне. В возникшей паузе я начинал говорить снова.
Моя правильность и тяга к формальности и забавляли Макинтайра, и раздражали. Он звал меня Пастором или Отцом Ормсоном. Он смаковал свои насмешки. При этом он испытывал огромный, фактически неиссякаемый интерес к рассказам о буднях стокгольмских фабрик и о моей семье. Что касается наших познаний в исследованиях Арктики, то они во многом совпадали, хотя оставалось и немало такого, чем мы могли друг друга потчевать.
Постепенно я притерся к Макинтайру и порой даже отвечал на его насмешки. Он позволял мне свободно пользоваться его книгами – шведских среди них было сравнительно мало – при условии, что я буду читать у него в лачуге. Он не доверял ни «комфортабельности» бараков, ни намерениям других шахтеров, которые, как он опасался, могли осквернить его книги, если бы им до зарезу понадобилась папиросная или туалетная бумага. Разумеется, это означало, что мое чтение регулярно прерывалось разговорами Макинтайра. Ему прекрасно удавалось одновременно читать, говорить, думать, писать, курить, пить, а порой и спать. Я не возражал. За возможность подключить критическое мышление и вернуть остроту притупившемуся уму я вынес бы куда больше. Когда Макинтайр считал нужным врываться в мои грезы, его вопросы и замечания, как правило, того стоили. Он обладал пытливым умом. Географией и историей Арктики его способности не ограничивались. Например, он очень много размышлял о музыке.
Когда Макинтайр впервые включил мне музыку на патефоне, я слушал ее бездумно – примерно так же едят безвкусное филе трески, только потому что настало время обеда. К вдумчивому слушанию мой мозг не привык. В моем детстве места музыке не было. Я знал песни пьяных рабочих и атональные частушки юнцов, а в музыке посложнее, которую можно назвать утонченной, я не разбирался совершенно. Даже если бы моя семья интересовалась музыкой, мы не смогли бы позволить себе одежду, в которой позволительно пойти на симфонический концерт.
Любому меломану история моего «прозрения» покажется искренней и, возможно, банальной, но как есть, так есть. Макинтайра интересовали вещи, мне совершенно не известные. Его забавляло, когда при чтении я вслух изумлялся или открывал истины, сотни раз приходившие в голову ему и другим образованным людям. Но высокомерия по отношению ко мне Макинтайр не проявлял. В ту пору я так думал и совершенно уверен сейчас, что он был искренен в желании развить мой ум.
Макинтайр упорно проигрывал музыку на своих цилиндрических валиках. Он ставил их, когда мы курили, когда читали, когда ели сушеную рыбу. Недели напролет я слушал, но не слышал. Потом однажды, совершенно неожиданно, я услышал – по-настоящему услышал – музыку в первый раз. Я помню тот самый момент, потому что прочувствовал его физически, не осознав причину. Я курил табак Макинтайра – порой он был мне скорее покровителем, чем другом, потому что отметал все попытки вернуть любезность – когда я вдруг почувствовал в груди какой-то трепет. Сперва я принял его за боль. Наверное, я проглотил слишком много табачной слюны. Отец вечно жаловался, что от нее живот крутит. Но ведь трепет чувствовался в сердце или где-то в груди – беспокойная дрожь, вроде учащенного сердцебиения. Ощущение двигалось вверх, опаляя мне шею, виски, лоб. Перспектива потерять сознание казалась позорной. Я опустил взгляд на трубку, чтобы Макинтайр не заметил мое состояние и не подколол. В отличие от мимолетных мыслей или воспоминаний, связанных с весельем, стыдом, эротикой, трепет продолжался, нарастал, захватывал плечи и не отпускал. Разумеется, его вызвала музыка, причем музыка в своем убогом и примитивном подобии – втиснутая в медную трубу, отпечатанная на воске, нанесенная на металл, затем выпущенная обратно.
Во власти этой минорной эйфории я окончательно потерял стыд.
– Что это? – спросил я.
Макинтайр оторвался от книги, удивленный моим волнением.
– В смысле? – уточнил он.
– Что это за музыка?
– А-а. – В лице у него мелькнуло глубокое понимание. – Это Дворжак.
Услышав незнакомое имя, я нахмурился, а Макинтайр встал и пошел к патефону, чтобы рассмотреть ярлык на футляре воскового валика.
– Антонин Дворжак, квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели ля мажор, опус номер восемьдесят один. Если не ошибаюсь, дружище, поразила тебя вторая часть под названием «Думка».
Макинтайра я слушал вполуха, завороженный мрачным нарастанием, падением и игрой скрипок. Звуки тоски или, по крайней мере, глубокой меланхолии, совершенно беспрепятственно пересекали пространство и время, сражая меня наповал. На глаза навернулись слезы, руки стали до странного горячими – ощущение было и волнующим, и пугающим. Могу уподобить его только пониманию, что выпито слишком много, что собственное тело не слушается, что впоследствии придется туго, но сейчас это неважно.
Когда музыка зазвучала бодрее и куда веселее, не вызывая особо сильных чувств, я спросил Макинтайра, что такое думка.
Макинтайр объяснил, как мог. Он сказал, что «думка» в переводе с украинского означает «размышление», а еще это длинная народная баллада, по настроению печальная или трагическая. Новаторы вроде Дворжака раскапывали музыкальные традиции и гармонии сельской бедноты, затем переплавляли и перестраивали их в современные композиции. Без неотесанных, неприкрашенных выражений простонародья, по выражению Макинтайра, господа композиторы в строгих костюмах понимали бы человеческую душу плохо или не понимали бы вообще. Но в этом и заключался гений Дворжака – правду и горечь человеческого существования он перевел на язык, понятный каждому.
Согласен я с такой позицией или нет, я не знал. Пожалуй, я предпочел бы услышать думку в исполнении крестьянина-скрипача, который сидел бы у костра в перепачканных навозом сапогах, уставшего от работы, раздавленного жестокими превратностями судьбы, но остро чувствующего или отчаянно желающего почувствовать краткие, редкие, неоспоримые радости, то и дело озаряющие его недолгую тяжелую жизнь. Но вслух я об этом не сказал. В конце концов, душу мне разбередил Дворжак, а не крестьянин.
– Чарльз, можно снова послушать эту часть?
Макинтайр снисходительно усмехнулся.
– Да, конечно. – Он поставил иглу на бороздку, поднял ее наверх, и музыка полилась снова.
9Моя первая зима в Арктике – совершенно не похожая на то, чего я боялся и на что надеялся в мечтах о лишениях и вознесении личности, – продолжалась таким странным образом. Товарищество и живой разговор создавали жуткое чувство того, что я могу или, как минимум, хочу выжить. Однако в моих испытаниях не было ни капли романтики. Я не мучился, волоча сани по разреженному льду, ни от чернеющих десен и облысения, ни от атак белых медведей, ни от безумия ледяного плена в темные, зимние месяцы. Да, как и все остальные, я мучился от холода и от неуклонно наползающего, окутывающего отчаяния, которое несет постоянная темнота. Самые заклятые мои враги, особенно до встречи с Макинтайром, были столь вездесущи и прозаичны, что они вряд ли требуют дальнейшего упоминания, – унылый низкооплачиваемый труд, скука, социальное унижение. Таких можно нажить где угодно. Возможно, в этом и заключалась проблема. Я отправился в Арктику на поиски приключений и выяснил, что с таким же успехом мог остаться в Стокгольме и вернуться во чрево промышленности.
Если бы не Макинтайр, я вряд ли справился бы с таким разочарованием. Поэтому я сдерживал тревогу о том, что занимаю слишком много его времени и злоупотребляю гостеприимством – Макинтайр называл такое чепухой – и благодаря странному осмосу, вследствие которого настоящая дружба проводит свежий воздух в каждый уголок беспросветного существования, я начал просыпаться по утрам, чувствуя, как минимум, смирение, если не радость тому, что я жив.
Небольшой «льготный» период. А потом, в марте 1917-го, всего через девять месяцев после приезда на Шпицберген, на меня рухнула гора. В начале той смены, с животом, раздутым и булькающим от горячего чая и старых бисквитов, я, физически еще не готовый к суровой правде наступившего дня, стоял, точнее, полустоял-полугорбился, загружая уголь из жалкого угольного пласта в вагонетку. То утро мне запомнилось отчетливо. Свет моей нашлемной лампы отражался цветными призмами от неведомых минералов, примешивающихся к нашей скудной отборке: с точки зрения геологии та гора считалась менее ценной. Помню, я думал, что насладился бы красотой света, сверкающего в этой запыленной адской расселине, не будь каждая лопата такой ужасно тяжелой.
Ближе других ко мне работал норвежец по имени Олаф, сухопарый великан, беспристрастная угрюмость которого меня, как ни странно, успокаивала. Мы частенько выходили на смену вместе, поэтому временами разговаривали на ломаной смеси норвежского и шведского.
– Говорят, скоро здесь будет солнце, – проговорил он тем утром.
Я никогда не был уверен, особенно поначалу, обращается ли он ко мне, или к стене, или к своей лопате.
– Да, – отозвался я через какое-то время. – Олаф, разве это твоя первая зима в Арктике? Разве ты не знаешь, когда вернется солнце?
Олаф задумался и неопределенно покачал головой, словно не желая обращаться к собственному прошлому.
Несколько минут мы молча работали лопатами, а потом Олаф снова поднял голову.
– Думаешь, сегодня в столовой нам дадут свинину?
– Думаю, да. По средам свинину дают часто.
Олаф кивнул, явно довольный ответом.
У меня возникло странное ощущение сна, текучей мысли, парения внутри собственного тела, которое возникает, когда из-за нехватки сна не можешь проснуться достаточно, чтобы разобрать, день сейчас или ночь. Разминая пальцы рук и ног, чтобы отогнать это чувство, я размышлял об Олафе. Вдруг он – образ будущего меня, присланный в знак предупреждения? Но о чем именно он должен меня предупредить?
В этот момент свет моей нашлемной лампы задрожал, потом заплясал, потом с потолка шахты посыпалась пыль. Я перехватил взгляд Олафа. Его глаза были тусклыми, пустыми, непонимающими. Глаза проигравшего. Внезапно раздался оглушительный грохот, подобный грому под землей, затем пронзительный треск. Потолочная балка треснула и раскололась под неестественно острым углом. Только сообразив, что треск и грохот раздаются у нас над головами, я почувствовал порыв ледяного воздуха и раздирающую боль в правой стороне лица. Все провалилось во мрак.
10Очнулся я в продуваемом насквозь козлятнике, который называли лазаретом. Ветер с воем влетал в незаконопаченные щели стен и пытался сорвать оловянную крышу. Стук и треск звучали так мерно, что я понял, что мне снится фабрика. Мозг работал вяло, словно конь, которого не подстегнули, но я понимал, и где нахожусь, и что на шахте случилась какая-то беда. Попытавшись оглядеться, я обнаружил, что моя шея крепко чем-то удерживается. Тусклый свет полосками падал на мой левый глаз – работал только он.
– Эй, люди! – слабо прохрипел я.
Ответа не последовало.
– Эй, люди! – снова позвал я, на сей раз с чуть большей силой.
Тогда открылась дверь, и надо мной склонился норвежец, которого я знал как хирурга Компании. Не сказав ни слова, он приподнял меня и решительно, но не грубо перевернул на правый бок. С небольшой тревогой он осмотрел мне лицо и плечо, с любопытством потыкал пальцем в повязку у глаза, сказал что-то непонятное – может, на латыни? – и вышел за дверь. Из уха у меня вытекало и капало что-то вязкое. Через несколько секунд на простыне образовалась целая лужица неведомой влаги, покинувшей мое тело, и каждая новая капля падала со звучным «шлеп!». Пахла жидкость алкоголем и тухлым мясом. В момент тошнотного просветления я понял, что меня дренируют.
Теперь я видел одну сторону козлятника, и вид был мрачный. Четверо лежали на койках, вроде моей, так кучно, что доктор протиснулся бы между ними с трудом. Один был с головы до ног в бинтах и жалобно стонал во сне. Другой, с побелевшим от боли лицом, поджатыми губами и подтянутыми к груди коленями, смотрел мимо меня. Еще двое, явно мертвые, лежали накрытые простынями. Я попытался разобраться в вызывающей ужас сцене. Попытка отняла последние силы, и я начал погружаться в сон, когда дверь снова открылась, и на границе моего нарушенного восприятия замаячило милое лицо Макинтайра.
Макинтайр улыбался, но его улыбка показалась усталой и слегка натужной.
– Дружище, дорогой мой дружище, – начал он, – я очень боялся, что в наш суровый край ты больше не вернешься. Какое-то время казалось, что ты уплыл… туда, где потеплее, – Макинтайр попробовал весело усмехнуться, но получилось не очень. – Пожалуйста, скажи, как ты себя чувствуешь?
– Лицо болит, – ответил я.
– Да, да, так я и думал. Ты сильно пострадал, когда обвалился шахтный ствол. Ты, как живые любят говорить едва не погибшим, в рубашке родился.
– Шахтный ствол… обвалился?
– Да. Ты знал об этом? Его продавила лавина. Очень немилосердное деяние Божье, если столь ужасные катастрофы можно объяснить Его волей.
По словам Макинтайра, лавина полностью разрушила два шахтных ствола и несколько построек у подножья горы. Девять человек погибли, пятеро получили серьезные ранения, в том числе и я.
От ужаса голова шла кругом, информация едва усваивалась. Снова подкатила тошнота. Осознание большой вероятности собственной гибели – ее невообразимой близости – вызвало ощущение сродни калечащему вертиго. Наверное, думать о себе, а не о тех, кто думать больше не в состоянии, – непростительно и бездушно, но было именно так.
– Ствол обвалился, – недоуменно повторил я. – Но как же?.. Как же меня подняли на поверхность?
Как объяснил Макинтайр, множество людей работали день и ночь – раскапывали и кричали, кричали и раскапывали. В результате некоторым пришлось ампутировать фаланги пальцев. В решающий момент привезли собак, отправленных голландцами из Баренцбурга, поселения, расположенного на Ис-фьорде, западнее Лонгйира. Для нескольких счастливчиков вроде меня они стали спасением.
– Как долго я был под завалами?
– Три дня, дружище, или чуть меньше. Я уже надеяться перестал. Когда тебя вытащили, ты казался мертвым, ну, или почти мертвым, и еще восемь дней пролежал без сознания. Наш местный доктор оказался искуснее, чем я за ним признавал. Или, что вероятнее, ты оказался необычайно сильным.
– А Олаф? – спросил я.
– Увы, он погиб. Ему при обвале сразу проломило голову. Как едва не случилось с тобой.
Я подумал о жене Олафа, оставшейся в Тромсё. Однажды, в редком порыве откровения, Олаф признался: он хотел бы, чтобы она пилила его больше, показывая, что он ей небезразличен. Мол, приезжая домой на побывки, он не мог добиться от нее никаких эмоций. Интересно, а сейчас у нее появились эмоции?
– А мои родные об аварии знают? Ольга знает? – Перед мысленным взором промелькнул образ Ольги, безутешно плачущей над телеграммой. Видимо, от неожиданной пульсации зашевелилась повязка у меня на лице.
– Нет, нет. – Макинтайр накрыл мою ладонь своей. – Я решил, что разумнее дождаться, когда ситуация изменится в лучшую или в худшую сторону.
– Спасибо, Чарльз, – проговорил я, расслабляясь. Впрочем, мысли работали по-прежнему сумбурно, мимолетно сосредоточиваясь то на одном, то на другом, как получается, когда среди ночи балансируешь на краю сна. Упорядочить их я не мог. Я спросил Чарльза, что случится дальше.
– Я не пророк, – ответил он, – но, по-моему, близится время ужина.
Я застонал, и улыбка Макинтайра стала искреннее.
– Я вернусь к работе? – спросил я. – Или домой вернусь?
– Ну, Компания почти наверняка освободит тебя от контракта, чтобы не потерять больше денег в такой страшной ситуации, как твоя. Я в подобных делах несведущ, но не думаю, что ты захочешь вернуться в шахту в обозримое время или вообще когда-нибудь. Оставь эти заботы мне. У меня есть пара идей, которые стоит обдумать тщательнее. Тебе нужно отдыхать. Набирайся сил, а я вечером вернусь с крепким норвежцем или двумя, которые перенесут тебя ко мне в лачугу, где выздоравливать тебе будет комфортнее и спокойнее. – Макинтайр предостерегающе поднял палец. – Не вздумай возражать! Споров я не потерплю!
– Чарльз, я и не возражаю, – заверил я. – Но скажи мне еще одну вещь. Что с моими ранами? Почему я не могу повернуть голову и хорошо вижу только одним глазом?
Лицо Макинтайра, всегда такое живое и открытое, помрачнело. Он отвернулся.
– Об этом, дорогой Свен, мы поговорить успеем. Времени у нас предостаточно.
Макинтайр поднялся и вышел.
11Так я стал Свеном-Стокгольмцем, Шахтером-Уродом. Свеном-Безобразное-Лицо.
Ни зеркала, ни умывальной комнаты в лачуге Макинтайра не было. Для омовения и нечастых попыток привести себя в порядок Макинтайр использовал умывальную в бараках Компании. Так что неделю-другую, пока я пытался сфокусировать здоровый глаз и снова встать на ноги – сотрясение мозга было обширным и проходило плохо – мое познание о собственных ранах ограничивалось осторожными ответами Макинтайра и периодическим созерцанием искаженного отражения в ледяном стекле.
Я говорю «здоровый глаз», будто другой мой глаз – к счастью для меня, правый, потому что я левша – был просто «нездоровым» или даже «больным». Правого глаза у меня больше не было. Он исчез, сгинул под бессчетными тоннами льда, камня и угля. Нашли меня уже с бесследно исчезнувшим глазом, и ни один из спасателей не остановился, чтобы разгрести грязный снег помороженными пальцами в поисках бесполезного шарика, вероятно, пролежавшего замерзшим и раздавленным невероятных трое суток.
Вопиющее отсутствие одного глаза могло усугублять медленный отток жидкости от мозга и его длительный эффект. Я не мог уговорить левый глаз работать как следует. Ощущался он эдакой виноградиной, болтающейся в мармеладе, – когда я пробовал им подвигать, он не желал слушаться. Порой его вялость казалась намеренной – так собака, услышавшая не нравящуюся ей команду, исполняет ее с неохотной медлительностью.
Я старался не стонать – очень старался. Я остро чувствовал, что порой Макинтайр присутствует, порой – нет. Порой он красноречиво отсутствовал, наверное, чтобы не слишком докучать мне; порой становился бдительным и переживающим. Благородство и терпение он проявлял всегда. Вопреки всем моим усилиям, раны на лице, шее, плече и зияющая гноеточивая дыра, в которую превратилась правая глазница, дружно издавали какие-то загадочные звуки. Непрошеные, они доносились из самого моего нутра. Я их слышал, как сквозь пелену сна слышишь собственный голос: он будто озвучивает его, но несет ересь.
Неоднократно просил я Макинтайра рассказать о сходе лавины, и он неизменно соглашался. Неоднократно просил я его подробнее рассказать о моих ранах, и каждый раз он возражал или лукавил. В ту пору я не упрекал его. Не упрекаю и сейчас. Как объяснить другу, что черты его лица полностью изменены? Что потрепанный атлас его человеческого обличья теперь нужно отправить с глаз долой, из сердца вон, потому что извергся вулкан и потоки магмы изменили топографию?
– Чарльз, пожалуйста, – умолял я, – расскажите, насколько все плохо!
– Ничего хорошего, – отвечал Макинтайр.
– В каком смысле?
– Свен, особой красотой ты не блистал никогда. Так что тебе, можно сказать, повезло.
– Мне не до шуток.
– Конечно, нет. Наверное, отсутствие чувства юмора и новообретенное уродство сделают тебя своим среди норвежцев.
Впрочем, тревога Макинтайра была ощутима и обоснована. Инфекция, попавшая в пустую глазницу, привела к лихорадке, грозившей выжечь из меня последние признаки жизни. Я выбирался из лачуги и барахтался в снегу, остужаясь, как бочонок пива. Хинин действовал медленно. Лагерный доктор убедил Макинтайра меньше курить во время моего выздоровления, раз уж ему хватило глупости забрать меня из лазарета. Доктор считал, что табачный дым действует раздражающе. Может, доктор был прав, но, думаю, он знал, так же определенно, как и Макинтайр, что главное – укрепить во мне желание жить, и что столь тонкий маневр удастся, лишь если поместить меня в комфортную, дружественную обстановку.
Получилось так, что как следует оглядеть себя я смог лишь через месяц с лишним после аварии, когда наконец окреп достаточно и Макинтайр с доктором сочли, что мне при помощи их обоих дозволительно прогуляться через лагерь к баракам Компании, чтобы помыться. Когда я впервые взглянул в зеркало, оба отвернулись, словно вид того, как я смотрю на свое лицо, был хуже самого лица.
Наверное, к тому времени я был более-менее готов. Наверное, я опасался худшего, поэтому со своим новым лицом познакомиться было проще. Я не пытаюсь преуменьшить шок или кошмарность своей нынешней внешности. Но если вам доводилось видеть обожженного промышленным растворителем или проходить мимо попрошайки, угодившего во что-то, предназначенное для обработки ткани или кожи (что наверняка случалось с большинством жителей индустриального мира), то мое лицо не удивило бы вас больше, чем самого меня.
Я не считаю себя тщеславным. Я не ощутил глубокую личную утрату чего-то ценного. Сильнее всего меня уязвило то внимание – полное сочувствия или ужаса – со стороны всех, кого я встречал в лагере. Долгие взгляды. Утрата анонимности.
Немного погодя я принял решение стать отшельником.
12Отшельником стать не так просто, как кажется. Разумеется, в Лонгйире это было недостижимо, как бы далеко от цивилизации он ни располагался, ведь у меня не было навыков, необходимых для того, чтобы отправиться на поиски своей сомнительной удачи. Я был растерян, я был на грани. Выздоровление в хижине у Макинтайра стало меня отуплять. Бремя безнадежности превращалось в нечто иное, в нечто мятежное. Едва уцелевший глаз прозрел достаточно, чтобы различать слова, я написал письмо Ольге.
Дорогая сестра!
Искренне надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. Также со всем смирением надеюсь, что ты не осудишь мой чудовищный почерк слишком строго. Гора обрушилась на голову твоему бедному брату – одного глаза я лишился, другой пасует от ужаса, делая мою писанину в лучшем случае неуверенной. Но нет, дорогая сестра, не беспокойся! За мной прекрасно ухаживает добрейший из геологов, а если возразишь ты, что геологи, особенно шотландские, не славятся добротой, прошу быть милосердной ко мне во времена моей слабости. Уверен, что в предыдущем послании я упоминал своего друга, мистера Чарльза Макинтайра, но, увы, в голове у меня такая каша, что я не помню. Как тому джентльмену удалось открыть мои уши для музыки! К счастью, уши к голове моей еще крепятся.
Свою карьеру шахтера считаю преждевременно оконченной. Как тебе известно, ни интеллектуальной, ни духовной отдачи от работы на шахте я не получил, хотя нам обоим хватало ума не надеяться на это. Впрочем, как и предсказывал Макинтайр, Компания сочла целесообразным освободить меня от контракта и отправить домой с небольшой пенсией – сумма, на деле, жалкая – дабы компенсировать мои мучения и так далее.
Домой я, возможно, не вернусь. Считай меня убогим романтическим идиотом – измученным персонажем дурного драматического романа, место действия которого у моря или на болотах, но в таком состоянии я не могу показаться на глаза. Ни тебе, ни кому-то другому. На деле называть это «состоянием» – принципиальная ошибка, потому как это – превращение твоего брата из довольно симпатичного парня в уродца, скрывающегося в вонючих недрах драного циркового шатра… увы, лицо у меня теперь такое. Внутри я твой прежний, неунывающий Свен, а снаружи – подгоревший ростбиф с желтым жиром и обугленной корочкой.