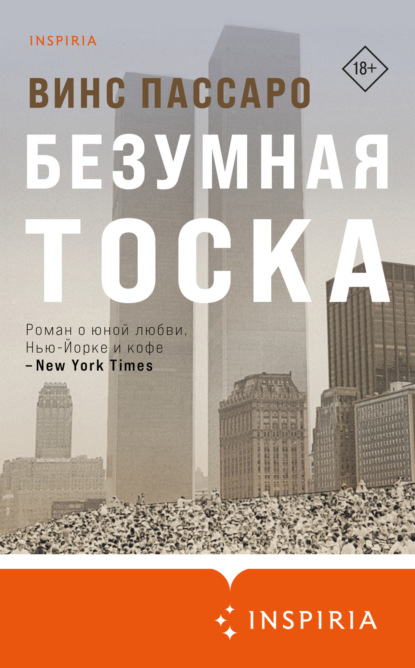Полная версия
Воспоминания Свена Стокгольмца
– Извини меня, – наконец проговорил я. – И, пожалуйста, продолжай.
Ольга откашлялась.
– Слышал ли ты о добыче ископаемых на Шпицбергене?
– На Шпицбергене?
– Да, на Шпицбергене. – Ольга рассказала мне про объявление, вывешенное на здании Полярного института. Многие норвежцы и немало шведов заключали выгодные контракты с некоей компанией, расположенной в городе под названием Лонгйир. Судя по всему, архипелаг изобиловал углем.
Я чувствовал, как Ольгины слова подтачивают мой непоколебимый пессимизм.
– Шпицберген, – повторил я. – Этот край всегда меня очаровывал.
– Да, Свен, я знаю, – мягко, без капли строгости проговорила Ольга.
Я спросил, что Ольга делала у Полярного института, но ответ нашелся сам. Разумеется, она помогала мне. Небось месяцы потратила, подыскивая мне варианты новой счастливой жизни. Я с нежностью посмотрел на Ольгу.
– Моя дорогая сестра! – воскликнул я. – Но работа в шахте… Господи, легкой жизни там не будет. На какой срок заключаются контракты?
– На два года, – ответила Ольга. – В конце первого года предоставляется двухнедельный отпуск. Думаю, ты мог бы заняться исследованием новых земель.
– Исследованием?
– Ну, конечно, исследованиями! – Ольга слегка повысила тон и пронзила меня строгим нетерпеливым взглядом: – Сколько лет приходилось мне слушать про то, как греются на солнце и качаются на волнах огромные усатые моржи; про ненасытных белых медведей с перепончатыми лапами и окровавленными мордами; о разводьях, где неуловимые нарвалы с длинными спиралевидными бивнями плавают, не вспарывая друг друга, словно у них какое-то коллективное зрение? Сколько ты талдычил мне и бедным Вилмеру с Хельгой о переливах северного сияния и о его едва уловимом пении? О треске, когда раскалывается ледник. И обо льде, господи, обо льде! Обо льде, похоже, совершенно бесконечном в многообразии звуков, проявлений и возможностей давить, увечить и убивать добрых моряков-христиан. Разве не об этом ты все время мечтал? Разве не хочешь увидеть все это собственными глазами? Тогда, может, тебе надоест и ты начнешь талдычить о чем-то другом.
Я не смог не рассмеяться. Как здорово она меня знала, как точно уловила суть моих уныло-поучительных лекций!
– Пожалуй, да, я мог бы заняться исследованием новых земель. – Мысль казалась легкой и игривой, эдакой шуткой, без капли серьезного. – А что думаешь ты, юная Хельга? Отправиться мне на поиски арктических приключений?
– Белый медведь лицо тебе сгрызет, дядя Свен!
6По-моему, мы все сильно удивились, когда я пошел и сделал дело. Через неделю я подписал контракт, через месяц уехал. На вокзале прощание вышло недолгим. Ольга держалась решительно. Обняв за плечи, она всмотрелась мне в глаза, словно требуя клятвы. Арвид пожал мне руку, потом его примеру решительно последовал Вилмер. Хельга не желала встречаться со мной взглядом. Она упорно стояла спиной ко мне, цепляясь за платье Ольги, и так до самого последнего момента, когда кондуктор объявил, что поезд скоро отправляется. Услышав это, Хельга мигом отлепилась от матери, бросилась ко мне и давай колотить меня крошечными, как яблоки, кулачками. Когда она подняла голову, два ручейка слез перерезала свирепая улыбка.
– Без хороших историй не возвращайся! – напутствовала меня малышка.
Прощания не так болезненны, когда место назначения манит, даже если (особенно если?) не знаешь, ни что тебя там ждет, ни когда вернешься. Вот и я, когда садился на поезд до Тромсё, потом на корабль до Шпицбергена и Лонгйира, не испытывал опасений, как то, может быть, ожидалось. Слишком много было неизвестного. Море прочитанного мало подготовило меня к тому, что я увидел по прибытии. Пароходы, угольные шахты, жизнь в вахтовых поселках – все это не очень напоминало радостный трепет и опасность исследования неведомых побережий на корабле с высокими мачтами. Абстрактность того, что ждало впереди, в какой-то мере успокаивала. По моим представлениям бояться мне было нечего. Кроме сестры и ее детей, в Стокгольме у меня не осталось ничего, за что бы стоило переживать.
В угольных шахтах Шпицбергена я трудился очень недолго. Кому-то, возможно, захочется более подробного рассказа о моей кратковременной работе в этом отчаянном ремесле. Могу лишь надеяться, что их не разочарует нижеследующий поверхностный отчет. На сегодняшний день предостаточно написано о почти всевозможных тяготах и бесправии в жизни шахтера. Бесконечные часы работы и, как следствие, нехватка солнечного света. Адский труд. Ядовитый воздух. Вездесущая, всепроникающая грязь. Скука и монотонность. Травмы и гибель людей, случающиеся так часто, что сторонние наблюдатели или даже пострадавшие устают удивляться. Преступная эксплуатация самих шахтеров, мизерные жалованья которых окончательно опустошаются монополией компаний на местные товары и ресурсы, особенно в таких отдаленных районах, как Шпицберген.
Город Лонгйир, названный в честь американского лесного и угольного магната Джона Лонгйира, оказался значительно цивилизованнее среднестатистического шахтерского поселка, но по-прежнему целиком управлялся одной компанией, конкретно Норвежской государственной горнодобывающей компанией на Шпицбергене[1], которая только образовалась, как подразделение Лонгйирской арктической угольной компании[2] – основательницы местного угледобывающего бизнеса. Изменение условий привело к притоку контрактов и появлению рекламы в Швеции, которая и попалась на глаза Ольге.
К моему прибытию в 1916 году город существовал только десять лет. Все еще было на английском – вывески, этикетки на остатках продуктов, похабные журналы у нас под матрасами. За несколько лет, которые я провел в Лонгйире, обстановка напоминала мне сильную качку: город то пустел, то наполнялся новыми людьми. Есть что-то исконно странное в поселении, где нет коренных жителей. Люди приезжают и уезжают, оставляя после себя, в лучшем случае, крохи своей культуры. У меня часто возникало пугающее ощущение, что по-настоящему в Лонгйире никто не жил. Люди не задерживались настолько, чтобы оставить достаточно глубокий след, а даже если умирали, то их тела навсегда прибирал к себе собственник-лед. Цивилизация – если ее так можно назвать – была если не прозрачным налетом, то, как минимум, сильно просвечивающим. Люди и их город – призраки, живое эхо. Шпицберген – единственная константа.
«Город», определенно, слово неподходящее, или было таковым. Вы когда-нибудь видели, как усоногий рак балянус цепляется за черную щербатую скалу, а волны снова и снова терзают его? Порой наступает отлив, волны уменьшаются, и упрямый балянус получает короткую передышку, но море неизменно возвращается со всем своим прежним гневом и снова хлещет маленькое существо. Поселения в Арктике такие же. Разница, пожалуй, в том, что балянусы крепче людей.
За десять лет маленькому городку особо не вырасти, если только не начнется золотая лихорадка. В Лонгйире золотой лихорадки не было – лишь глупая суета. До городка я добрался летом, когда проще соврать себе, что здесь тебя ждет успех. Убогие строения громоздились на горном склоне группами – часть на сваях спасалась от грязной тали, часть прижималась к скале. Под ними широкой полосой ломаного камня тянулась приливная полоса. Нам домами возвышалась гора, бурая, безлесная, недружелюбная. Казалось, единственное ее предназначение – отбрасывать тень.
Когда я сошел с причала, мое впечатление было двояким. Во-первых, вопреки всем страшным рассказам о мучительных испытаниях, которые ждут людей на севере, я был слегка разочарован. Почему я не онемел от чудовищной силы безжалостной белой смерти? Я ждал, что, увидев Арктику, почувствую зловещий холодок, а испытал недоумение. Вторым моим впечатлением, более стойким и точным, была полная визуальная дезориентация. Протяженность Ис-фьорда с востока на запад так велика, что остров Шпицберген разделен фактически пополам, отроги уходят далеко на север и на юг, а Лонгйир лежит почти в самом центре. Чувство расстояния я потерял полностью, когда смотрел на море позади меня и горы, которые громоздились одна на другую. Противоположная сторона залива могла быть и в ста, и в ста тысячах метров от меня.
Для Норвежской государственной горнодобывающей компании год 1916-й стал суматошным. Американцы потерпели в Лонгйире финансовый крах, и норвежцы вознамерились сделать все правильно. Они построили новые бараки для шахтеров и только что пустили в обращение бумажные банкноты с символикой Компании, уже вызвавшие недовольство работников.
На смену я вышел через день после приезда. Работа на фабрике и на шахте – сходство бесконечное. Если берешься за что-то, понимая, что тебя ждет эксплуатация до полусмерти, а то и сверх того, не придется разбираться с рухнувшими надеждами. Мое положение усугублялось тем, что я несколько лет не занимался грубым механическим трудом, в результате чего ум заострился, а тело ослабло. Перемены оказались неприятными. Примитивные разговоры или вообще их отсутствие убивают более сложные функции рассудка, а невыносимый труд превращает телесную форму в нечто неузнаваемое – в красное полотно силы и боли.
Каким-то образом я убедил себя, что все-таки место, где ты пребываешь, чего-то значит, а то и все. Житель Стокгольма, например, после рабочей смены пожелавший посмотреть свой город, имеет такую возможность. Настоящие города световым днем не ограничены. Но желание увидеть страшные красоты Шпицбергена – затея пустая. Чередующиеся смены ничего не меняют. Летом, конечно, солнечного света предостаточно, но у меня не было желания никуда выбираться.
На время я впал в отчаяние. Я никого не знал и не говорил по-норвежски. Немногочисленные шведские контрактники сплотились в тесный круг, но я держался особняком, так же как и в Стокгольме. Одиночество, усугубленное географической изоляцией, едва не доконало меня. Тем летом я не раз и не два подумывал о возвращении домой. Но как я мог вернуться? Подобная перспектива сулила разорение. Да и разве позволила бы мне Компания разорвать контракт? Руководство шахт сочувствием не славится.
Естественно, думал я и о самоубийстве. Идея казалась мне притягательной. Но я, очень далекий от религии и ее многочисленных абсурдных утешений, собственного небытия боялся до умопомрачения. С тех пор как я был не по годам развитым, скептически настроенным ребенком, идея погасить свечу или звезду наполняла меня экзистенциальным ужасом. Я понимал, что прекращу существовать, но мир без собственной персоны в упор не представлял. Это, конечно же, форма нарциссизма, но разве мы день ото дня не живем, обманываясь собственной важностью? Дети следуют этой логике до конца, а неспособные или не желающие верить в загробную жизнь неизбежно оказываются у губительной ментальной бездны. В таком состоянии единственная возможная реакция – зажмуриться, подтянуть колени к груди и хныкать.
Во время невыносимо долгих смен в темноте особых возможностей для рефлексии не представлялось. Позволит себе шахтер замечтаться и тайком раскиснет – случается что-то плохое. Я сталкивался с таким несметное множество раз. Переполненные углем дрезины то и дело проезжали по ногам неосторожных, уродуя пальцы так, что в них потом трудно было распознать человеческие конечности, или отсекая их начисто. Кирки и кайла вонзались в мягкие ткани бедер. Спотыкаясь в темноте, шахтеры с чудовищной регулярностью раскалывали себе черепа и выбивали зубы. Куски пород падали на головы. Никто не обращал внимания на не пригодный для дыхания воздух. Или, что хуже всего, бригадиры «лентяев» громко отчитывали их, налагая дополнительные финансовые взыскания.
Многие такие неосторожности можно списать на усталость и голод, а вот на беседы свою слабую энергию шахтеры не тратят, да и фабричные работники тоже. Для всего этого в жизни слишком много шума и проблем. Поэтому люди оказываются наедине со своими мыслями, и пока одни – пожалуй, большинство – считают это пустым занятием, другие погружаются в мрачные раздумья, оставляя тело уязвимым перед разнообразным физическим уроном.
Я понимал, что отношусь ко второй группе, и за работой старался не отрешаться от окружающей действительности, хоть и реагировал на нее слабо. А вот по окончании смены, когда остальные шахтеры брели в салун, принадлежащий угольной компании, чтобы потешиться пустыми разговорами и потратить банкноты, напечатанные угольной компанией и заработанные кровью и потом, на джин и пиво, закупленные угольной компанией, я резко становился потенциально опасным для себя самого. Разумеется, меня, вопреки очевидному и мрачноватому безразличию, тоже звали в салун. Небольшая группа шведов с презрением смотрела на непросыхающих норвежцев. Но, как и во всем остальном, если долго отказываться, приглашать в итоге перестанут.
В Стокгольме меня это мало беспокоило. После смены я с определенным самодовольством мог вернуться к себе в квартиру, к своим книгам, или бродить по городу в поисках самой красивой, умной и меланхоличной шлюхи. А вот на Шпицбергене… На Шпицбергене, идти, увы, некуда, кроме холодного пустого барака, где ждут тонкий матрас на скрипучей койке и несколько драгоценных, привезенных с собой книг, которые я читал столько раз, что начали выпадать страницы. Парадокс ситуации от меня не укрылся: я приехал на Шпицберген увидеть большой – больший, чем в Стокгольме – мир, а в итоге мой мир стал ничтожно мал.
Я отчаялся. Я писал страдальческие письма Ольге, игнорируя угрызения совести за то, что она почувствует себя беспомощной или, чего пуще, виноватой в моих страданиях. Я считал дни, которые тянулись до невыносимого вяло. В ту пору я стал больше думать о моряках – участниках полярных экспедиций, которые так меня завораживали. О мрачных зимах в ледяном плену. О безнадежности. О прогрессивных капитанах, пытавшихся бороться с вялостью (и цингой) своего экипажа физическими упражнениями и театральными постановками. Читать о таком всегда было скучно. Трудно описывать бедственное положение читателю, далекому от конкретной ситуации. Теперь же я прочувствовал его на собственной шкуре. Я наконец усвоил, что в нескончаемой скуке в холодной глуши ничего романтичного нет.
7С Чарльзом Макинтайром я познакомился, когда на душе у меня было скверно. Как никогда скверно. Нескончаемые шесть месяцев я проработал среди сильнейшего физического дискомфорта, а во всех иных отношениях существовал без стимулов – образовательных, развлекательных, межличностных – необходимых человеку для здоровья тела и духа. Их отсутствие сказалось на мне самым плачевным образом. Я ковылял меж бараками, не поднимая глаз, а когда требовалось говорить, бормотал и заикался; кожа у меня стала бледной, как мясо скумбрии. Руки из карманов я вынимал, только если этого требовала работа; болевшие от холода и чрезмерной нагрузки пальцы сжимал так, что они напоминали комок переплетенных корней. Не раз и не два я спотыкался на импровизированных мостках – на плавнике и грубо распиленных сосновых досках, кое-как брошенных на замерзающую и незамерзающую грязь. Руки я держал по швам, поэтому падал ничком, уродуя покрытое синяками, бородатое лицо. В результате таких падений я потерял два с половиной зуба. Другие работники шарахались от меня. После пары месяцев работы по контракту я уже отвращал своей неприкрытой мизантропией. Теперь же мое постыдно-убогое состояние воспринималось как признак болезни или исключительного невезения. И то и другое могло быть заразным. Шахтеры в этом отношении мало чем отличаются от моряков.
А потом стало темно. Постоянно темно. Возможно, шахтер готов к этому лучше, чем моряк. Он и так просыпается до восхода солнца, работает в адском мраке и ложится спать ночью. Думаю, мало кто из нас заметил момент, когда солнце исчезло окончательно и бесповоротно. В полярных регионах зимний покров опускается с обманчивой быстротой. Буквально за две-три недели летнее солнце – секунды назад еще казалось, что оно будет светить вечно – пожирается огромными порциями, как будто ночь проснулась после долгой спячки и изнывает от голода.
Последствия постоянной темноты ощущаются не сразу. Стоит к ней привыкнуть, понимаешь, что она похожа на холод как ничто другое – больше утомляет, чем обжигает. Напоминает она, скорее, медленный яд, чем нож. Утомление наступает постепенно – порой не чувствуется неделями, – но рано или поздно сказывается. За первую зиму в Арктике я превратился в тонкую безнадежную пустую оболочку человека, сброшенную под камень. А где была моя новая, полинявшая ипостась? Почему-то она никак не появлялась.
Итак, ледяным январским вечером, когда я из столовой апатично направился к баракам, вдруг услышал свое имя, но не узнал его. Но голос звучал настойчиво, и в итоге я неохотно остановился и обернулся. За спиной у меня на досках балансировал мужчина. Я назвал бы его старым или пожилым, но в мерцающем свете фонарей он перескакивал с ноги на ногу с резвостью, не сочетавшейся с его очевидным возрастом. Седая борода торчала из-под теплого кашне под невероятным углом. Казалось, морщины выливаются у него из глаз и растекаются по лбу и щекам. Они шевелились и подпрыгивали в такт бешеной мимике. Не сразу я сообразил, что он говорит на грамотном шведском – совершенно понятном, хоть и слегка высокопарном.
– Ты Ормсон или нет? Смурной швед?
Я уставился на него в немой растерянности. Вместе с коммуникабельностью я потерял хорошие манеры.
– Ты наверняка швед, – невозмутимо продолжал седобородый. – Позволь мне представиться. Макинтайр. Моя фамилия Макинтайр, я геолог из Королевского общества. Могу я убедить тебя пойти в мое жилище, чтобы спастись от этой адской стужи?
– Вы говорите по-шведски? – наконец спросил я.
– А ты парень наблюдательный, – отозвался Макинтайр, моргнув несколько раз. Все это время его ноги притопывали, доска скрипела. У меня голова кружилась от его неугомонности. Потом он хрипло захохотал, словно мы попали в уморительную ситуацию. Макинтайр объяснил, что недолго жил в Фалуне, известном своей медной шахтой, там он и освоил шведский, хотя признавал, что норвежским владеет лучше. – Проблем с языками у меня не возникало никогда, и это очень хорошо, ведь я склонен бросать занятия, с которыми возникают проблемы. Моя бедная покойная матушка частенько на это сетовала. Пожалуйста, давай ненадолго зайдем ко мне!
– Вы работаете на Королевское общество? Вы… британец?
– Шотландец, – уточнил Макинтайр и замигал снова и снова, нервно и судорожно.
Я заворчал, медленно усваивая информацию. Давненько не приходилось мне думать о чем-то, кроме тягот уединенности во всех ее проявлениях.
– Пожалуйста, сэр, пойдемте, – настаивал Макинтайр.
И я пошел. Подпрыгивая и пританцовывая, Макинтайр вел меня по доскам к маленькой лачуге в другом конце лагеря. Я плелся следом, чувствуя, что почти не переживаю из-за того, кто этот тип и что он от меня хочет.
Совершенно непримечательная снаружи лачужка внутри оказалась совершенно не такой, как я думал. Во-первых, после уличного холода жар от печи действовал угнетающе. Два окна полностью сковала тающая изморось. Малейший сквозняк и снег, залетающий сквозь трещины в обшивке, мгновенно превращались в пар. Глубоко потрясенный, я крепко пропотел и едва не потерял сознание. В отличие от норвежцев, Макинтайр на растопке не экономил.
Еще поразительнее жара была сама эстетика жилища. Его набили вещами – обильно, бессознательно. Ковры покрывали каждый сантиметр пола и порой лежали в несколько слоев. Некоторые, на мой неискушенный взгляд, казались дорогими. Два дивана стояли перпендикулярно друг другу, оба заваленные одеялами и подушками. Два дивана! Теплый желтый свет от нескольких масляных ламп делал обстановку светлой и радостной. Макинтайр явно не экономил и на парафине.
Вдоль стен тянулись полки, только места Макинтайру все равно не хватило, потому что книги шаткими стопками стояли по углам, на приставном столе, на стуле. На маленьком столике стояли спиртовка, полупустая бутылка вина с пробкой и один стакан, хотя мягких деревянных стульев было два, по разные стороны стола. Лачуга насквозь провоняла табачным дымом и горелым ламповым маслом, сам воздух был тяжелым. Между диванами стояло что-то вроде журнального столика, почти полностью заваленного блокнотами, частью закрытыми, частью открытыми, страницы которых были испещрены каракулями. В углу, на отдельном столике, стояла вещица, подобную которой я видел лишь пару раз в жизни, – патефон.
В общем и целом, передо мной был настоящий шатер султана в миниатюре – роскошь, отделенная от унылого запустения тончайшей перегородкой. Однако лачуга Макинтайра была не путевым дворцом, а воспринималась, скорее, как гнездо. Например, я едва нашел место, чтобы снять сапоги.
Макинтайр проворно снял свои, верхнюю одежду кучей бросил в угол дивана и жестом велел мне сделать то же самое.
– Проходи, проходи, – сказал он на шведском. – Не стесняйся!
Удобно устроившись на стуле, Макинтайр стал набивать трубку. Я не успел ни раздеться, ни решить, куда сесть, а он уже вовсю затягивался. В итоге сел я на диван и начал оглядываться по сторонам, вспоминая, как ведут себя в приличной компании. В блокноты я старался не заглядывать, хотя каракули не разобрал бы, даже окажись они на шведском, что, разумеется, было не так.
Макинтайр наблюдал за мной с изумлением. Ему могло быть лет сорок или шестьдесят. Волосы, как и борода, были седые, морщины изрезали не только лицо, но и шею. Обветренные, с покрасневшими костяшками, его руки оказались неожиданно сильными, а серые, в тон бороде и волосам, глаза – ясными, живыми и, как мне сразу подумалось, полными ума и озорства. У шахтеров таких не встретишь. Макинтайр хоть и жил среди местной суеты, но сумел над ней возвыситься.
– Давай снова начнем с формальностей, – предложил хозяин лачуги. – Слишком холодно было для этого на улице. Меня зовут Макинтайр. Чарльз Макинтайр. Прежде – лондонец. Впоследствии – гражданин мира. Но мои родичи, конечно же, шотландцы. Сорванные с места шотландцы. А вы, сэр?.. Вы, хм… Мистер Ормсон?
– Свен, – ответил я, откашлявшись. – Свен Ормсон. Я из Стокгольма. То есть швед. Но вы и так это знали. – Слова вырывались судорожно.
Во взгляде Макинтайра каким-то образом мешались терпение и нетерпение. Он ждал от меня еще каких-то слов.
– Я… Как вы узнали обо мне, сэр?
– Ой, это объяснить несложно. Повседневная жизнь здесь довольно скучна, как тебе прекрасно известно. Разумеется, арктические пейзажи меня покорили – от них, дружище, дух захватывает. По твоему лицу вижу, что у тебя еще не захватывает, но ведь ты и возможности такой себе еще не дал, верно? Нет, нет, ты все долбишь этот тоскливый туннель весь день. А сейчас, конечно, еще и темное время года. Время смотреть внутрь, а не наружу. – Макинтайр остановился, нахмурив лоб, словно само упоминание глубокого раздумья запустило сам процесс. – Так, о чем я говорил?
– О том, как вы узнали мое имя, сэр.
– Ах, да. Кажется, я уже упомянул, что я геолог. Я жил во многих местах. Подробности могут подождать, но последние десять лет я с готовностью служил Джону Лонгйиру. Чтобы не быть к себе несправедливым, скажу, что и прежде для Лонгйира, и сейчас для норвежцев я играю роль разведчика. Извини за такое слово. Контекст у него неуместный. Королевское общество, увы, не благоволит тем своим членам, которые занимаются наукой не ради открытий, а, скажем так, ради выгоды. Я пользовался доверием мистера Лонгйира и, так уж случилось, радовался компании американцев. – Год назад, когда американцы ушли, и Лонгйирская арктическая угольная компания превратилась в Норвежскую государственную горнодобывающую компанию, Макинтайр, по его словам, подписал контракт с норвежцами. – Можно сказать, дружище, что здесь, в Лонгйире, я с самого начала.
Я постарался «нарисовать» на лице добродушное безразличие. Я уже чувствовал расположение к Макинтайру, но при этом пребывал в полной растерянности.
– Вернемся к вам, мистер Ормсон. Вы сочтете непростительным, если я скажу, что считаю норвежцев страшными занудами? Наверное, нет. Наверное, вы слишком хорошо понимаете, о чем я. В управлении Компанией норвежцы сменили американцев, а значит, я почти начисто лишился интересных разговоров. Норвежцы такие мрачные. Такие серьезные. Их управляющие организуют работу с безустанной монотонностью, потом они пьют, пьют до тех пор, пока едва стоят на ногах, а их чувство юмора от выпивки не улучшается. Кто-то даже скажет, что оно ухудшается. А местные шахтеры… Ну, ты знаешь шахтеров.
Я смотрел на Макинтайра с большим недоверием. В отношении норвежцев он, конечно же, не ошибся. И характеристику он подобрал точную – полное отсутствие у них чувства юмора в Швеции считают убедительно доказанным. Но вдруг он ищет во мне яркого собеседника?
Макинтайр выдерживал паузу – похоже, ему нравилось анализировать собственные фразы, озвучивать их, потом проверять на достоверность.
– Если позволишь, то шведы немногим лучше. Они, так сказать, на один покрой. Суровый климат порождает суровых людей. Ведь именно эти качества заставили их морем добраться до Англии, да еще столь жуткой численностью? Хотя разве я вправе судить? Посмотри на шотландцев! Других таких брюзгливых ханжей-резонеров свет не видывал.