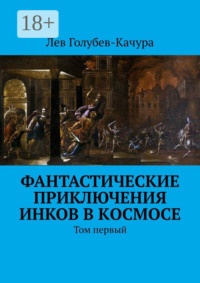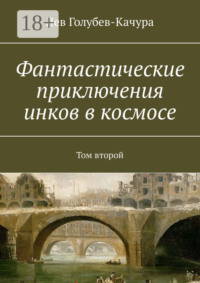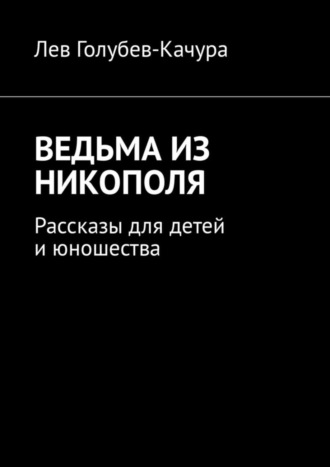
Полная версия
Ведьма из Никополя. Рассказы для детей и юношества
Дядя Григорий – хозяин лошадей и телеги. Он весь путь беспокоился о них: старался всеми способами облегчить им дорогу, садился в телегу только на равнине или на спуске с очередного подъёма.
Я сидел в телеге на наших вещах, и хворостиной подгонял левую, пристяжную лошадь. Она поворачивала голову в мою сторону, косила на меня фиолетовым глазом, когда я замахивался на неё, но шагу не прибавляла. По-видимому, она не считала меня, а тем более мою хворостину, серьёзной угрозой для себя.
Папа с мамой подталкивали телегу сзади.
Дорога, вся в ухабах, с глубокой колеёй размокшей после первых весенних дождей, была настолько тяжела, что даже я, несмышлёныш, это понимал.
Поэтому, после каждого трудного подъёма останавливали лошадей, и давали им отдохнуть.
Дядя Григорий забрал нас с железнодорожной станции сегодня утром, часов в восемь, а сейчас было четыре часа пополудни, так сказал папа, посмотрев на циферблат своих командирских часов.
Солнце всё ещё было высоко над головами, но жары не было.
Мошка вилась над лошадьми и тихонько звенела.
Лошади, отдыхая, помахивали хвостами, и прядали ушами, отгоняя мошку.
Вокруг, почти вплотную к дороге, примыкал лес – дубы, вязы, а кое-где проглядывали ели с их вечно зелеными иголками. В лесу сумрачно и сыро. Оттуда доносился запах прели, и изредка одинокое кукование кукушки.
Окружающее, не смотря на ясный солнечный день, навевало тоску и боязнь чего-то неизвестного, поднимало из глубины души какое-то томление, скорее всего страх.
Я боялся! Правда, боялся!
Шёл послевоенный 1946 год. Мы находились в самом сердце Западной Украины, и вокруг нас стоял вековечный лес – какой-то притихший, настороженный.
Мы добирались до нового места жительства, и до нового места работы папы.
Мама долго сопротивлялась переезду сразу всей семьёй, но папа сумел её уговорить, и она, поплакав, согласилась.
Моё мнение, конечно, в расчёт не принималось – что может предложить семилетний мальчишка, не имеющий жизненного опыта и знаний об окружающем его мире.
Так мы оказались здесь, на этой лесной дороге, в этом хмуром, неприветливом лесу.
Дядя Григорий – малоразговорчивый украинец, обутый в солдатские сапоги и выцветшую, когда-то, по-видимому, зелёного цвета фуфайку военного образца – был среднего роста, сухощав и очень подвижен. Он без устали, попыхивая дымком козьей ножки – то шагал рядом с телегой, то кормил и поил лошадей, то бегал за хворостом для костра вовремя остановок на отдых.
Смотря на него, мне казалось, что он даже спит не в постели, а как породистая лошадка, на ногах. Местный житель – он хорошо знал округу и живущих здесь людей, имел большое количество знакомых и друзей. Хмурый с виду – это был добрейшей души человек.
В этом я убедился за время нашего нелёгкого пути по лесной дороге. А потом, в разговорах у костерка, мы постепенно узнали и кое-что из его жизни:
Он воевал. За время войны был дважды ранен и оба раза легко. Повезло, сказал он смущённо, и начал подкладывать ветки в костёр. За оба ранения я получил две жёлтые нашивки и медаль «За отвагу».
Всякого насмотрелся, продолжал он рассказывать, даже страх испытывал, особенно, когда нужно было вылазить из окопа и идти в атаку.
Вокруг пули посвистывают, мины разрываются – вот тут-то, закроешь глаза, прочтёшь молитву, иии… с Божьей помощью вперёд, в атаку. Даа… всяко бывало. Есть о чём вспомнить за свою военную жизнь…
А хотите, я вам один случай расскажу, предложил он нам. Тут разговор про атаки и марш-броски не пойдёт. Скажу прямо, как случившееся назвать, сам до сих пор не решил, но никогда, до самой смерти, события произошедшие со мной в тот день не забуду.
– Хочу, хочу! – быстро проговорил я, и даже привстал от нетерпения.
А папа с мамой лишь молчаливо покивали головами. Наверное, тоже хотели послушать рассказ.
Хотите, верьте, хотите – нет, начал он тихим голосом, помешивая деревянной ложкой в котелке, и пробуя варево на «соль», но такой, значит, со мной случай приключился…
Он немного помолчал, подложил несколько веток в костёр и, закурив свою неизменную козью ножку, стал медленно, по-видимому, вспоминая события прошлых дней, или вновь переживая случившееся, рассказывать.
Его украинская речь, перемежаемая русскими словами для большей нашей понятливости, так объяснил он нам – была певуча и красива.
Мы с папой всё прекрасно понимали, а мама – тем более. Она украинка – родилась в Никополе.
Затаив дыхание и боясь пропустить хоть слово, я слушал старого солдата.
Я много раз слышал рассказы отца о войне. Он воевал в артиллерийском полку, имел звание капитана, но его рассказы, как-бы правильнее выразиться, были более скупыми, менее насыщенными подробностями, что в итоге так уменьшает красоту любого рассказа-воспоминания.
В них преобладала техническая сторона – калибр, азимут, горизонт, навесной огонь и другие, непонятные для моего разума слова. Поэтому, рассказ дяди Григория я слушал, как сказку, открыв рот от изумления, и с восторгом ожидая следующих слов. Да он и походил на чудесную сказку.
* * *
…Стояли мы, значит, в одном небольшом прусском городишке, вёл свой рассказ дядя Гриша, на отдыхе и, понимаете, расквартировали нас в старинном Рыцарском замке. Городишко – название я сейчас не могу выговорить, потому как я немецкому языку не обучен, располагался на невысокой горе, а замок – на самой вершине. Этот городок мы отбили у немцев дня два назад.
Так вот… нас оставили охранять замок, а заодно и отдохнуть. Вымотались мы за дни боёв до невозможности…
– Дядя Григорий! А, замок… взаправдашний? – перебил я его, любопытствуя. – Высокий?
Мама шикнула на меня, и я замолк, а дядя Григорий, сделав пару затяжек из козьей ножки и выпустив дым из ноздрей, продолжил: «Разместились мы в большой комнате, в первом этаже. Комната огромная, квадратная – метров по двадцать каждая стена в длину, и все стены увешаны коврами и картинами, представляете?
На коврах развешаны кинжалы, сабли, ружья старинные. Всё искусно украшено затейливой резьбой и отделано золотом и серебром.
Портреты людей там тоже были, и здорово так нарисованы!
На них, по-видимому, вся родословная здешних хозяев выставлена была, чтобы, значит, потомки не забывали об своих родственниках и перед другими хвастались.
Знаете, почти все они в париках до плеч, а на некоторых, шляпы с перьями…. А орденов то на них навешано, а медалей…, ну чистые генералиссимусы!
А на двух картинах, что висели поближе к выходу, сцены охоты с собаками…
Одно слово – красота! Как в музее!
Даа…, по-видимому, хозяева не успели всё это добро вывезти или спрятать, а может не захотели? Думали, наверное, ихняя доблестная армия не допустит нас сюда. Но мы быстро и упорно наступали – чувствовали, скоро войне конец, а фашисты-то уже были на последнем издыхании.
Докурив козью ножку, он поднялся, ещё раз попробовал варево и, сказав – готово! – поставил котелок на землю, подальше от огня.
Мама достала чашки и ложки, нарезала хлеб, а дядя Гриша вытащил из своего армейского мешка кусок сала, посыпанного крупной солью и красным перцем.
Оно выглядело так аппетитно, так аппетитно, что у меня полный рот слюней набрался – я даже не успевал их глотать.
Дядя Григорий отрезал каждому по ломтю, а остальное, завернув в расшитое цветочками полотенце, положил назад в вещевой мешок.
Когда пшённая каша и сало были съедены, стали пить чай.
Утолив голод, я с нетерпением стал посматривать на дядю Григория – я ждал продолжения рассказа! У меня от ожидания даже спина почему-то зачесалась…, или это у всех так?
Немного о чём-то поразмышляв, дядя Гриша собрался было продолжить свой рассказ, но папа, ну совершенно не вовремя по моему разумению, перебив его не начавшееся повествование, предложил папиросу. Я, нетерпеливо ёрзая, ждал, пока они прикурят свои папиросы.
Какое это мучение ждать продолжения интересного рассказа, и не мочь поторопить рассказчика!
Наконец дядя Гриша, выкурив почти половину папиросы, задумчиво посмотрел на меня и поинтересовался:
– Так на чём я остановился, хлопчик, не подскажешь?
– На замке…. На замке и на картинах! – быстренько, чтобы поторопить его, напомнил я.
Меня очень заинтересовал дядин Гришин рассказ, и я жаждал услышать его продолжение.
Даа, так вот…, раздумчиво, медленно, возобновил он свой рассказ:
Мы, никогда не видавшие такую красоту, стали с интересом всё это рассматривать и трогать руками, а некоторые из нас стали снимать оружие со стен и примерять на себя.
Нас было восемь человек – почти отделение. Все мы из разных деревень, разного роду-племени, и мы были любопытны, словно дети. Рассматривая портреты, я удивлялся мастерству художников, написавших их, и, кажется, даже цокал языком. Врать не буду – может это я «цокал» при другом случае, не помню.
Люди на портретах были, как живые, а один на портрете, мне наверно померещилось, даже пару раз моргнул.
Подумав, что это мне «показалось» после выпитой солдатской чарки пущенной по кругу, я сразу же выбросил это из головы, и постарался забыть. Зачем голову заморачивать пустым, решил я?
Побродив по замку и налюбовавшись его красотами, мы постепенно угомонились и стали располагаться, кто как может, и где может, на ночлег.
Командир отделения приказал тушить свет и прекратить разговоры. «Всем спать!» – строго повторил он.
Мы очень устали за прошедшие дни боёв, и предоставленный нам день отдыха – был заслуженной наградой за наш тяжёлый, ратный труд.
Спал я крепко, тяжёлых снов не видел, и никакие предчувствия вечером меня не томили.
Проснулся я сразу от ударившего в глаза света. Приподняв веки, я подумал, что у меня галлюцинация, и не сразу сообразил, что к чему.
Окружив нас плотным кольцом, с автоматами наизготовку, стояло десять-пятнадцать немецких солдат во главе с офицером. Один портрет на стене отсутствовал, а на его месте зиял проём открытой двери – это я почему-то сразу заметил.
Офицер, очень похожий на одного из нарисованных на портретах, резким, командирским голосом прокричал: «Aufshtain! – russische schvain!» И коверкая слова, по-русски, добавил: «Встьять собъяки!» А потом ещё, словно пролаял: «Hende hoh!».
Кто-то из наших, медленно поднимаясь, проворчал: «Отдохнули! Мать твою!».
Над нашими головами ярко светила равнодушная ко всему происходящему в комнате, хрустальная люстра.
Захваченные врасплох, да ещё спросонья, мы не успели схватиться за автоматы, и поэтому, хмуро поглядывая на немцев, вставали безоружными.
Краем глаза я заметил, как сержант неожиданным движением руки выхватил из ножен свой нож и резко метнул его в офицера. Скорее всего он попал – потому что раздался болезненный стон, и в то же мгновение прозвучала резкая, как удар хлыста, команда офицера: «Fojar!»
Я этот лающий голос никогда не забуду!
Словно десяток швейных машинок застрочили автоматы немцев. Какая-то пуля ударила меня по ноге – нога подкосилась, и я упал, потеряв от страшной боли сознание. Пришёл я в себя, когда кто-то снял с меня тяжесть, давившую на грудь.
Открыв глаза, первое, что я увидел – тело сержанта…, мёртвого. В него попали первые пули и, случайно, он своим телом закрыл меня.
Так я получил своё первое лёгкое ранение.
Откуда взялись немцы? – посмотрел он на меня, догадавшись о моём не высказанном вопросе, и попытался объяснить: немцы всё то время, что мы находились в замке, прятались в потайном ходе за дверью, скрытой одним из портретов на стене, я так думаю.
Наши часовые, услышав стрельбу, подняли тревогу – тревожная группа ворвалась в замок, но никого, кроме убитых, не увидела. Всё было на месте – комната была пуста, кроме нас конечно, и кто стрелял – неизвестно.
Я, придя в себя, указал им на портрет и сказал, что немцы, наверное, пришли оттуда, потому что я видел там открытый проём.
Больше часа ушло, чтобы найти секрет открывания двери. Проверили подземный ход – в нём никого не было. Немцы ушли в неизвестном направлении. Куда ушли? Господь один знает.
Мы молчали, каждый из нас, наверное, думал о своём, я так считаю.
Папа, закурив новую папиросу, сказал: «Даа…, вам несказанно повезло, Григорий! Такое везение случается раз в жизни и то, не у всякого. И после небольшой паузы, добавил: «Значит, судьба не захотела, чтобы вы погибли. Для чего-то вы ещё были нужны ей».
Мне очень понравился рассказ дяди Гриши. Жаль только – наши не поймали немцев.
Я, разохотившись слушать, хотел уже попросить ещё что-нибудь рассказать интересное, но дядя Григорий, посмотрев на небо, сказал: «Пора ехать!»
Мама стала собирать оставленную на время рассказа посуду, а он, слегка помахивая кнутом, пошёл к лошадям.
Глава вторая
Вокруг был всё тот же хмурый, тревожный лес. Пристяжная лошадка всё также ленилась, лишь коренник добросовестно зарабатывал себе на пропитание.
Дядя Гриша почему-то хмурился, и в глазах у него, я иногда замечал, нет-нет, да проскальзывала тревога. Он, подозвав к себе папу, о чём-то долго с ним разговаривал.
Вернувшись к нам, папа сказал, что в этом районе пошаливают, не до конца выловленные в лесах, бандеровцы, и что Григория это очень тревожит. Как бы нам не нарваться на них. Могут и расстрелять! – предупреждает он.
Мама, выслушав папу, тут же «завелась», как однажды сказал он ей, не при мне, конечно, я это нечаянно услышал.
– Я же говорила тебе, Вячеслав, ехай один – устроишься на працю, тогда и заберёшь нас! – громко, перемежая украинские и русские слова, и всё более распаляясь, заговорила она.
Она чуть ли не кричала: «Ещё и ребёнка везём с собой, на погибель!»
Папа, пытаясь её успокоить, всё повторял: «Перестань, Вера! Всё будет хорошо. Наконец – это только предположение Григория. – Мне в „конторе“ сказали – здесь тихо».
Постепенно мама перестала ругаться, и уже не так хмуро смотрела на папу. Но тревога, появившаяся в её глазах, не проходила.
До «Миста», так назвал наш конечный пункт дядя Гриша, осталось, как он сказал – «трохи, ну, мабуть, киломэтрив пьять, а може мэньше».
Напуганный папиными словами, я внимательно всматривался в окружавший нас лес и кустарник, и всё ждал, когда же из кустов выскочат бородатые дяденьки-бандеровцы – и дождался на нашу голову!
Мама, потом, когда мы уже были в безопасности, мне шутя сказала: «Цэ ты, сынку, притягнув йх».
Впереди, метрах в ста пятидесяти, перегораживая колею, лежало дерево.
Папа, увидев его – побледнел, а мама прижала меня к себе одной рукой, а другой, прикрывая рот, наверное, чтобы не закричать, прошептала: «Ой, лышенько! Смертушка наша прыйшла!»
Дядя Гриша, натянув вожжи и сказав «Тпру!», остановил лошадей.
На мой неискушённый взгляд, так он мог бы и не «тпрукать» лошадям. Дорога-то была перегорожена, и они сами бы остановились перед загорожей. Они же не кони-птицы какие-нибудь, чтобы летать через поваленные деревья.
– Шо будэмо робыть? – спросил он у папы и как-бы у самого себя.
Посовещавшись несколько минут, они решили продолжить путь, надеясь на лучшее.
Разворачивать коней и телегу в обратную сторону, тем более в такой ситуации, не имело никакого смысла. И ещё одно соображение имелось в запасе, а вдруг дерево само упало… от старости? Между папой и дядей Григорием завязался серьёзный разговор.
Мы не доехали метров около двадцати до поваленного дерева, как из ближайших кустов вышел, держа в руках направленный на нас автомат, одетый в полувоенную форму, человек. На нём были солдатские шальвары, заправленные в кирзовые сапоги и тёмный, помятый пиджак поверх сатиновой, не первой свежести, рубашки, а на голове залихватски, набекрень, сидела военная фуражка, без звёздочки.
Лошади, дойдя до загорожи, остановились сами.
Бандеровец, а в этом я теперь совершенно не сомневался, картинно держа автомат перед собой, махнул рукой, и из леса вышли ещё двое – почти также одетые, и державшие в руках винтовки с облезлыми прикладами.
Мы с мамой сидели, ни живы, ни мертвы, и боялись даже пошевелиться – это я о себе. Но, в то же время меня разбирало сильное любопытство, и я во все глаза рассматривал их.
Вот они, оказывается, какие – бандиты! И совсем они не страшные, решил я, когда шок от их неожиданного появления у меня немного прошёл.
Бандеровцы подошли к телеге: заросшие щетиной лица; запах давно не мытых тел; и тяжёлый, какой-то затравленный, исподлобья, взгляд, так мне показалось. Такой взгляд я однажды видел у бездомной собаки, которую мы с мальчишками гоняли как-то.
Первый, который покартинистее, оглядел нас и, задержав на несколько секунд взгляд на маме, подошёл к дяде Грише, и стал с ним разговаривать.
– Дядько! Куды трапыш, кого вэзэш?
Он, искоса посматривая на маму и папу, спрашивал по-украински, а потом, ещё раз посмотрев на папу, добавил: «Докумэнт маешь, чи, ни? – А баба, та хлопэць, теж мають який-нито, докумэнт, чи тэж, нэ мають?»
– Який докумэнт? – встревожено заговорил дядя Григорий, – як шо справка из сильского Совету…? Так е! – Ось вона, дывысь, сказал он, и полез рукой под фуфайку, чтобы достать справку, наверное.
– Стий, дядько! – неожиданно приказал бандеровец. – Высунь свою граблюку назад! Та потыхэньку, добавил он, быстро отступив на один шаг от дяди Григория: – И обратившись к нам, показал автоматом на землю:
– Уси злазьтэ! Як шо нэ так, зразу стриляю! – Степан, возьмы йих на прицел, приказал он другому бандеровцу, и добавил уже опять нам: «Злизэтэ, ось тоди и будэмо балакать.
Тощий, словно щепка, долговязый бандеровец, не говоря ни слова, направил свою винтовку в нашу сторону, и угрожающе клацнул затвором.
Вот тебе и «хорошие» дядечьки, снова испугался я.
…А ты, Мыкола, сказал предводитель третьему бандеровцу, провирь «кабриолету» – щегольнул он знанием лошадиного транспорта.
Мы с мамой послушно, но с опаской, слезли с телеги, и отошли шага на два-три чуть в сторону.
Пока Мыкола шарил в наших вещах на повозке, мама ругалась на него за неаккуратность, и довела его таки до того, что он, наверное, не выдержав, гаркнул: «Цыц, стервозо! В том свити цацки, та платя – нэ трэба будэ!». Мама, словно споткнувшись на всём бегу, замолчала, и только лицо её пылало жаром от возмущения и женского бессилия.
Папа был бледен. Сжав кулаки так, что побелели костяшки пальцев, он не произнося ни слова, наблюдал за происходящим, и было видно, с каким трудом ему давалось это молчание.
Закончив осмотр вещей, и не найдя оружия, Мыкола забрал сало и остатки хлеба, прихватив заодно пару маминых красивых полотенец.
Видно было, мама что-то хотела сказать резкое, но взглянув на папу, промолчала, хотя и с видимым усилием.
Я помню, с какой любовью и старанием она вышивала эти полотенца, сидя у плиты в бабушкином доме. Какое это было счастливое время, мельком подумал я и, с неослабевающим интересом продолжил наблюдать за всем происходящим вокруг меня.
Мне кажется, что я тогда еще не до конца понимал серьёзности нашего положения. Но когда главарь, плотоядно улыбаясь, подошёл к папе и маме, и сказал: «Зараз я буду робыть обыску!» – лицо у папы изменилось.
Вот тут я испугался! По-настоящему испугался! Сейчас должно что-то произойти, со страхом подумал я, и весь сжался от предчувствия чего-то страшного-страшного. С таким лицом, какое сделалось у папы, идут на всё, даже на смерть! Я об этом сам догадался, несмотря на свой детский возраст и полное отсутствие жизненного опыта. Я даже не догадался, я почувствовал, и слёзы страха стали скапливаться в моих глазах.
По-видимому, главарь это тоже почувствовал. На мгновение замерев, он неожиданно повернулся к дяде Грише и резко приказал ему: «Завэртай свий шарабан до лису! Бачиш колию! – А вы геть за ним!» – повернулся к нам старший.
И обратившись к своим товарищам, строго приказал: «Мыкола, Степан, доглядайтэ за усима. Як що побигнуть – стриляйтэ! – Я пиду у пэрэд, а вы з конямы и заарэштованными гонить до базы!»
Делать нечего. Повернув лошадей в просеку, последовали за главарём в самую глубь леса. Дядя Григорий вёл лошадей за повод, а мы шли за телегой под конвоем двух бандеровцев.
Метров через двести-двести пятьдесят, в лесу трудно определить расстояние, особенно для меня, старший бандеровец свернул на какую-то тропинку и исчез в кустах.
Следовавшая за нами охрана, как только не стало возле них командира, повесив винтовки на плечо, закурила цигарки и завела неспешный разговор.
Папа, достав коробку папирос «Казбек», тоже хотел закурить, но второй охранник, не долговязый, крикнул грубым, пропитым голосом: «Дай сюды!» – протянул руку и выхватил папиросы.
По-видимому, Мыкола по какой-то непонятной для меня причине, был не в духе.
Не меняя порядка: дядя Гриша, лошади с повозкой, и мы со своими «сопровождающими», следовали по лесу минут сорок. Я очень устал и стал спотыкаться. Мама, повернув голову к конвоирам, обратилась к долговязому Степану с просьбой:
– Послухайтэ, люди добри! Нэхай хлопчик зализэ у бричку, а? Йому ж тяжко.
– Ничого йому нэ зробыця! – ответил Мыкола вместо Степана.
– У вас шо, своих дитэй нэма? – уговаривала их мама, – казна шо кажетэ!
– Иды, хлопчик, сидай, – разрешил Степан, махнув рукой в сторону повозки. – Мыкола, воно ж ще малэ, добавил он, повернувшись к товарищу.
Я, уцепившись за повозку, влез и блаженно растянулся на вещах. Ноги «гудели» от усталости, а лицо моё было мокрым от пота. Наслаждаясь отдыхом, я подумал: «А, совсем они не страшные – эти бандиты. Правда, если подумать хорошенько, то Мыкола – нехороший, злой. Но это, наверное, от голода…. Вишь, как на сало с хлебом набросились. У них, что, в лесу нет бабушки, чтобы галушки сварить?»
Проехав ещё немного, мы перебрались через какую-то мелкую речушку и оказались у цели нашего затянувшегося передвижения, у «базы».
Перед нами, на небольшой поляне окружённой густым лесом, расположились несколько, покрытых выгоревшим на солнце дёрном, землянок. У одной из них горел небольшой бездымный костёр, и оттуда доносился запах какого-то варева.
По-видимому, кем-то заранее предупреждённые, нас ожидали около двадцати-двадцати пяти бандеровцев – по-разному одетых и с различным оружием в руках.
Молодые и пожилые – все они были на одно лицо: усталые, угрюмые, а в глазах, обращённых в нашу сторону, проглядывалась обречённость.
От таких людей ждать хорошего – напрасная трата времени, решил я, и постарался как можно плотнее вжаться в наши тюки, вжаться так плотно, чтобы стать совсем незаметным для постороннего любопытствующего взгляда.
Из середины этой разношёрстной толпы, в сопровождении нашего бывшего «старшего», вышел бандеровец, одетый в кожаную куртку и с двумя наганами в кобурах.
Наши охранники заставили меня слезть с фуры и, подталкивая меня, папу и маму в спины, подвели к «кожаному», и приказали остановиться. Дядю Григория они тоже не забыли.
Я прижался к маме, обхватив её руками.
– Кто такие, будете? – по-русски, но с украинским акцентом, спросил главарь, глядя на отца. – И, не дожидаясь ответа, продолжил: «Зачем пожаловали в наши Палестины?»
Затем, опять не дожидаясь ответа, обратился к сопровождающим нас бандэровцам: «Обыскали задержанных?»
Те, потупившись, промолчали. Вместо наших двух конвоиров ответил их старший, сказав, что они обыскали нас и повозку – оружия не нашли.
– Так, кто вы? – вновь повернувшись в сторону папы, обратился главарь.
В разговор неожиданно вступил дядя Григорий, Он, показав на нас пальцем, по-украински, стал многословно объяснять (а я то думал, он молчун!), что мы дальние родственники его двоюродной тётки и, он везёт нас к себе в гости. Потом стал перечислять каких-то своих родственников в этом и других районах…
Совсем выдохшись и вспотев от страха за свою жизнь и, я думаю, за нашу тоже, оглядел окруживших нас бандитов.
…А можэ, после небольшой паузы добавил он, чоловик и його дружина найдуть у нас яку нэбуть працю, та й зовсим залышатся тут.
Из толпы раздался чей-то грубый голос: «Брэше, сучий сын! Цэ вин москалей вэзэ до миста! Повисыть його та москалей!» В толпе дружно захохотали.
И тут случилось то, чего никто не ожидал!
Все опешили, я так думаю, от неожиданности.
– Повисыть нас?! – закричала в толпу мама. – Яки мы москали, га?! Вы тильки гляньтэ на того недоумка! Вин зовсим з глузду зйихав! – и такая ярость была в глазах и голосе моей мамы, что вблизи стоявшие бандиты попятились от неё.
– Замовчь, скаженна жинка! – раздался голос нашего «старшего», – нехай твий чоловик шо нэбуть скаже, а то вин усэ мовчить, та мовчить, як той глухонемой.
Все обратили свои взоры на папу.
Он стоял бледный, но в нём не чувствовалось страха. Сжатые кулаки, да ходившие под кожей лица желваки, говорили о большом нервном напряжении, но никак не о страхе перед вооружённой разношёрстной толпой.