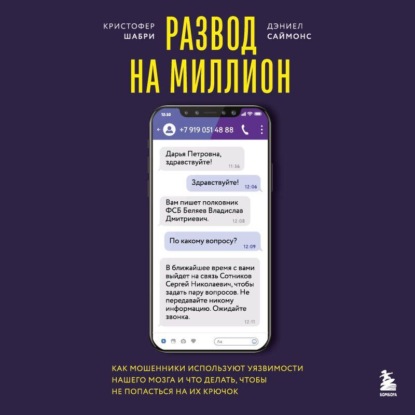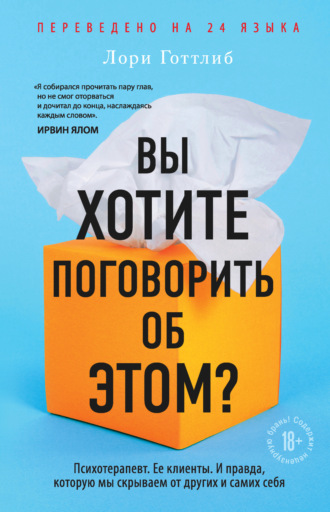
Полная версия
Вы хотите поговорить об этом? Психотерапевт. Ее клиенты. И правда, которую мы скрываем от других и самих себя
Мы с Уэнделлом обсудили тот факт, что я притворялась, будто не замечаю некоторых моментов из истории Бойфренда, фраз и сигналов тела, чтобы не услышать звоночек в голове, который давно бы уже трезвонил, обрати я на них внимание. А теперь Уэнделл спрашивает, не сохраняю ли я ту же дистанцию с ним, закопавшись в свои заметки и усевшись так далеко от него. Это тоже помогает защитить себя?
Я снова изучаю схему расположения диванов.
– Разве большинство людей садится не сюда? – спрашиваю я со своего сиденья у окна. Я уверена, что никто не садится на диван рядом с ним, так что место D отпадает. А место В, наискосок от него, – кто сядет так близко к психотерапевту? Опять же, никто.
– Некоторые садятся, – говорит Уэнделл.
– Правда? Куда?
– Куда-то сюда, – Уэнделл проводит рукой между мной и местом В.
Внезапно расстояние между нами кажется огромным, но я все еще не могу поверить, что люди садятся так близко к Уэнделлу.
– То есть некоторые приходят в ваш кабинет в первый раз, оглядывают комнату и плюхаются прямо здесь, даже несмотря на то, что вы сидите в паре сантиметров?
– Да, именно так, – просто говорит Уэнделл.
Я думаю о коробке с салфетками, которую он подбросил мне: она стояла на столике около места В, потому что – доходит до меня – большинство людей обычно садятся там.
– Ох, – говорю я. – Мне пересесть?
Уэнделл пожимает плечами.
– На ваше усмотрение.
Я поднимаюсь и пересаживаюсь. Мне приходится сдвинуть ноги чуть в сторону, чтобы не касаться его. Я замечаю намек на седину в корнях его темных волос. Обручальное кольцо на пальце. Я вспоминаю, как просила у Каролины порекомендовать мне – моему «другу» – женатого мужчину-специалиста, но теперь, когда я здесь, это не имеет значения. Он не встал на мою сторону и не объявил Бойфренда социопатом.
Я поправляю подушки и стараюсь устроиться поудобнее. Ощущается странно. Я заглядываю в свои заметки, но сейчас мне не хочется их читать. Я чувствую себя беззащитной, и мне хочется бежать.
– Я не могу здесь сидеть, – говорю я.
Уэнделл спрашивает почему, и я отвечаю, что не знаю.
– Незнание – это неплохо для начала, – говорит он и это звучит как откровение. Я трачу столько времени, пытаясь понять происходящее, гоняясь за ответом, но ведь можно и не знать.
Мы оба молчим какое-то время, потом я встаю и двигаюсь подальше, примерно на середину между местами А и В. И снова могу дышать.
Я думаю о фразе писательницы Фланнери О’Коннор: «Истина не меняется в зависимости от нашей способности ее переварить». От чего я защищаюсь? Что не хочу показывать Уэнделлу?
Все это время я говорила Уэнделлу, что не желаю Бойфренду зла (например, чтобы его следующая девушка застала его врасплох) – я просто хочу вернуть наши отношения. Я с честным лицом говорила, что не хочу мести, что не ненавижу Бойфренда, что я не зла, лишь растеряна.
Уэнделл слушал и отвечал, что он на это не купится. Очевидно, я хотела возмездия, я ненавидела Бойфренда, я была в бешенстве.
– Ваши чувства не обязаны совпадать с вашим видением того, какими они должны быть, – объяснял он. – Они будут, несмотря ни на что, так что вы можете с тем же успехом радоваться им, потому что они содержат важные подсказки.
Сколько раз я говорила нечто подобное своим пациентам? Но сейчас я чувствую себя так, словно слышу это в первый раз. Не суди свои чувства, обращай на них внимание. Используй их как карту. Не бойся правды.
Мои друзья, моя семья – все они, как и я, не могли признать возможность того, что Бойфренд был просто обычным парнем, запутавшимся в противоречиях, а не лжецом и эгоистом. Они также не думали, что даже если Бойфренд сказал себе, что не может жить с ребенком, есть вероятность, что он не мог жить и со мной. Может быть, подсознательно, я слишком сильно напоминала ему родителей, или бывшую жену, или женщину, которую он упоминал лишь однажды – которая разбила ему сердце, когда он еще был в аспирантуре. «Я решил, что никогда не допущу чего-то подобного снова», – сказал он в начале наших отношений. Я попросила его рассказать какие-то детали, но он не захотел продолжать, а я, вступив в сговор с его избеганием, не стала настаивать.
Уэнделл, однако, просил меня рассмотреть то, как мы избегали друг друга, прячась за романтикой, шутками и планами на будущее. И теперь мне больно, и я сама накручиваю себя на страдания – а мой психотерапевт в буквальном смысле пытается впинать в меня здравый смысл.
Он меняет положение ног – с правой поверх левой на левую поверх правой; некоторые психотерапевты делают так, когда ноги начинают уставать. Сегодня его полосатые носки сочетаются с полосами на кардигане, как будто они продавались комплектом. Он указывает подбородком на бумаги в моих руках.
– Не думаю, что вы найдете ответы в этих заметках.
Вы горюете о чем-то большем: эта фраза всплывает у меня в голове подобно песне, от слов которой невозможно избавиться.
– Но если я не буду говорить о разрыве, мне нечего будет сказать, – настаиваю я.
Уэнделл качает головой.
– Вы найдете много всего важного.
Я слышу его и одновременно не слышу. Всякий раз, когда Уэнделл подразумевает, что дело не просто в Бойфренде, я отталкиваю его, так что подозреваю, что он прав. То, от чего мы активнее всего защищаемся, чаще всего является как раз тем, к чему стоит внимательнее присмотреться.
– Может быть, – говорю я. Но мне неймется. – Кажется, нужно перестать пересказывать вам слова Бойфренда. Но еще кое-что? Это последнее, правда.
Он вздыхает и делает паузу, колеблясь, словно хочет сказать что-то, но не делает этого. Затем соглашается. Он достаточно на меня надавил, и он знает об этом. Разговоры о Бойфренде – мой наркотик; Уэнделл лишил меня этого на слишком долгую минуту, и сейчас мне нужна еще одна доза.
Я начинаю рыться в листах, но не могу вспомнить, где остановилась. Я просматриваю заметки, чтобы понять, какой из цитат я собиралась поделиться на сей раз, но там так много сносок и заметок, и вдобавок я чувствую на себе взгляд Уэнделла. Интересно, что бы я подумала, если бы кто-то вроде меня сидел в моем кабинете. Хотя, вообще-то, я знаю. Я бы думала о заламинированной фразе, которую мой офисный приятель разместил среди рабочих файлов: «Мы постоянно делаем выбор: избегать боли или терпеть и, следовательно, изменять ее».
Я откладываю свои заметки.
– Ладно, – говорю я Уэнделлу. – Что вы хотели сказать?
Он объясняет, что моя боль ощущается так, словно она не в настоящем, а одновременно в прошлом и в будущем. Психотерапевты много говорят о том, как прошлое передает информацию в настоящее – как наши истории влияют на образ мыслей, чувства и поведение, как в какой-то момент мы должны забыть о несбыточной мечте создать лучшее прошлое. Если не принять идею того, что прошлое не изменить – как бы мы ни пытались заставить своих родителей, братьев и сестер или партнеров исправить случившееся годами ранее, – оно будет держать нас на коротком поводке. Изменить свое отношение к прошлому – база психотерапии. Но мы гораздо меньше говорим о том, как наше отношение к будущему влияет на настоящее. Оно может быть такой же мощной преградой на пути перемен, как и отношение к прошлому.
На самом деле я потеряла больше, чем просто свои нынешние отношения. Я потеряла свои отношения в будущем. Нам свойственно думать, что будущее случится когда-то потом, но мысленно мы проецируем его каждый день. Когда в настоящем все рушится, вслед за ним в пыль превращается и будущее, построенное на его реалиях. А отсутствие будущего – благодатная почва для любых сюжетных поворотов. Но если тратить свое настоящее на восстановление прошлого или попытки контролировать будущее, мы останемся привязанными к одному месту, пребывая в вечном сожалении. Выслеживая Бойфренда через интернет, я смотрела, как развивается его будущее, а сама в это время застыла в прошлом. Но если я живу настоящим, я должна принять утрату своего будущего.
Могу ли я перетерпеть боль – или все-таки хочу страдать?
– Итак, – говорю я Уэнделлу, – полагаю, я должна перестать допрашивать Бойфренда и следить за ним.
Он снисходительно улыбается – как улыбнулся бы курильщице, которая заявила, что немедленно бросает, но не осознает, насколько амбициозно это звучит.
– Или хотя бы попытаться, – говорю я, отступая. – Проводить меньше времени в его будущем, больше в своем настоящем.
Уэнделл кивает, затем дважды хлопает себя по ногам и встает. Сессия закончена, но я хочу остаться.
Мне кажется, мы только начали.
11
Прощай, Голливуд
В первую неделю работы на NBC меня назначили на два телесериала, которые вот-вот должны были выйти: медицинскую драму «Скорая помощь» и ситком «Друзья». Эти сериалы катапультировали канал на первое место и обеспечили тотальное доминирование вечернего эфира в четверг на годы вперед.
Выход был запланирован на осень, а цикл работы разворачивался куда быстрее, чем в мире кино. За нескольких месяцев были наняты актеры и команда, выстроены декорации, и работа началась. Я находилась в том самом кабинете, где Дженнифер Энистон и Кортни Кокс прослушивались на главные роли в «Друзьях». Я вклинилась, когда решался вопрос о смерти героини Джулианны Маргулис в конце первого эпизода «Скорой помощи», и я была на съемочной площадке с Джорджем Клуни до того, как кто-либо узнал, насколько известным его сделает этот сериал.
Воодушевленная новой работой, я стала меньше смотреть телевизор дома. У меня появились истории, которыми я была увлечена, и коллеги, которые были в той же степени увлечены ими, и я снова чувствовала связь со своей работой.
Однажды сценаристы «Скорой помощи» позвонили в местное отделение неотложки с медицинским вопросом, и случилось так, что на звонок ответил врач по имени Джо. Это было похоже на кисмет[6]: помимо медицинского образования, у него также была степень магистра в области кинопроизводства.
Когда сценаристы узнали, каким бэкграундом обладал Джо, они начали регулярно с ним советоваться. Вскоре его наняли техническим консультантом: он должен был оценивать тщательно срежиссированные травматичные сцены, обучать актеров корректному произношению медицинских терминов и максимально достоверному отображению разнообразных процедур (выпустить воздух из шприца, протереть кожу спиртом перед внутривенной инъекцией, держать шею пациента в определенном положении при введении дыхательной трубки). Конечно, иногда мы намеренно забывали о хирургических масках: все хотели видеть лицо Джорджа Клуни.
На съемках Джо был примером компетентности и хладнокровия – тех самых качеств, которые помогали ему в условиях работы в настоящем отделении скорой помощи. Во время перерывов он иногда рассказывал о своих пациентах, и я не хотела упустить ни единой детали. Какие сюжеты, думала я. Однажды я спросила Джо, можно ли мне как-нибудь навестить его во время смены. «Чтобы узнать побольше». И он оформил мне пропуск в свое отделение, где я ходила за ним по пятам в позаимствованной мешковатой форме.
– Пьяные водители и подстреленные бандиты не поступят раньше наступления темноты, – объяснил он, когда я пришла в субботний полдень, а вокруг не происходило почти ничего. Но вскоре мы уже носились из палаты в палату, от пациента к пациенту, и я старалась правильно записывать в карты имена и диагнозы. За час я успела увидеть, как Джо делает люмбальную пункцию, рассматривает изнутри матку беременной женщины и держит за руку тридцатидевятилетнюю мать близнецов, только что узнавшую, что ее мигрень – на самом деле опухоль мозга.
– Нет, понимаете, мне просто нужны еще таблетки от мигрени, – таким был ее единственный ответ, отрицание, которое вскоре превратилось в поток слез. Ее муж извинился и выбежал в туалет, но его вырвало по дороге. На секунду я представила эту драму в телевизоре – укоренившийся инстинкт, когда работаешь с таким количеством историй, – но я чувствовала, что поиск нового материала для сериала не был единственной причиной, по которой я пришла сюда. И Джо тоже это чувствовал. Неделя сменяла другую, а я все возвращалась в отделение.
– Кажется, ты больше интересуешься тем, что мы здесь делаем, чем своей непосредственной работой, – сказал Джо как-то вечером. Прошло уже несколько месяцев с моего первого посещения; мы вместе смотрели на рентгеновский снимок, и он показывал мне место перелома. Потом, будто вспомнив что-то давно обдуманное, он добавил: – Знаешь, ты ведь все еще можешь пойти в медицинский институт.
– Медицинский институт? – переспросила я и посмотрела на него так, словно он рехнулся. Мне было двадцать восемь, а моей специализацией в колледже были языки. Правда, в старших классах я участвовала в математических и естественно-научных олимпиадах, но за пределами школы меня всегда тянуло к словам и историям. Сейчас я занимала отличную должность в NBC и чувствовала себя невероятно удачливой, потому что ее получила.
Несмотря на это, я все время убегала со съемок в отделение неотложной помощи – не только к Джо, но и к другим докторам, которые позволяли мне тенью следовать за ними. Я знала, что мое пребывание здесь от исследования перешло в разряд хобби – и что с того? Разве не у всех есть свои хобби? Ну ладно, возможно, то, что я проводила вечера в неотложке, стало моим эквивалентом навязчивого ежевечернего просмотра телевизора во время работы в киноиндустрии. Но снова – что с того? Конечно, я не собиралась все бросить и начать с нуля в медицинском институте. Кроме того, мне не было скучно на работе в NBC. Я просто чувствовала, будто что-то настоящее, важное и значительное происходит в отделении – что-то, что не может случиться в аналогичных условиях на телевидении. И мое хобби заполняло эти пустоты – собственно, для того и нужны хобби.
Но иногда я стояла в отделении и, делая короткий перерыв, сознавала, что ощущаю себя здесь как дома. И все сильнее интересовалась, не это ли почувствовал Джо.
Вскоре мое хобби привело меня из отделения скорой помощи в нейрохирургию. Пациентом, на которого меня пригласили взглянуть, оказался мужчина средних лет с опухолью гипофиза, которая была, скорее всего, доброкачественной, но ее нужно было удалить, чтобы она не давила на черепно-мозговые нервы. В спецодежде, маске и кроссовках – для удобства – я стояла над мистером Санчесом, заглядывая внутрь его черепа. Распилив кость (используя для этого инструмент, похожий на тот, что вы можете купить в хозяйственном магазине), хирург и его команда методически, слой за слоем, раздвигали ткани, пока не достигли мозга.
Он был передо мной, похожий на картинки, которые я рассматривала в книге накануне ночью, но когда я стояла там, и мой собственный мозг был в нескольких дюймах от мозга мистера Санчеса, я чувствовала благоговейный трепет. Все, что делает человека самим собой – его личность, воспоминания, опыт, его привязанности и отвращения, любовь и потери, знания и способности, – хранится в этом полуторакилограммовом органе. Можно потерять ногу или почку, но все еще остаться собой. Но если теряется часть мозга – в буквальном смысле, теряется рассудок! – то кто вы тогда?
У меня мелькнула извращенная мысль: «Я залезла человеку в голову!» Голливуд постоянно пытался проникнуть людям в мозг с помощью маркетинговых исследований и рекламы, но я в самом деле была там, в черепе этого человека. Мне было любопытно, достигали ли эти лозунги, которыми канал бомбардировал зрителей, своей цели: Телевидение, которое вы должны смотреть![7]
Когда на заднем плане тихо заиграла классическая музыка, а два нейрохирурга принялись ковырять опухоль, аккуратно складывая кусочки на металлический поднос, я подумала об оживленных голливудских декорациях со всей своей суматохой и командами. «Давайте, народ! Поехали!» – и вот актера несут по коридору на носилках, красная жидкость заливает его одежду, но потом кто-то слишком рано сворачивает за угол. «Черт! – кричит режиссер. – Господи, люди, давайте в этот раз сделаем все правильно!» Дюжие мужчины с камерами и освещением носятся вокруг, восстанавливая сцену. Я вижу, как продюсер глотает таблетку – Тайленол, Ксанакс или Прозак?[8] – и запивает ее водой с газом. «У меня случится сердечный приступ, если мы не доснимем сегодня эту сцену, – вздыхает он. – Клянусь, я сдохну».
В операционной с мистером Санчесом никто не кричал, никто не чувствовал подступления сердечного приступа. Даже сам мистер Санчес с распиленной головой казался менее нервничающим, чем люди на съемочной площадке. Пока хирургическая команда работала, слова «пожалуйста» и «спасибо» добавлялись к каждой просьбе, и если бы не струйка крови, непрерывно капающая из головы мужчины в мешок около моей ноги, я могла бы решить, что это все сон. И в какой-то степени так оно и было. Ситуация казалась одновременно более реальной, чем все, что я когда-либо видела, и в то же время – какой-то параллельной вселенной, ужасно далекой от всего, что я считала своей реальной жизнью в Голливуде, месте, которое я не собирался покидать.
Но через несколько месяцев все изменилось.
В очередное воскресенье я иду за доктором по больнице. Мы подходим к шторке, и он говорит: «Сорок пять лет, осложнения диабета». Затем раздвигает ее, и я вижу женщину, лежащую на столе под простыней. И тут мне в ноздри ударяет запах – настолько отвратительный, что я боюсь упасть в обморок. Я не могу опознать этот запах, потому что никогда в жизни не нюхала ничего столь тошнотворного. Она обкакалась? Ее стошнило?
Я не вижу никаких признаков ни того ни другого, но запах становится настолько сильным, что я чувствую, как обед, съеденный час назад, поднимается обратно к горлу, и я с усилием сглатываю. Я надеюсь, она не видит, как я побледнела, и не чувствует тошноту, охватившую мои внутренности. Может быть, это из соседней палаты. Может быть, если я отойду на другую сторону комнаты, будет не так сильно пахнуть. Я сосредоточиваюсь на лице женщины: слезящиеся глаза, красные щеки, челка на потном лбу. Врач задает ей вопросы, а я не могу понять, как она может дышать. Все это время я пыталась задержать дыхание, но в какой-то момент мне приходится сделать вдох.
Ладно, говорю я себе. Пора.
Я делаю глоток воздуха, и запах охватывает мое тело. Опираясь на стену, я смотрю, как доктор приподнимает простыню, прикрывающую ноги женщины. Вот только у нее нет нижней части ног. Диабет вызвал тяжелейшее воспаление, и все, что осталось – это две культи выше колен. На одной из них развилась гангрена, и я не могу решить, что хуже: вид этой инфицированной культи, черной и заплесневевшей, как сгнивший плод, или исходящий от нее запах.
Места мало, и я перемещаюсь ближе к голове женщины – так далеко от гангрены, насколько это возможно. И тогда случается нечто экстраординарное. Женщина берет меня за руку и улыбается, словно говоря: «Я знаю, на это трудно смотреть, но не переживай из-за этого». Хотя это я должна держать ее за руку, ведь это у нее нет ног, зато есть жуткая инфекция, но она успокаивает меня. И хотя это может стать отличной сюжетной линией в «Скорой помощи», в эту миллисекунду я понимаю, что недолго еще буду работать над этим сериалом.
Я иду в медицинский институт.
Может быть, это импульсивный повод для смены карьеры – факт, что прекрасная незнакомка с почерневшей культей подержала меня за руку, пока я пыталась не блевануть, – но что-то происходит внутри меня, что-то, что я еще не испытывала ни на одной из своих работ в Голливуде. Я по-прежнему люблю телевидение, но есть что-то такое в настоящих историях, которые я пережила, что соблазняет меня и делает воображаемые образы менее значимыми. «Друзья» – история о сплоченности, но она фальшивая. «Скорая помощь» – о жизни и смерти, но это фикция. Вместо того чтобы переносить истории в свой мир на телевидении, я хочу, чтобы реальная жизнь – реальные люди – были моим миром.
В тот день, когда я еду домой из больницы, я не знаю, как или когда это может случиться, какое направление в медицинском институте я выберу, если вообще выберу. Я не знаю, сколько занятий мне еще придется пройти, чтобы соответствовать требованиям и подготовиться к экзаменам, и где искать эти курсы, потому что колледж я закончила шесть лет назад.
Но я принимаю решение: каким-то образом это должно стать реальностью, а я не могу этого достичь, пока работаю по шестьдесят часов в неделю на Телевидении, Которое Вы Должны Смотреть.
12
Добро пожаловать в Голландию
После того как Джулия узнала, что умирает, ее лучшая подруга Дара, желая как-то помочь, отправила ей известное эссе «Добро пожаловать в Голландию», написанное Эмили Перл Кингсли – матерью ребенка с синдромом Дауна. Оно посвящено тому, как справиться с тем фактом, что вся ваша жизнь вдруг переворачивается с ног на голову.
Когда вы ждете ребенка, вы как будто планируете чудесный отпуск – в Италии. Покупаете кипу путеводителей и строите великолепные планы. Колизей. «Давид» Микеланджело. Гондолы в Венеции. Может быть, даже учите парочку расхожих фраз на итальянском. Это очень захватывающе.
После месяцев волнительного ожидания этот день наконец наступает. Вы пакуете чемоданы и уезжаете. Несколько часов спустя самолет садится. Входит стюардесса и говорит: «Добро пожаловать в Голландию!»
«В Голландию?!? – спрашиваете вы. – Какую еще Голландию? Я собиралась в Италию! Я должна быть в Италии. Я всю жизнь мечтала об Италии».
Но план полетов изменился. Самолет приземлился в Голландии, и вам придется остаться тут.
Важно то, что вас не просто завезли в ужасное, мерзкое, грязное место, полное смерти и болезней. Это просто другое место.
Так что придется выйти и купить новые путеводители. И выучить новый язык. И встретить новых людей, которых вы бы иначе не встретили.
Это просто другое место. Ритм жизни здесь медленнее, чем в Италии, тут менее шумно, чем в Италии. Но пожив здесь какое-то время и переведя дух, вы оглядываетесь по сторонам… и начинаете замечать, что в Голландии есть ветряные мельницы. В Голландии есть тюльпаны. В Голландии есть картины Рембрандта.
Но все ваши знакомые ездят в Италию… и все они хвастаются, как там чудесно. И до конца своей жизни вы будете говорить: «Да, туда я и должна была поехать. Это я и планировала».
И эта боль никогда, никогда, никогда не пройдет… потому что потеря такой мечты – это очень значительная потеря. Но если вы проведете остаток жизни, оплакивая тот факт, что вы не попали в Италию, вы никогда не насладитесь всем тем особенным и прекрасным, что есть… в Голландии[9].
Это эссе привело Джулию в ярость. В ее раке уж точно не было ничего милого или особенного. Но Дара, сын которой страдал от тяжелой формы аутизма, сказала, что Джулия просто не просекла фишку. Она согласилась, что прогноз Джулии ужасен и несправедлив и что он полностью отменяет все, что должно было произойти в ее судьбе. Но она не хотела, чтобы Джулия провела остаток жизни – возможно, еще целых десять лет, – упуская все то, что она может иметь, будучи живой. Семья. Работа. Все это есть в ее собственной версии Голландии.
На что Джулия подумала: «Черт бы тебя побрал».
И, кроме этого: «Ты права».
Потому что Дара это знала. Я уже слышала о ней от Джулии – как слышу обо всех близких друзьях моих пациентов. От Джулии я знала, что когда Дара начинала терять рассудок – из-за бесконечно повторяющегося поведения сына, его истерик, его неспособности вести беседу или самостоятельно есть в четыре года, его потребности в еженедельной психотерапии, которая захватила ее жизнь, но при этом, казалось, не помогала, – она в отчаянии звонила Джулии.
– Стыдно признаться, – сказала Джулия, объяснив, почему она так рассердилась на Дару, – но когда я увидела, через что она проходит со своим сыном, моим самым большим кошмаром стало оказаться в такой же ситуации. Я очень ее люблю, но чувствую, что вся надежда на ту жизнь, о которой она мечтала, умерла.
– Примерно как вы себя сейчас и ощущаете, – сказала я.
Джулия кивнула.
Она рассказала мне, что Дара довольно долго говорила, что не подписывалась на это, и перечисляла все необратимые изменения, пришедшие в ее жизнь. Им с мужем уже не светят постоянные обнимашки, общий автомобиль и возможность спокойно почитать друг другу перед сном. Их ребенок уже не вырастет в независимого взрослого. По словам Джулии, Дара смотрела на мужа и думала, что он прекрасный отец, но не могла отделаться от мысли, что он был бы еще более замечательным отцом ребенку, с которым мог бы полноценно взаимодействовать. Она не могла избавиться от грусти, накатывающей в моменты, когда она позволяла себе думать обо всех тех вещах, которые они никогда не переживут со своим ребенком.