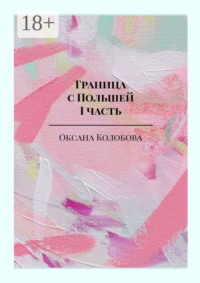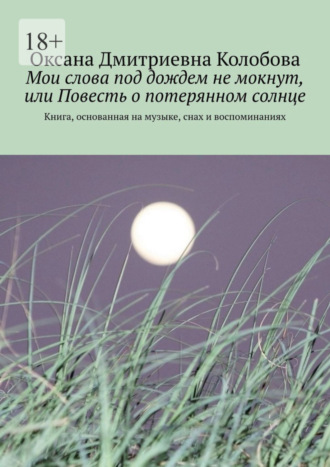
Полная версия
Мои слова под дождем не мокнут, или Повесть о потерянном солнце. Книга, основанная на музыке, снах и воспоминаниях
Он покачал головой.
– Откуда у вас шрам тоже не помните?
Птицы подняли на него свои головы. Он подбросил им еще немного кузнечиков.
8
Бог, которому снятся чужие сны? или гоБ ястинс мыроток, ынс?
Если бы я только мог рассказать вам все, что я запомнил. Но вот, что я запомнил очень хорошо. Воспоминания смазанные и нечеткие, как будто бы я несся по трассе и параллельно пытался рассмотреть пейзаж за окном. Сначала я лежу и не шевелюсь, и все вокруг какое-то красное, будто меня накрыли одеялом, и говорить я тоже не могу, а дышать вроде бы дышу, но как-то по-странному, будто через какую-то трубку. Не могу сказать, что я тонул или умирал – скорее наоборот. И тонул я, наверное, тоже. Тогда я не понял. На душе было тепло и спокойно, как будто меня обнимали, но со всех возможных сторон, и как будто бы не человек – человек так обнимать не может – а какая-то обтекающая субстанция без имени и определения. Так вот, лежу я, а потом бац, и это одеяло с меня насильно стягивают. Оно вытягивается длинной трубой, и я в эту трубу ныряю – и не сам, меня насильно туда засасывает. Не знаю почему, но у себя в голове я обозвал это «центрифугой», хотя отродясь этого слова не знавал и не слыхал, и уж тем более не знал его значения. ( – Это вращающаяся штука, с помощью нее готовят летчиков и космонавтов. – Получается, я своего рода тоже летчик. А кто это такие.) Сказать, что мне стало холодно – значило ничего не сказать. Мне было очень страшно. Я хотел обратно. Одеяло у меня отобрали самым нечестным образом. И отдавать, кажется, не собирались. Зачем им понадобилось мое одеяло? У них свое должно быть. Ну и вот, к чему это я. Я вылезаю, открываю глаза и начинаю дышать, но уже как-то иначе, понимаете? И тут мне стало не только холодно и страшно, но еще и больно. Вот ведь, да? Эта боль длилась какое-то время, думаю, что недолго, но было чувство, будто она длится вечно. Меня забирают, я вижу чьи-то лица. И будто впервые. Я помню, что я подумал (или переосмыслил гораздо позже) «какие страшные кожаные человечки!» Эти кожаные человечки скалились. И мне опять стало страшно. Следующий кадр – на меня набрасывают одеяло, в этот раз настоящее, физическое, сквозь просветы в швах я видел оконный свет. Я был девочкой. И я визжал. Возможно, на меня накатило то же чувство – о нет, его снова отнимут. Вы думаете, у этого была связь? ( – Ну, если бы эта связь была, вы бы не визжали. Подумайте сами, одеяло должно вызывать воспоминания о тепле, комфорте, любви. Возможно, вы имели дело с клаустрофобией. – Клаустрофобией. – Это вам не центрифуга.) Меня заворачивают в это одеяло и перехватывают поперек. Очень страшно. Я подумал ( – Или подумала?), что пробудь я тут еще немного, я сразу же разучусь дышать. Извне слышался смех и чей-то ласковый голос. Я тыкаюсь туда-сюда в попытках найти выход. И везде это одеяло, везде эти швы и тусклый оконный свет. Спустя какое-то время одеяло кто-то откидывает, и я вижу комнатную обстановку – криво висящую картину, этажерку и вазу с засушенными камышами, потом желтый диван, бабочек на стене (приклеенных) и Маму. Я пополз к ней. Она улыбалась и подзывала меня руками. Я помню завитушку у ее шеи и чудные штуки в ушах. ( – Сережки? – Да.) Я помню, что совершенно точно любил ее. Но никаких оснований, то есть того, почему и из-за чего я мог ее любить, у меня не было. Позже мне казалось, что я любил ее потому, что она любит меня, а она любила меня потому, что ее любил я. Эта связь существовала отдельно и как бы сама собой. Мне казалось, что эта связь появилась еще до рождения и центрифуги. Я видел много мам, но эту Маму мне хотелось увидеть еще и еще. И ее штуки в ушах. И виток волос у шеи. Я скучаю по ней и сейчас. Мне кажется, она могла быть моей настоящей Мамой. Этих мам у меня было полно. Но их я так не любил. Следующий кадр? Я ползу в ванную комнату. Там мама с папой. Их я помню плохо. Они чьи-то чужие. И «себя» я вижу чуть отдаленно, почти как в фильмах. Но эта Мама меня туда не пускает. Она грозит мне пальцем и запирает дверь. Я очень скучаю по своей. Далее – меня бьют по голове и по животу какие-то дети. Я пытаюсь подняться на ноги и дать отпор, но их было пятеро. А я у себя был один. И опять этот взгляд со стороны, будто смотришь самый что ни на есть грустный фильм. ( – Значит, что такое фильмы вы знаете, а про летчиков нет. – Да, и про этажерку. – И про камыши. – Что поделать.) В конечном итоге они меня оставляют и расходятся по домам. Тогда я тоже решаюсь встать и иду туда, куда поведут ноги. Напоминаю, я посторонний зритель и не могу знать куда направляется мой герой. Я помню, у меня очень сильно распухла губа, и помню то, что сил передвигаться не было совсем. По пути я вырастаю, вытягиваюсь в длину – знаю, трудно себе такое представить – меня подхватывают товарищи и мы идем дымить длинными белыми палочками. ( – Не подскажете, что это было такое. – Сигареты? – Я запомню. Но зачем мы ими дымили. – Почему вы не спросили своих товарищей? – Я вам говорю, это ж не я там был.) Я помню, как был молодым парнем с цветными волосами, потом – светловолосой девушкой с красивыми штуками в ушах. Помню как ловил бабочек и как тонул в океане. И это было сродни тому, что меня в это одеяло опять запихнули, только одеяло это было холодное и темно-синее. Там было страшно и некомфортно. И как-то одиноко что-ли, даже более одиноко, чем мне сейчас. Сейчас у меня есть птицы, небо, солнце, лодка… А тогда я даже неба и солнца лишился. Океан все у меня забрал. И тихо так было, громче были только мои мысли. Потом и те ушли куда-то – наверное, это океан потрудился. Может, то же я заставлял переживать и бабочек, которых я отлавливал и заключал в тюрьму банки или спичечного коробка. ( – Но это был не ваш выбор. – Да. Я бы никогда не лишил кого-то жизни. Для этого у меня мало полномочий. – Я думаю, что у вас их больше, чем у тех, кто убивает. – Это почему так. – Да так, просто. Что было дальше?) Не знаю. Я просто закрыл глаза. Наверное, в тот миг меня и не стало. Больше в тело цветноволосого я не перемещался. Точнее, не следил за ним со стороны. Долгое время я потом ни за кем не следил, мне даже это наскучило – наскучило птиц кормить и изредка рисовать солнце и облака. Фильмотеки у меня здесь нету, как вы можете видеть, поэтому, вот – чем можем, тем и довольствуемся. Хоть и ворованным. Спустя долгое время я увидел себя в новом воплощении. Я помню, едем в какой-то большой современной карете ( – Есть идеи что это может быть. – Машина? – Я все равно не знаю правильного ответа.), а потом что-то идет не так, и я с размаху влетаю лбом в переднее стекло. Шишка была большая. Мне в травмпункте ее намазали и сказали «до свадьбы заживет» – я, конечно, не понял, но сделал вид, что понял. ( – Почему именно до свадьбы. А если ее не будет. Лучше бы «до завтра» или к «следующей неделе». Хотя бы не так обидно. И шансов дожить до завтра или до следующей недели гораздо больше, чем до свадьбы). Может быть, меня тогда тоже не стало? Но я не помню, чтобы по дороге домой подо мной провалился асфальт или упал на голову кирпич. Я просто перестал видеть его. Возможно, он умер как-нибудь без моего ведома и никаких воспоминаний от него просто не осталось. Больше. ( – И это все? – Нет, что вы.) Следующий кадр – я иду домой, сажусь на велосипед и становлюсь маленькой конопатой девчонкой. У нее были длинные кудрявые волосы, заделанные в узелки. Так вроде они называются. И про нее я много что помню. Она мне нравилась больше всех. Над ней постоянно издевались дети и некоторые взрослые. Я все думал, это потому что она очень красивая? Но ее, почему то, окрестили страхолюдиной. И «ухажеров», как выражалась ее старшая сестра, у нее тоже не было. Я все думал, зачем ей эти ухажеры? В то время я очень переживал за ее уши. ( – Почему? – Ну они же ушами питаются. Разве нет. Я где-то читал. – Это, наверное, был анекдот. – И что это. – Смешные истории. – По вашему, жрать чужие уши это смешно.) Еще она любила собирать билетики, обертки от шоколадок и конфет, чьи-то оброненные браслетики, резинки и складывала все это в маленькую коробочку. Зачем не знаю. Но ей, видимо, было надо. Она выросла и стала художником. Рисовала какие-то кусты. Мне нравилось засиживаться с ней допоздна, наблюдая, как протекает ее работа. Позже она сдружилась с каким-то продавцом обуви. Наверное, это и был ее «ухажер». И каждый раз, когда он залезал к ней ночью в окно, я закрывал глаза и уши – уйти мне было никак. Если бы можно было, я бы давно ушел. Так вышло – периодически заносит куда-то само собой. Наверное, это была моя «центрифуга». ( – А у вас есть любимые воспоминания? – Есть.) Оно смутное, если раньше пейзаж за окном летел быстро, то тогда он летел быстро-быстро, если вы меня понимаете. Я помню, стою в какой-то ванной комнате с другими детьми. Полотенца вафельные, жесткие. Вытирать им лицо наверняка было больно, но почему-то приятно. Я помню, высокая женщина в зеленом костюме намыливает мне мылом рот. Запах от него едва уловимый, он ни на что не похож и при этом похож на все сразу. Не могу его описать. Он такой же смутный, как и это воспоминание. Но я бы хотел почувствовать его еще раз. Потом меня дерут за уши. Я вижу эту женщину в зеркале, потом вижу и себя. Получается, я видел и себя и ее дважды – со стороны и в зеркале. Это было странно. И еще этот запах. Иногда, когда я сижу здесь, в лодке, он накатывает на меня ни с того ни с сего и я вспоминаю эти вафельные полотенца и маленькие унитазы, а потом – мыло, и то, как рядом стоящий ребенок складывал ладошки лодочкой и выдувал из этого мыла мыльные пузыри. Но они не летели, они либо сразу же лопались, либо оседали на раковине. Мне было жаль этих пузырей – они как нерожденные дети. Еще четыре подобных воспоминаний. Первое. Я стою чуть дальше, около шкафа. В зеркале никого не вижу. Все потому, что меня там попросту не было. Иногда я думаю, а есть ли я? Все эти дети, сапожники, ухажеры, юноши с цветными волосами, конопатые девочки – все они есть. По крайней мере, они уже единожды были. Если вдруг куда-то денутся, пропадут – не страшно. Они уже были, свой след они оставили. А есть ли я? Себя я не помню. Не значит ли это, что меня нет и не было? Вся наша жизнь, весь наш жизненный код и все мы – это то, что мы помним и можем о себе сказать. Что о себе могу сказать я? Кто я? Ловец чужих жизней? Кормушка для птиц? Китаец с раной на животе? Я не знаю. В общем, стою и вижу маленькую девчушку, она стоит по середине комнаты. За окном темно. В квартире тоже. Светит лишь лампа. Одна на всю комнату. Девочка держит в руках раскраску с кузнечиками. Да, тех самых, что я придумал сам, нарисовав в тетради с нуля. Я еще тогда подумал – не мои ли рисунки она собралась раскрашивать? Если нет, то я бы этого жуть как хотел. Она стоит и смотрит в эту раскраску, потом озирается по сторонам, будто бы кого-то ищет. Я подумал, не я ли ей нужен? И нужен ли я кому-то помимо своих птиц? И свои ли они? Или это я у них свой? Понимаете к чему я веду? Она стоит, я смотрю на нее, я у нее за спиной. На секунду мне показалось, что она меня чувствует, не видит, но хотя бы чувствует. Чувствует, что что-то не то. С другой стороны, как она могла ощутить мое присутствие сквозь время? Что я буду рыться у нее в воспоминаниях, а не быть с ней в тот момент? Я так и стоял. Она рассматривала фломастеры. Я хотел помочь ей с картинками, подсказать, каким цветом, что и как накрасить. Но я не мог. Мне кажется, я ее тогда тоже полюбил. Мне кажется, она была хорошая девочка. Уверен, что и кузнечики у неё хорошие вышли. Второе воспоминание более четкое. Комнатка, в которой я тогда находился, была бежевая, будто в отеле в каком. Большой балкон, бутылочки с какой-то мутноватой жидкостью. Я стоял с краю и вдруг понял, что любил девушку. Она тоже была со мной в этой комнате. Но что-то было не так. То ли я болел, то ли еще чего – но шатался я как нездоровый. Вдруг подорвался и ухватил ее, наверное, хотел прижать к себе, а она все вырывается и вырывается. Все без слов – немая сцена. Я ее еще раз хватаю – она уходит от меня ближе к окну. Я ее опять настигаю. Я ее очень почему-то любил. Но не видел даже ее лица. Она стояла ко мне спиной. Мне хотелось на ней повиснуть и стоять так бог знает сколько. Я чуть не пустил слезу, наблюдая за этим. А она вдруг берет бутылки и начинает бросать их в окно. Я ее все так же обнимаю. Мне хотелось быть с ней всегда. Наверное, это самая нежная любовь, которую мне приходилось видеть. Сам я ее не испытывал никогда. Кого мне любить? Я тут один сижу. Все мои друзья – птицы, солнце и образ Мамы, пришедший ко мне когда-то. Бутылки разбиваются об асфальт. Я наблюдал за ней, пока она не пустила одну мне в висок. Это ощущалось как предательство. А я то доверял ей. Странная штука это доверие, да? Не всем, кого любишь, доверяешь. Ну и в обратную сторону – не всех любишь, кому доверяешь. А я к ней и то, и то. Мне было очень больно и я не знал, от чего больше – от удара или ее нелюбви. Наверное, все вместе. ( – Продолжайте, мы слушаем. – Извините, я что-то задумался.) Потом еще одно. Я пытался вспомнить его хотя бы немножко, чтобы оно приобрело хоть какой-то смысл. Воспоминание менее яркое, но оно, почему-то, значит для меня гораздо больше, чем все ранее сказанное. И оно будто бы из другого мира, как будто бы из какой-то другой жизни, может, даже моей – не могу найти объяснения, почему же же оно так непреодолимо влечет меня все снова и снова. Когда вспоминаю его, могу надолго впасть в транс или типа того, я бы сказал, даже зависнуть, или же наоборот выпасть из того всего, что меня окружает. Когда я начинаю думать о нем, я как будто вспоминаю что-то еще, будто за этим воспоминанием было что-то, что я забыл или пропустил, но я об этом все равно помню. Помню, но из головы достать не могу. Я стою в комнате. Обстановку, увы, не припомню, только длинную столешницу, огибающую меня перевернутой на бок буквой «П» – или это я ее огибал? – а на ней, почти друг за другом, расположились квадратные проигрыватели. Штук двенадцать, не меньше. Точно вам говорю. Как в магазине грампластинок. Только это не магазин, а вполне себе жилая комната. С двенадцатью проигрывателями. С двенадцатью иглами и двенадцатью пластинками на них. Не могу сказать точно, одинаковыми ли они были или разными, но факт остается фактом. Были бы разные – еще можно было понять, но одинаковые… Это как, чтобы одновременно их ставить? Для усиления звука? Что только не придумают люди. Впрочем, задумка почти гениальная. Только зачем? Где-то в комнате находилась беременная женщина. Я видел ее сначала издалека. Я не помню, говорила ли она что-то или молчала, но пластинки молчали точно. Забыл уточнить – на пластинках лежала одежда. Вся скомканная, будто ее сняли и тут же накинули на проигрыватели. Зачем непонятно. Еще на них лежала пара плюшевых медведей. Этого я тоже не понял. Вдруг эта беременная женщина оказывается рядом со мной. Срок у нее, похоже, был уже немалый – восьмой месяц точно. Я стою у правого бортика, а ей, видимо, надо было протиснуться именно там, где стоял я. Она поворачивается ко мне животом – я даже почувствовал, как он уперся в мой – и наклоняется к одежде, валяющейся комом-жомом на седьмом или восьмом проигрывателе, то есть, примерно на середине столешницы. Женщина берет в руку этот элемент одежды, подносит к лицу и, кажется, нюхает, а потом извлекает из нагрудного кармана птичий череп и карту из колоды таро – я так почему-то подумал, хотя никогда не видел этих карт вживую. На ней был изображен человек, подвешенный за одну ногу вверх тормашками. Тогда она и сказала свой первый набор слов: «Повешенный. Жертва. Божественный закон.» В ответ я ничего не сказал. Я подумал, а точно ли я там был? И видела ли она меня? Или все-таки болтала сама с собой? Женщина встала и отошла к столу. Стол, оказывается, там тоже был. А я заметил его только тогда. Карту она положила на стол, потом достала из выдвижного ящика пакет с сушеными листьями, свернутыми маленькими куколками, и вытрясла пару таких штук на карту, чтобы потом свернуть ее трубочкой. По всем законам жанра та получилась довольно хлипкая, но достаточно крепкая, чтобы из нее не падало содержимое. Женщина прикурила ее от зажигалки, а потом прожгла ею и глазницы черепа. Они мерцали едва-едва, словно говорили мне, эй, я здесь, ты видишь меня? Я видел. ( — Мне рассказывать дальше или вы устали. – Конечно рассказывайте. – Да, очень интересно.) Тогда, последнее, что я бы хотел вам рассказать, будет вот что. Помню, сижу в кабинете музыки. Вокруг меня меня дети и долгие ряды парт, почти от стены до стены – на университетский манер. Девочки сплошь и рядом в длинных синих юбках и такого же цвета жилетках. Мальчики тоже в синем, на них – брюки и пиджаки, и зачастую на пару размеров больше, отчего те висели на них, как тряпки на огородных пугалах. Но я выглядел так же. Голова брита налысо. Наверное, были вши. Ну не раковая же болезнь, верно? А может, я и вовсе был этаким плохим парнем, а? А мне бы пошло? Так вот. Я помню окно. За окном стояла цветущая липа. Ходили когда-нибудь по ее цветениям? Она отбрасывает их, как змеи свою чешую, а нам ходи потом, ляпайся, а потом отмывай кеды – эти цветения хуже жвачки в волосах, уж поверьте. Учительница у нас была не строгая, но какая-то уж слишком статная и басистая, будто перепутала кабинет музыки с физкультурным залом – ей бы пошло быть физручкой. И пела она так же – статно и басисто. Очень странно было слушать ее пение. А наблюдать за игрой – тем более. Она вечно играла как-то шумно. Не могу объяснить вам точно. Пальцы у нее были громоздкие. Толстые и широкие. И звук она выдавливала как-то безжалостно и грубо. Я частенько затыкал уши пальцами, чтобы услышать этот звук глазами, как, знаете ли, слепые читают по точкам, а тут так – по картинке узнавать звук. Занятное было дело, нечего сказать. Этот звук был очень громким. Мне казалось, что чем сильнее давишь на клавиши, тем громче он становится. Сейчас же мне кажется, что дело было все-таки в ее пальцах. Они могли замещать собой двенадцать таких и звук остался бы прежним – поэтому, необходимости в двенадцати пианино и двенадцати пальцеву нее не было. Я слушал ее игру и думал, вот и славно, как славно, ну вот и славно, славно, славно – тогда только-только выучил это слово, и теперь от меня можно было услышать только его, за исключением слов «круто» и «прикольно». «Прикольно» я тоже очень любил. Самое запоминающееся, что было в этом музыкальном кабинете это запах не то дерева, не то каких-то минералов, вроде известняка или еще чего (а то и всего вместе), розовые шершавые парты, покрытые толстым слоем лака (на вид они были как мороженное с орехами, покрытое розовой глазурью). Все это было слишком странно, все это точно имело какое-то отношение ко мне и другим моим воспоминаниям. Я не могу объяснить это вам, потому что я не могу объяснить это даже себе. Но тот кабинет музыки… И эта коричневая доска, по которой хорошо шел мел – жирно так, гладко и четко – все скрипичные ключи были на ней как птицы на жердочке. Как мои птицы, которых мне суждено кормить до скончания жизни. Но своей ли? Я сижу тут сколько себя помню. И все такой же. Все в том же костюме. И лет мне, наверное, всегда столько же. Вот так. Ну что, славно? Я очень хорошо помню эти скрипичные ключи. Я очень хорошо помню гигантские фотографии, висящие у нас за спинами. Глаза классиков. Эти глаза всегда были устремлены на нас. Они всегда наблюдали за нами. Кто из них мог знать, что спустя века их сонеты будут слушать школьники в смешных пиджаках? Кто из них мог знать, что школьники будут слушать их сонеты и жевать козявки? Думаю, что никто. А Чайковский как будто бы знал. Глаза Чайковского всегда были на мокром месте. А мои одноклассники, обычно злые и жующие козявки, засматривались на этот портрет и подолгу около него стояли. Не прикасались и не говорили ни слова, только стояли и смотрели, как будто что-то в этом понимали. Может, это действительно было так. Вы только представьте: играет какая-нибудь «Иоланта», а Чайковский со стены наблюдает за всем происходящим. Он однажды сказал: «Я напишу такую оперу что все будут плакать». Только школьники почему-то не плачут, а ковыряются в носу и жуют козявки. Плакал только он сам. Со стены…
9
Чайковский и временная тетрадь
Звонок колотил и бил так, будто его просили разбудить всех в округе. Говорят же – звонок для учителя. Это чтобы они не засыпали? Странная была бы картина. Только не это. Спящая Екатерина Андреевна. Воображаете? Ну что, славно? По-моему да. Можно тихонечко посидеть и посмотреть в окно, либо порисовать что-нибудь в тетради. Вчера, когда не было ИЗО (Татьяна Юрьевна заболела гриппом, и кажется, немного разводом), мы с моим другом Лехой нарисовали шахматное поле и сконструировали фигуры. Абы как, конечно, но играть можно вполне. Только конь у нас был не конем, скорее – морским коньком, и головки на пешках вышли не круглые, а квадратные – круглые не додумались сделать. Сперва мы планировали сделать шашки. Я подумал, что они и в игре проще (я уже молчу о том, что Леха не умеет играть в шахматы), и фигурки делать не нужно – хотя бы клей не понадобится, и беспрестанно подклеивать углы тоже не нужно. Однако же, ветра той весной были сильные. Окно от майской жары было распахнуто и зафиксировано воткнутым в притвор пеналом (его потеряли, но так и не заявили о пропаже). Из него мы брали ручки и линейки, если кто-то забывал свои.
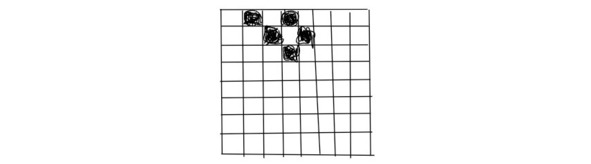
Итак, вернемся к шашкам. Мы уж начали вырезать кругляшки, как я сказал ему: «Эй, а их точно не сдует?», и мы пришли к выводу, что наверное, все-таки сдует – учебник, например, нужно было чем-то зажимать по бокам или держать в руках, чтобы нужная страница не ускользнула в ворохе ненужных. Хотя, для большинства моих товарищей в учебнике все страницы не были нужными. Но вот если были картинки, это уже другое дело. Их было много, когда мы проходили фольклор. Тогда мы играли в игру «это ты», когда открываешь страницу на какой-нибудь стремной иллюстрации и показываешь ее соседу со словами «это ты». В ответ он должен был повторить твой ход, показав другую иллюстрацию, лучше – более стремную. Игра могла продолжаться до бесконечности. Проигравший определялся либо двойкой в дневник, либо выходом из класса.
Когда она вошла в класс, я ел конем лешину пешку. Для пущей демонстративности я хотел смять и выбросить ее в окно, однако, передумал – все-таки, трудов в эти фигуры было вбухано много. Екатерина Андреевна входила всегда как-то покачиваясь, и голова у нее тоже покачивалась, как у какой-нибудь старой и премудрой птицы. Волосы у нее были ярко-красные, почти бордовые, по вискам желтели дороги проседи. Поговаривали, что она подкрашивала их помадой, чтобы люди путались в ее возрасте. По вискам эта вся штука слипалась, и не выдавала ее от слова совсем – она правда так думала? И тут я вспомнил, что мой дед подкрашивал себе усы старой тетиной тушью. А волосы у него почти никогда не седели. Только усы. Вот он их и не трогал. Я помню, как заставал его у зеркала в ванной, а он не мог придумать себе отговорку, застывая с щеточкой в руках. Да и зачем? Главное, чтобы ему нравилось, не так ли? И если ей нравятся слипшиеся виски – это славно. В общем, она входила слишком твердой походкой. От нее тряслись половицы, ее толстая павлинья шея и штуки в ушах, всегда длинные и тяжелые, иногда наподобие железных перьев, иногда наподобие ловцов снов и листьев с прожилками. И когда она играла, все тряслось тоже. Слишком много было в ней этой твердости. И как она только могла ужиться с музыкой? С другой стороны, может, она придавала музыке силы? Может, музыка без этой силы существовать не может? А без ее напомаженных висков? Ну и ладно. В любом случае славно. Я смотрел на ее сережки в форме листьев и сравнивал их с теми, что видел за окном. Вроде похожи.
Каждый урок начинался с того, что она раздавала нам по книжке текстов к романсам и опереттам, которые мы должны были пропевать вместе с ней. Книжки эти были до того старыми и засаленными, что мне казалось, страницы к ним сшивали динозавры во времена мезозоя, а обложки к ним вырезал и клеил сам Чайковский. Чтобы что? Чтобы потом сквозь время, сквозь прошлое, настоящее и будущее на них писались эти вечные текста. Книжки подклеивали во всех возможных местах – можно было подумать, что они состояли только из скотча и немного из тетрадных листов, которые заменяли собой куда-то подевавшиеся куски. Где они были теперь? Я бы хотел себе такой кусок. Чтобы, знаете, спрятать его куда-нибудь под матрас и доставать, когда мне станет грустно. Он бы напоминал мне о вечности. О Чайковском и его слезах. О музыке, о ее тяжеловесной походке и напомаженных висках. Славно?