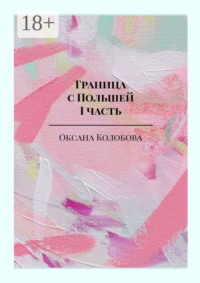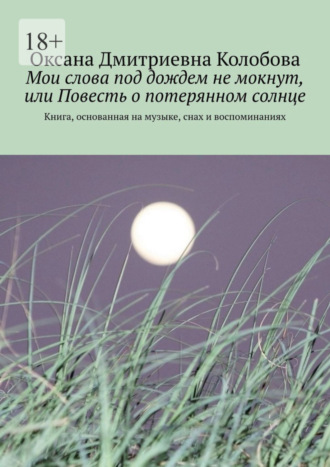
Полная версия
Мои слова под дождем не мокнут, или Повесть о потерянном солнце. Книга, основанная на музыке, снах и воспоминаниях
Я огляделась. Воздух влажный и плотный – видимо, где-то поблизости был водоем. Библиотека выглядела как-то противоестественно и даже несколько сюрреалистически, хотя сюрреалистического на первый взгляд в ней было довольно немного. Смотреть на нее из окна было в разы привычнее – так, например, на картины принято смотреть в галерее или в музее, но уж точно не в стенах бедной хрущевки. А она была той самой хрущевкой, если так вам будет понятнее.
Она поднялась по лестнице с глухим сопровождающим звуком, и я боялась, как бы половицы не провалились, и как бы она в этой лестнице не застряла, не вывихнула себе ногу или еще чего. А потом я все же пришла к мысли, что наверное, в этом-то и была бы вся суть.
– Так и будешь стоять?
Я пошла за ней и подо мной ступеньки заскрипели громче – так, будто принимать меня не входило в их планы. Она протянула мне руку и я схватилась за нее, неудобно переплетя пальцы – видимо, где-то затесались лишние два. Когда я поднималась, ее рука в моей ощущалась чем-то вроде того же сюрреализма. Пока она здоровалась со стенами и перилами, поочередно прикладывая к ним руку, я заглянула внутрь. Внутри было темно и грязно – изуродовали все, до чего могли докоснуться – многие книги разворовали, а оставшиеся лежали ничком на полу – неприкрытые, раздетые до гола, совершенно беззащитные перед ветром, дождем и солнцем, они одним своим взглядом что-то переворачивали у меня внутри. Тогда я подумала, что это похоже на кладбище книг, кстати, кем-то когда-то любимых. Потом я подумала, что здесь могла жить чья-то человеческая история. В книгах были записаны воспоминания, а с течением времени их кто-то выкрадывал, вырывая по странице. Дверь выломали, а стеллажи опрокинули вместе с книгами, и те лежали, жалобно глядя на всякого, кто сюда приходил. Но в их глаза никто не заглядывал. В них не видели важности. Их не слушали. Книги кричали. Их пинали, рвали и топили в воде. А с ними пинали, рвали и топили чью-то память.
– Я ходила сюда с дедом. На этой лестнице я впервые сломала себе ключицу.
– А что, ты ее потом еще раз ломала?
– Да нет, я про переломы вообще.
Я смотрела туда. Я смотрела на трупы. А трупы ведь надо хоронить, да?
– Здесь он брал книги по овцеводству. Чтобы на всякий случай – вдруг соберется начать новую жизнь.
– И что, правда начал?
– Да нет. И все мы так думаем, мол, когда-то, или вот куплю и пусть полежит до лучших времен. До каких? Жизни и так мало бывает, понимаешь? Одной. Что уж о лучших временах говорить.
Она пошла внутрь и потянула меня с собой за руку – наверное, правда забыла, что моя рука осталась в ее руке. Наши руки уже давно вспотели и я бы с радостью вытерла свою об футболку, но для этого пришлось бы их расцепить. На полу было разбросано стекло, а под ним, наверное, и гвозди. Я все боялась, как бы она не поранилась, но она, скорее всего, об этом даже не думала – шла себе и шла по этому храму чьей-то былой памяти. А все потому, что имела право. Все потому, что кусок ее памяти тоже прятался где-то здесь, и было бы здорово, если бы она отыскала его целиком, а не обглоданным крысами или типа того.
– До тех времен дедушка не дожил. Да и вряд ли они его ждали. Вряд ли они ждут хоть кого-то.
– Наверное.
– Лучше не ждать их вообще, а делать их своей реальностью. Мой дедушка фигни не посоветует. Поняла?
– Я наступила на что-то мягкое.
– Мышь, наверное.
– Главное, чтобы не дохлые кошки.
– Главное не смотреть под ноги.
Я почувствовала, как судорога напала на меня вновь. Я покрепче сжала ее руку, и она удивленно на меня оглянулась – похоже, все-таки забыла. Некоторые стеллажи стояли нетронутыми, и как бы следили за нами – вдруг тоже ломать пришли? – но, увы, они бы с места так и не сдвинулись, даже если и да. В своей неизбежной неподвижности у них получалось только молчать и смотреть. Мне вдруг захотелось приезжать сюда хотя бы пару раз в неделю, обнимать их и рассказывать им истории из детства, чтобы им хотя бы иногда не было грустно и одиноко. Я бы справилась? Точно-точно? Клянусь, один стеллаж тихонечко скрипнул – это было «да»? Стеллажи стояли по обе стороны от входа. Посередине усеянный штукатуркой проход. На стене окно, теперь заколочено. Сквозь него было видно сияющую листву и кусочки неба. Предзакатный оранжевый свет капал в щели между досок, высвечивая летящие пылинки, фрагменты деревянного пола и книг, лежащих на нем обложками вверх. Может быть, небо пыталось прочитать заголовки? Я сказала об этом ей. Она фыркнула, но остановилась, и мы остались стоять так какое-то время – в этом свете и в этой оранжевой пыли, летящей незнамо откуда, покуда она не подорвалась и не потащила меня к левым стеллажам, между которых не проникал свет и взгляды других стеллажей, подозрительно нас осматривающих.
Мы остановились на четвертом ряду. Сюда свет почти не проникал и она шарила по полкам почти наугад, потом спохватилась и расцепила руки – вспомнила. Я выдохнула и вытерла свою об футболку, как и хотела, но мой клубок загрустил – видимо, не хотел отпускать, и надеялся, что она возьмет меня за руку когда-нибудь еще. И я тоже слегка на это надеялась – это если повысить процент честности.
– Что ищешь?
Я знала, что она не сразу ответит, и тогда решила походить где-нибудь рядом, пока она про меня не вспомнит. Теперь моя правая рука, которая на время касалась ее руки, ощущалась в моем теле как-то иначе – так, словно она была не моя, а чья-то другая. Удивительно, как за пару минут что-то может измениться до неузнаваемости. Вроде те же пальцы, те же черточки на ладонях и полукруги ногтей, растущих трапецевидно от меньшего к большему. Но для меня это была уже другая рука. Иногда я думала о том, что когда-то то же произойдет и во мне самой, и что в том случае стать прежней я уже не смогу. По какой-то причине я этого опасалась. Я не хотела быть человеком, которого больше не знаю.
Идя вдоль стеллажа, я чувствовала на себе чьи-то глаза. В тот момент мне казалось, что все пространство вокруг меня было скроено из этих глаз. Но ночью их наверняка становилось больше. В звездах мне всегда мерещился божественный взгляд. Сейчас эти глаза текли в библиотеку вместе с солнечными лучами, пылились между страниц и поскрипывали под моими подошвами. Их я могла найти у себя на ладонях, в дальних углах полок и между прутьями оконной решетки, где за нами подглядывал майский вечер. Он мог наблюдать за ней, пока этого не могла делать я. Он знал обо всем – и о ее историях, и о моей руке, которую я прятала у себя в кармане. Из другого конца зала раздавались еле-слышные шарканья ног и перестукивания – она переставляла книги. Стеллажи вокруг меня были так же наполнены старыми книгами. Разложенные без соблюдения порядка и какой бы то ни было системы, они пестрили всевозможными размерами и цветами. Мягкие обложки были сплошь обмотаны скотчем. Они навели меня на метафору о пластырях и израненной руке. Где-то между полок был спрятан птичий череп. Я представила, как птица нечаянно залетела сюда в окно и как потом не смогла выбраться обратно на волю. Это могло бы сойти за обыкновенную случайность, однако она все равно стала частью чьей-то памяти. Встречный вопрос – как вообще можно верить в случайности, если они становятся поводом для чего-то важного?
Здесь, между этих мрачных полок, я взяла его в руки. Он едва-едва занимал четверть моей ладони. Совсем крошечный след чьей-то свободы. Запихнув его себе в карман, я ощутила свое сердце до невозможности мягким – таким оно было, когда мне хотелось танцевать или плакать. А я продолжила стоять между стеллажей, растеряв способность шевелиться и о чем-нибудь думать. Теперь этот череп был у меня в кармане. Теперь его точно не склюют птицы. Стоя в одной позе, я прикидывала, что его можно поставить на полку, положить в банку или шкатулку, и тогда он обретет настоящее бессмертие. Рука в моем кармане замкнулась на хрупкой черепной коробке. Теперь мне было спокойнее. Я знала – она находилась в пределах этих стен. Она ходила, дотрагивалась до книг и что-то беспрестанно крутила у себя в голове. Я бы слушала эту пластинку часами. Что творилось у нее внутри? О чем она думала и что для нее было по-настоящему важным? Сжимая череп в своей руке, я поняла, что совершенно ничего о ней не знаю.
Желая хоть как-то скоротать время, я плюхнулась на рядом стоящий матрас. Он весь был в каких-то пятнах и отпечатках пальцев. На примыкающей стене творилось то же самое. Я лежала ничком и смотрела в потолок, позабыв сразу же обо всем – и о ней, и о дохлых кошках, о мышах, о бомжах, клопах, пауках и тараканах. Я представила, что лежу под землей, и крестом сложила на груди руки. Было правдоподобно – темно и сыро. Где-то что-то накрапывало – видимо, протекала крыша. Откуда-то посыпались книги. Следом раздались шаги – немного потоптавшись на месте, они тут же стихли, чтобы возобновиться чуть позже. Я замерла в позе покойника – по какой-то причине так мне было комфортнее всего. Ее голос, искаженный эхом и всей этой библиотечной атмосферой из паутины и отсыревшего старья, прозвучал у меня в ушах как-то иначе – так, словно говорила не она, а кто-то, кто находился здесь когда-нибудь в прошлом. Непроизвольно я задумалась о людях – о том, сколько их у нас на этаже, на улице и во всем мире, и скольким таким еще предстоит в него прийти. Подобные мысли о чем-то глобальном вызвали у меня затрудненное дыхание, а от мысли, что я являлась частью этого глобального, я вообще чуть с ума не сходила.
– Эй, ты где?
Гулкие шаги становились громче по приближению к матрасу. Их цепочка замкнулась у моих ног и после небольшой паузы завершились приглушенным ударом. Она рухнула рядом со мной, и вытянув вперед свои длинные ноги, коснулась меня плечом. Я упорно закрыла глаза, но она не сдавалась.
– Посмотри что я нашла.
Она затрясла меня за плечо и мне пришлось открыть один глаз. Между нами лежала какая-то книга.
– Тут, правда, темно… Может, на свет пойдем?
– Я тут хочу полежать.
– О чем думаешь?
– Да так.
Я схватила ее за мизинец. Как в детстве – мирись, мирись и больше не дерись.
– Так что мы здесь делаем?
– Ты хочешь знать?
– Ага.
– Я думаю, дед мог оставить подсказки.
– Например?
– Не знаю. Я помню, что он брал книги и оставлял в них какие-то записки. Иногда делал пометки на полях. Может, они были для меня?
– Чтобы ты их нашла?
– Типа того.
– А о чем? Про лестницу в небо?
– Вряд ли он успел это сделать. Но я думаю, все это все-равно что-то значит. И то, что мы сейчас здесь – тоже.
Она легла и задрала голову к дырявому потолку. В эти дыры было видно крошечные частички неба, похожие на голубые звезды. Иногда они меркли – это значит, на крышу садились птицы. А может, где-то здесь, над нами, было чье-то гнездо. И чем дольше мы на эти звезды смотрели, тем больше нам казалось, что точки растягиваются в полоски и достают до наших рук – может статься, спускаются к нам на своих лестницах. Может, заброшенная библиотека и была их лучшим ретрофутуризмом? И мы, лежащие тут на матрасе? И ее мизинец, зажатый моим? Может быть. Птица улетала и звезда загоралась опять. А потом перемигивалась – сверху пролетали птицы, мешая ее свету спускаться к нашим рукам. Наверное, небо было дорого птицам. Еще бы – кроме деревьев и неба у них ничего не было. А у нас и этой заброшенной библиотеки – да. У нас была она. А у нее были мы.
– Так что за книга?
– По шашкам. Стратегии и прочая белиберда.
– А по овцам не нашла?
– Не-а. Может, стащили.
– Жаль.
– Еще бы!
Мы молчали. Я начала считать дыры. Насчитала всего тридцать восемь. Тридцать восьмая была сразу под её головой.
– Тридцать восемь дыр.
– А я думаю сорок.
– Ты тоже считала?
– Ага.
– Невероятно.
– И почему их на две больше?
– А ты кому больше доверяешь: себе или мне?
– Не знаю.
– Вот и я тоже. Тоже не знаю. Представляешь?
– Ага.
– Пусть их будет сорок три.
Ия дернула мизинцем – это было да. Что-то вроде азбуки морзе, окей?
– А сколько таких дыр во мне? Тех, из которых все торчит и валится.
– Я могу назвать любое число?
– А ты знаешь точное?
– Девяносто.
– Это точно?
– Нет.
– А у тебя столько, сколько дыр в потолке.
– Тридцать восемь?
– Сорок три.
– Ладно.
– Ну а у меня дыр поменьше девяноста. Хотя – может и столько, но падает из них меньше. Я вот смотрю на эту библиотеку и думаю, черт, да это же я. Вроде бы много всего: и доски там всякие, и книжки, немного гвоздей и стекла. Представь себе, матрас даже есть. И вроде бы много, да? А все какой-то шлак. И все не так. Половину разворовали. Окна выбили, книги изуродовали. Все сломанное.
– А во мне?
– А ты – это библиотека до. Та, в которую я и ходила, понимаешь? Где был почти порядок, не считая гомосексуалистов и старух, кричащих при виде них. Вот это была эпоха! И дыр в прежней библиотеке совсем не было. Но тому, что могло бы торчать – море. Но почему-то не торчало – так, может, слегка. За исключением парочки нариков. Хочешь скажу как их звали?
– Хочу.
– Валик и гнутый.
– Отстой.
– Ага.
Ия помолчала. Библиотека смотрела на нее из разных щелей. И птицы с небом тоже.
– Все-таки странно видеть ее такой. Раньше здесь все было по-другому. Странное чувство.
– Сюрреализм?
– Точняк. Все равно что спустя много лет зайти в дом, в котором ты раньше рос, а там ни мамы, ни папы, ни штанов – никого и ничего. Дом давно разрушен, а ты ходишь по кирпичам и думаешь, да, к такому меня жизнь точно не готовила.
– А она только это и делала.
– Да, ты права. Иногда так и вправду кажется, будто бы цель всей твоей жизни – вырасти из детских штанов. А там уже как получится – куда жизнь швырнет. А она только так швыряет.
– А потом можно и лестницу в небо искать.
– Да. Следующий пункт сразу после штанов.
Я перекрутила ее мизинец в своих руках. Интересно, я из своих выросла? Наверное, я была скорее из тех, кто давно из них вырос, но все-равно таскал их с собой повсюду в сумке или рюкзаке, так, чтобы близко к сердцу, так, чтобы не забывать. Понимаете? А забывать очень не хочется. Вот и ходишь, неприкаянная, с этим мешком, а в нем – все, что принадлежало тебе тогда – штаны и кучка воспоминаний. Воспоминания можно оставить себе, а штаны придется отдать кому-то другому. Уже неприлично, понимаете? Думаю, что вы понимаете. Но я все-равно буду носить их, пока они не станут настолько маленькими, что будут застревать на коленях или рваться на жопе. (Вопрос на засыпку: это я расту, или они уменьшаются, уходя от меня куда-то вдаль?)
– Иногда в расставании со штанами может пройти вся жизнь.
– Ты так думаешь?
– Я думаю, что мне столько потребуется.
– А ты не думала, что в этом весь смысл?
– Не знаю. Слишком много вокруг этих смыслов. Можно утонуть. В конце концов, захлебнуться. А по сути – как среди них найти свой?
Ия дернула мизинцем, и это было как пожать плечами, мол, не знаю.
– Да ладно, пофиг, че ты.
– Да ниче.
– А ты бы правда меня с лестницы пустила?
Я посмотрела на нее. Мизинец едва дернулся. Дерись, дерись и больше не мирись.
– Если бы ты попросила.
– Ясно.
– Это плохо?
– Это хорошо. Ты настоящий друг.
На потолке стало на пару-тройку дыр больше – видно, птицы уставали слушать наш треп. Я попыталась посчитать их сызнова, но каждый раз сбивалась. Звезды загорались тут и сразу же гасли там. Их было не удержать. Интересно, а библиотека ведет отчет? – что-то вроде переписи душ? Если да, то она точно знает, сколько звезд загорелось и померкло в эту секунду. А когда мы уйдем, она и нас тоже вычеркнет? Похоже на то.
– А ты предупредишь заранее?
– Думаешь, я могу предугадать свое желание упасть с лестницы?
– Не знаю. А ты думаешь, его тоже кто-то толкнул?
– Ничего не думаю. Может, нет никакой лестницы в небо. Упал и упал. Делов то.
– Я думаю, что есть.
– Это точно?
– Да.
4
Тридцать шесть и тридцать шесть
Небо окрасилось в ярко-красный. Солнце было как раскаленный уголек. Я визуально поместила его в печку, закрыла заслонку и села на лавку. Скоро придет дедушка. Сама я помешивать боялась – вдруг обожгусь? А он придет и перекатит это солнце туда-сюда, пока то не воспламенеет. Тогда его можно вешать на небо, нет, немного левее, вот так, и немного ниже, чтобы деревья закрывали. А может быть, это солнце и на небе кто-то туда-сюда, может, если бог помешает – загорится, забудет или уснет – нет. И облака ведь когда есть, а когда нет: когда кудрявые и во множестве, а когда плотные и всего по нескольку штук. Может, это бог их на небе рисует? Может, когда ему хорошо, он рисует облачка красивыми и воздушными, а когда ему плохо, зачеркивает лист к чертям? Так и получаются тучки? Ручка штрихует, размазывая себя по небу, и пару раз дырявит холст – из этих дыр потом заморосит дождик. Больше силы – больше дыр, а значит, больше дождя. Я подумала, ничего себе. Я сложила руки и положила на них подбородок, глядя на нее снизу вверх. Она всегда изобретала новые позы, аргументируя это тем, что телу нужно давать чувствовать себя по-новому. Откинув сидение чуть назад, она лежала на нем задом наперед, для лучшей наглядности – локти смотрят в заднее лобовое стекло, пятки – в педали. Я лежала и думала – что бы было, если бы она случайно нажала на газ? Нас бы тут же понесло к воде, и не успели бы мы опомнится, как тут же оказались на дне реки.
– Ты чего так старательно обдумываешь?
– Ничего.
– Уж прям ничего?
– Ага.
Пахло сигаретами и старой кожей. Мне нравился этот запах. Мне нравилось, что она сидела задом наперед. Это помогало моему телу чувствовать себя по-новому.
– На, глянь-ка.
Зажав сигарету зубами, она развернула книгу и сунула мне ее под нос. Я всмотрелась.
– И?
Ия махнула руками, мол, не могу сказать. Видимо хотела, чтобы я сама догадалась.
– Это что?
– Не видишь?
Я всмотрелась еще раз.
– Нет.
– Маленький паучок. Смотри, лапки поджал – наверное, перебежать хотел, а его раз и захлопнули. Почти гербарий.
Он был крошечный – в тетрадную клеточку не убрался бы точно. Его можно было с легкостью перепутать со случайной кляксой или каким-нибудь причудливым печатным знаком – настолько выцвели и стерлись буквы. Я потрогала его ногтем. Его лапка чуть отклонилась от курса, и теперь его тельце было похоже на пятиконечную звезду. Пятым концом была его голова. В эту секунду мне захотелось сделать что-нибудь подобное – может, высунуться сейчас из окна и подобрать какую-нибудь букашку, чтобы положить ее меж листов и написать где-нибудь рядом: «После библиотеки. У реки».
– Эй! Испортишь.
Она забрала книгу себе и отвернулась.
– Так забавно.
– Что?
– Да ничего.
– Говори.
– То, что он случайно в этой книге оказался. И так же случайно остался в истории. Может быть, на века.
– Все равно что попасть на фото какой-нибудь знаменитости, идя в магазин за хлебом.
Я хохотнула.
– Да, наверное. А кроме пауков там ничего нет?
– Только пометки какие-то, но я не уверена, что его рукой. Дедушка редко обводил слова и так же редко их подчеркивал. Этого он не любил. Он любил зачеркивать некрасивые или неправильные слова и писать над ними красивые и правильные. Дедушка любил карандашные заметки вроде «это ведет к тому, что она…”, «т. е…”, «возвращаясь к…”, «вспоминается…» и т. д. И «и т.д.» он тоже писал, кстати говоря.
– Ты думаешь, дедушка тебе правда что-то оставил?
– У него было много секретов. С ними он ни с кем не делился. А мне обещал, когда вырасту. Кстати, смотри что здесь есть.
Она выкинула сигарету в окно, зачем-то вывернулась наизнанку и потянулась рукой к заднему карману своего сиденья. В них, оказывается, тоже что-то лежало. Я их все это время даже не замечала – никогда не сидела сзади.
– «Смена». Здоровская штука.
В ее руках оказался фотоаппарат. Такие я уже где-то видела, но не могла вспомнить где. Иногда, знаете, вспоминается что-то уже замыленное, давным-давно позабытое, но все равно вспоминается, берясь незнамо откуда. Непонятно, сам ты это придумал или где-то увидел, а может, оно явилось тебе во сне? Непонятно, откуда у него растут ноги – о каких ногах речь, если и рук то не видно, не вспомнить? Подобное я испытывала с садиковским мылом и полотенцами, вафельными такими, знаете, накрахмаленными – они всегда красиво висели на крючках, а мы некрасиво бросали их где придется. Когда на мыльный и затопленный умывальник, когда на пол. Больше из обстановки ничего не вспомнить, только черствые полотенца и пахучее мыло, которым некоторым хулиганам намыливали рот и уши. Иногда этот запах резко дает мне в ноздри, вылавливая меня то в примерочной, то в очереди за жвачкой или где-нибудь в толпе, что было еще хуже – тогда найти источник аромата становилось почти невозможно. Я не могу его описать – я его не помню. Но если услышу, то обязательно узнаю. Наверное, это то же самое что забыть человека и не суметь визуализировать его в своей голове, а потом испугаться и обомлеть, увидев те черты в чужом лице, следом пережить момент и не вспомнить этих черт снова. Спрашивается, зачем это все было?
– Хочешь подержать? Он о-о-о-очень старый, и наверное, очень ценный. Кусков за пятьдесят продашь.
Она доверила фотоаппарат моим рукам, отдав его с преувеличенной нежностью – как могла, наверное – а сама полезла в карман. Пока я и так и сяк примерялась к нему то глазом, то ладонями, пытаясь понять, как он функционирует, и самое главное, как именно держал его в руках ее дедушка, она что-то усердно искала. В ту минуту мне казалось, что стоит мне сфотографировать окно, траву, или ее, сидящую рядом со мной, а потом проявить пленку – то я увижу мир его глазами. Мне бы этого очень хотелось. Мне бы очень хотелось побывать в его теле и присвоить себе его слова – «записки», «понимание», «разбитое окно» и в особенности «февраль». Интересно, это она мне это обожание внушила, или я хотела получить его частичку применимо к своей персоне? Да и фиг с ним. Я посмотрела в окошечко. Оно показало мне кусочек затонированного окна, дорожный крестик и ее растрепанную макушку. Из неё торчали намагниченные волоски, качающиеся туда-сюда на своих невидимых качелях. На тех самых. Я была рада, что не забыла про них; они были рады, что не остались плоским воспоминанием – увы, они стали воспоминанием выпуклым. Я снова приложила глаз – помещенные в прямоугольник, угловатое плечо и катушка пленки, лежащая у нее на ладони, были красновато-коричневого оттенка. Я подумала – ее дед, должно быть, ни раз наблюдал ту же картинку.
– Видала?
Я навела окошко на ее губы. Улыбка сменилась раздражением и протянутой рукой. Та приблизилась к моему лицу и отобрала фотоаппарат. Все, теперь я была собой, со своим багажом слов и вопросов. Я подумала: а что, если этот багаж где-то оставить? – случайно или с таковой видимостью? Было ли бы мне жаль? Нет. Но мне было жаль, что в том фотоаппарате не оказалось пленки. Было жаль, что я не оставила ее улыбку гербарием и не убрала куда-нибудь в кошелек или в потайной кармашек пиджака. Было жаль, что Бим ушел от меня слишком рано, и что нет теперь ни его мух, ни той самой сумки-переноски. Я подумала – у ее деда этих гербариев, наверное, и в кошельке, и в карманах было полным полно. Невольно я представила его, седого и с палкой в руке, или как там, с посохом – так они у пастухов называются? – представила, как он стоит и молча наблюдает за тем, как овца сжирает все его памятные гербарии – ее улыбку, смех, зелень травы и яркость солнца, прелесть и вдохновение музыки. Все-все. Почему ее с ним нет? А я бы к нему ее отпустила? Мой багаж все пополнялся и пополнялся. Было не жаль его где-то оставить или кому-то подарить. Было жаль штанов, в которые я уже не влезала, а все таскала с собой как дура, в надежде на что-то – в надежде на что? – и оставляя этот багаж где-нибудь в магазине или на дороге, я бы сперва их достала, продолжая рассчитывать на то, что когда-то в них влезу.
– Ты чего молчишь? Не пробовала ни разу?
Я мотнула головой. Она наклонила свою, мол, ну ничего, сейчас догоним.
– Пленку вставляем внутрь. Вот так, усекла? На кнопочку надо нажать и она сама закатывается, видишь? Теперь можно снимать. Правда тут всего тридцать шесть кадров.
– Тридцать шесть?
– Ага.
– Считай, тридцать шесть фоток. Не так много, да? Дедушка раньше очень много фотографировал. Могу тебе показать пару фотографий. Потом.
Она перевернулась на спину, продолжая вертеть в руках фотоаппарат. Я удивилась – в ее руках он выглядел совершенно не тяжелым, как если бы та тяжесть впитывалась и нейтрализовалась ее руками.