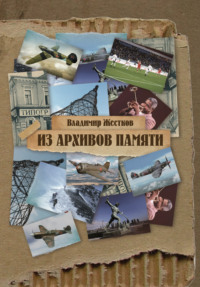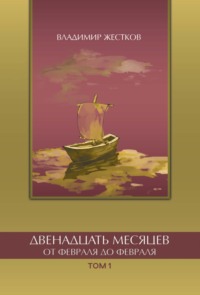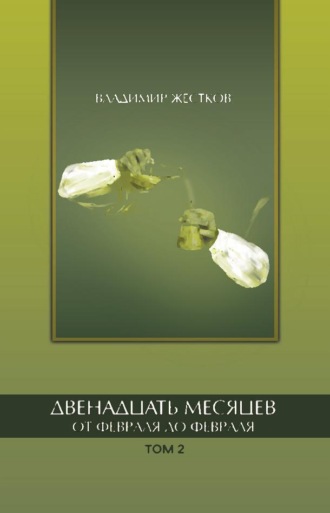
Полная версия
Двенадцать месяцев. От февраля до февраля. Том 2
А Пьер Безухов хоть тоже внешне, и даже очень, на Бондарчука оказался похож, но это же совсем не Бондарчук. Тот простой деревенский мужик, каким он предстал перед нами в «Судьбе человека», ну, может, получивший образование колхозник, набравшийся столичного лоска, как в «Серёже», или, в крайнем случае, русский интеллигент, как доктор Астров в «Дяде Ване» или Дымов в «Попрыгунье», но никак не граф Безухов; так держаться обычный человек не может, для этого надо с младенчества в этом кругу вертеться. Да и потом, такой путь от незаконнорождённого графского сынка до потомственного графа, обладателя гигантского состояния, простой человек, каким бы гениальным актёром он ни был, пройти вот так, как Пьер, никак не мог. А Анатоль Курагин – бонвиван, хлыщ, дамский угодник, повеса, франт, и ещё много-много можно синонимов придумать, но всё равно они, даже если их все собрать, не смогут его полностью обрисовать, такой он изысканный и обходительный, – разве это любимый миллионами Павка Корчагин, или романтик принц Грэй, или доктор Максимов из «Коллег»? Там везде это был узнаваемый Василий Лановой, но не в «Войне и мире». Понять и принять, что Анатоль Курагин – это не живой человек, а просто роль, которую исполняет прекрасный актёр, было невозможно.
Первая серия закончилась, и организаторы устроили получасовой перерыв. В зале и так немного зрителей было, а теперь, поскольку море всё больше и больше расходилось, народ и вовсе стал потихоньку в каюты перемещаться. Вот мы с Виктором почти единственными в зале и остались. Я огляделся: действительно, всего несколько кресел оказались занятыми, и всё.
Начался второй фильм – «Наташа Ростова». Когда на экране возникла эта восторженная девочка, все присутствующие просто охнули, и всё, искать среди известных актрис, кто это, было бессмысленно. Савельева первый раз снялась в кино, да сразу в таком, да так. Это был тихий восторг, тихое счастье. Я смотрел и полностью погрузился в то время и в ту жизнь. Уже потом, когда вторая серия закончилась, я как бы в шутку спросил сам себя: «Ну а сейчас что это было – видение или явление? Ведь я, казалось, переместился туда, на экран, только меня видно не было». Жаль, кроме меня, никто этого не видел, вот и ответить было некому.
Долго я оставался в том мире, который сотворил великий режиссёр и не менее замечательный актёр Сергей Бондарчук. Даже выйдя из зала и потеряв связь и с фильмом, и с его героями, и с актёрами, что не одно и то же, как бы меня ни уговаривали окружающие, я никак не мог вернуться на «Армению», чтобы осознать, что я никуда не перемещался. То удивительное чудо, которое сотворили авторы фильма, перемотали в большую катушку, положили в плоский дискообразный металлический ящичек и убрали до лучших времён, а все мы, которые зрители, продолжали находиться там же, то есть на палубах и в каютах нашего круизного судна.
Мало-помалу качка усиливалась, «Армения», значительно сбросив скорость, пересекала Лионский залив. Волны всё росли и росли. Скоро все выходы на палубы были закрыты, музсалон принял свой штормовой вид: кресла прикреплены к стенам, столики убраны. Виктор тоже отправился в каюту, Диму я не видел с самого ужина, да, честно говоря, не очень-то и хотел увидеть, по крайней мере в тот вечер. Я остался один в музсалоне, перекрепил одно из кресел так, что в нём можно было сидеть, и вновь начал крутить в голове всё ту же пластинку: так что это было – гипноз или мистические перемещения моего сознания (не знаю, можно ли назвать это душой)?
Я сидел обхватив голову руками и закрыв ими глаза – так мне легче было. Не думалось легче, а просто было. Свет мне не мешал, в музсалоне царил полумрак – шторы же были задёрнуты, – но вот когда глаза, если их открыть, упираются в пальцы рук, то как-то спокойней и уверенней себя ощущаешь, а если глаза упираются в полумрак и начинают там сами по себе, против воли своего хозяина всё рассматривать, становится не по себе. Ощущение такое, как будто голый на военной медкомиссии ходишь от врача к врачу. Мерзкое ощущение, я вам скажу.
То ли качка стала более равномерной, такой убаюкивающей, как будто я в кресле-качалке сижу, а меня кто-то легонько покачивает, не знаю, но я действительно задремал. Обычно я сны не запоминаю, вот и то, что приснилось тогда, как ни пытался вспомнить, так и не смог.
Когда я проснулся, никаких изменений в музсалоне не заметил. Я встал, ноги у меня затекли – по-видимому, спал я достаточно долго. «Надо пойти посмотреть, что там на улице делается», – решил я и направился к двери.
Я слегка толкнул от себя дверь, но в этот момент она распахнулась. В дверях стоял встревоженный Дима.
– Ну, Ваня, разве можно так? – спросил он, а затем повернулся и кому-то крикнул: – Здесь он, жив-здоров.
Затем опять обратился ко мне:
– Где ты был-то? Мы с Виктором уже всё судно обшарили, сюда раз десять заглядывали, решили последний раз всё обойти и, если не найдём, тревогу поднимать.
Из-за спины Димы появилась голова Виктора:
– Ну и где ты его нашёл?
– Скорее он сам нашёлся, – ответил Дима. – Он из музсалона выходил, когда я туда ещё раз решил ткнуться.
– Я уж подумал, что ты с Надькой где-то завис, но они с Людкой на месте оказались. Мы их даже разбудить умудрились. Новую какую-нибудь завёл, что ли?
Вопрос Виктора поставил меня в тупик.
– Где здесь новую найти? – вместо того чтобы толком объяснить всё ребятам да поблагодарить их за беспокойство, огрызнулся я.
– Во, теперь я слышу речь не мальчика, а мужа, – засмеялся Виктор. – Так где ты был? Признавайся.
– Здесь, в музсалоне, присел в кресло, вот меня и убаюкало.
На мои слова ребята отреагировали весьма своеобразно. Они переглянулись и почти одновременно задали друг другу один и тот же вопрос:
– Ты куда глядел? – друг на друга посмотрели и тут же рассмеялись.
– Ну, мы и молодцы, – сказал Дима. – Я смотрю – темно в салоне, мельком глянул – вроде никого, а что он в тёмный угол забился да спит, такое даже в голову прийти не могло.
– Ладно, нашлась пропажа – и хорошо. – Виктор был в своём стиле. – Я спать пойду, скоро новый день наступит, а у меня ни в одном глазу. – И он, махнув рукой, направился в сторону трапа.
Неожиданно мы с Димой остались вдвоём, но я этого совсем не испугался, мне вдруг захотелось продолжить наши беседы. До сих пор не понимаю, почему я успокоился. Может, сон, который я так и не смог вспомнить, стал этому причиной. Да и какая разница, захотелось и захотелось. Я потянул Диму за руку, и мы с ним оказались в музсалоне. Второе кресло привести в состояние, пригодное для сидения, – плёвое дело. Пара минут – и вот мы вновь сидим рядом.
Наступило какое-то неловкое молчание, но Дима сориентировался быстрей меня:
– Смотрю, Ваня, ты меня как бы избегаешь, пытаешься делать вид, что так случайно или вынужденно получается, а мне всё ясно и понятно. Начал я думать, с чем это связано. Первое и самое очевидное: устал человек, такая эмоциональная нагрузка вдруг на него свалилась. Причём ладно бы он готов к ней был, так ведь нет. Он же ехал безмятежно отдохнуть да на мир поглазеть, и тут нате вам. Одно видение за другим. Так и свихнуться можно. Вот я и решил отойти чуток в сторону. Передохнет человек, сил нервных немного поднакопит, всё в голове уложит аккуратно, чтобы нигде ничего в мозгах не торчало, и вновь ко мне обратится. Потом чувствую: так-то оно, конечно, так, но не только в эмоциональной усталости здесь дело, имеется ещё какой-то фактор, а вот какой? Никак я его вычислить не мог. Только сегодня, уже после ужина, догадался. Сейчас скажу, а ты признайся, пожалуйста, правильно я всё высчитал или ошибся где. – И Дима на меня с такой мольбой во взгляде посмотрел, что я согласно кивнул. А он неожиданно замолчал и в окно уставился.
За окном глухая чернота, и больше ничего не видно, ни огонька, ни звёздочки подмаргивающей – ровным счётом ничего. Я ждал продолжения, а Дима молчал. Ну, думаю, наверное, он мысли свои по полочкам раскладывает и пытается всё так сформулировать, чтобы нигде ни малейшей ошибки или оговорки не допустить.
Наконец он начал, да так, что я прямо в стул влип:
– Признайся, ты решил, что я тебя гипнотизирую? – и так посмотрел на меня, что мне ничего не оставалось, кроме как согласно головой кивнуть.
– Фу, – вдруг выдохнул Дима с таким облегчением, что мне стало ясно: совсем он не был уверен в том, что только что сказал. Так, мысль смутная была, а надо же, попал прямо в самую что ни на есть точку.
А Дима продолжил:
– Понимаешь, мне всё ясней и ясней становилось, что ты меня в чём-то подозревать начал. Но в чём – вот вопрос. Я себе всю голову сломал, никак ни черта не мог понять. Чувствую: простое что-то, но вот что – неясно. Сегодня напрочь отключился от всего, экскурсию не слышал вообще, как удавалось одному остаться, вслух рассуждать принимался – мне так легче думается. Опасно, конечно, мало ли кто подслушать может, но зато эффективно. Вернее, так: всегда эффективно было, а сегодня ноль, круглый ноль, знаешь, такая баранка слегка вытянутая. И вот буквально только что мне эта простая мысль в голову пришла: да он подозревает, что это я его в транс ввожу и заставляю всякие всячества видеть! Я ведь, когда тебе сказал, что догадался, и начал просить признаться, прав я или нет, ещё ни до чего не додумался. Решил себя поставить в такое положение, из которого только один выход – найти реальную причину. Знаю, что в безвыходной ситуации голова совсем по-другому работает. И точно – в последнюю секунду прострелило. Я даже додумывать не стал, а тебе эту мысль и вывалил. И видишь – угадал.
Он выглядел таким довольным, каким я его ещё ни разу не видел. Как он мог догадаться? Ведь сейчас темно, по лицу вряд ли что разглядеть можно, да и думал я последние минуты не о том, угадает он или нет, а о том, что Дима на моё признание, если угадает, скажет. И он догадался. Какой же у него мощный аналитический ум, как далеко он может варианты просчитывать. Небось, в шахматы хорошо играет. Ну, я и брякнул:
– Дима, а ты в шахматы как давно играешь?
Он улыбнулся:
– Быстро ты, Ваня, соображаешь, молодец. В шахматы я с детства играю, правда, дальше мастера спорта не дошёл, хотя задатки у меня неплохие были. Как мне тренеры говорили, ходы я рассчитывал чуть ли не лучше, чем многие прославленные гроссмейстеры, но работа мне этой возможности – совершенствоваться в шахматной игре – не дала. Да и мáстерские баллы я заработал, пока в Алжире дурью маялся. Там и начал в турнирах по переписке участие принимать, да видишь, как успешно получилось. А ты, значит, решил таким образом выяснить, как далеко я в своих рассуждениях заходить могу? Ещё раз скажу: молодец, правильно сообразил.
Он сказал всё это и замолчал, а я и так молчал, вот мы и сидели рядом молча. О чём он думал, не знаю, я же вообще ни о чём не думал. Хотя так, конечно, не бывает, человек, даже когда, казалось бы, ни о чём не думает, на самом деле думает о том, что ни о чём не думает. Получается парадокс, но это так.
Дима прервал своё молчание самым неожиданным образом:
– Мне кажется, ты читал роман Пастернака «Доктор Живаго». Ну а если сам роман и не читал, то уж стихи Юрия Живаго из романа читал наверняка. Помнишь знаменитое стихотворение «Гамлет»?
И он начал читать:
– Гул затих, я вышел на подмостки.Прислонясь к дверному косяку,Я ловлю в далёком отголоске,Что случится на моём веку.На меня наставлен сумрак ночиТысячью биноклей на оси.Если только можно, Авва Отче,Чашу эту мимо пронеси.Он перестал читать стихотворение Бориса Леонидовича и уставился на меня, глядя, как шевелятся мои губы: я машинально продолжал про себя произносить великие пророческие строки. А когда он понял, что я закончил и прочитал последнюю строку: «Жизнь прожить – не поле перейти», – то вновь задал вопрос:
– Вот ты книжник, любитель поэзии, считающий наверняка и по праву Пастернака одним из величайших русских поэтов. Знаешь, почему в первой публикации стихов из романа – помнишь, коричневенькая такая, маленькая книжка, в серии «Библиотека советской поэзии» года три назад изданная…
Я машинально поправил:
– Пять.
– Что пять? – не понял Дима.
– Эта книга вышла в 1967 году, это было пять лет назад, а не три.
– А… Ну, это, собственно, неважно, три или пять, главное, что в ней впервые в Советском Союзе были опубликованы стихи из запрещённой книги. Правда, об этом нигде там не упоминается. Так вот, в этот сборник вошли все стихи из романа, за исключением двух – «Августа» и «Гамлета». Знаешь, почему их там нет?
– «Август», – тут же ответил я, – явно из-за строк:
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодняШестое августа по-старому,Преображение Господне.Обыкновенно свет без пламениИсходит в этот день с ФавораИ осень, ясная, как знаменье,К себе приковывает взоры.Я хотел продолжать читать, но он меня прервал:
– Хватит, хватит. Вижу, знаешь и любишь. Молодец. Ну а «Гамлет»?
Я покачал головой. Может, и знал, когда книжка вышла, и все в моём тогдашнем окружении эту историю обсуждали, но не придал этому большого значения и благополучно забыл.
Дима посмотрел на меня, посмотрел и закончил:
– Ты же прекрасно знаешь это стихотворение. Неужели не можешь догадаться?
Я всё так же помотал головой.
– Там же почти прямая цитата из Библии, из Евангелия от Марка: «Авва! Отче! Всё возможно Тебе; Пронеси чашу сию мимо Меня». Пастернак лишь немного пригладил текст, и получилось так: «Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси». Ясно тебе?
Вот тут я утвердительно кивнул, это я и вспомнил, мне действительно об этом говорили когда-то, да и сейчас окончательно для себя уяснил.
– Ладно, – вдруг прервал все разговоры Дима, – уже следующий день наступил. Меня сон начал донимать. Пойдём-ка, друг сердешный, спать.
И мы пошли, хотя спать я совсем не хотел, но сказали – надо идти, я и пошёл. Правда, как голову на подушку положил, сразу же отключился.
Глава третья
23 ноября 1973 года
Утром меня разбудило солнце. Оно успело немного приподняться над морем, отыскало круглое отверстие иллюминатора и нежно пощекотало мне левое веко. Я подскочил, как будто на меня ведро холодной воды вылили.
– Надо же, – бормотал я про себя, – солнце взошло, а я в каюте валяюсь. Время-то к девяти уже, вот-вот на завтрак призовут.
И я, ненадолго заскочив в санузел, где второпях привёл себя в порядок, помчался на палубу.
«Армения» в сопровождении лоцманского катера медленно входила в порт. Город поднимался от моря вверх и выглядел очень привлекательно. Почти напротив нашей стоянки высилась колонна, на которую был вознесён небольшой человечек. Без бинокля я рассмотрел только вытянутую вперёд руку, как мне представилось, в попытке до чего-то дотянуться, но, скорее, он указывал куда-то.
Сразу после завтрака началась высадка. Вроде всё уже привычно, как всегда, но было и отличие: вместо наших родных паспортов нам всем раздали пропуска, маленькие такие прямоугольнички, на которых были наклеены наши фотографии и по-испански написаны имена и фамилии.
Автобусная стоянка расположилась вдоль причала, так что нам надо было лишь пройти через таможню и пограничный пост, где на наши пропуска даже не посмотрели, и мы сразу же оказались около автобусов. Рядом с нашим номером первым стояла небольшого росточка худенькая женщина то ли с очень смуглым, то ли с чересчур загорелым лицом и смоляно-чёрными волосами. Её возраст было трудно определить, я дал бы ей лет тридцать, максимум тридцать пять. Стояла она совершенно спокойно. Проходя мимо неё, я вежливо поздоровался, в ответ она кивнула – и всё.
Когда все уселись на местах, в автобусе появилась Надежда вместе с этой темноволосой незнакомкой. Наша вожатая молча села около окна, а незнакомка с микрофоном в руках осталась стоять в проходе.
– Здравствуйте, – на чистейшем русском языке, без примеси какого-либо акцента проговорила она и внимательно осмотрела автобус.
В салоне наступило молчание. Мы в этой поездке столько всего видели, что даже удивляться у нас уже не было сил, а незнакомка продолжила:
– Ещё два года назад меня звали Анжела Карлосовна Гонсалова, и я работала доцентом на кафедре новой и новейшей истории стран Европы и Америки Московского государственного университета. Сейчас меня зовут Анжела Гонсалес, и я перед вами выступаю в роли гида в Барселоне. Удивлены? Если бы мне такое сказали лет десять назад, я бы тоже сильно удивилась.
И она вновь оглядела весь автобус. Ни одно лицо не пропустила, на каждом хоть ненадолго остановила свой взгляд.
– Чтобы расставить все точки над «и», мне потребуется некоторое время, – продолжила она. – Думаю, что в десять минут я уложусь, но без этого объяснения многое будет непонятно или превратно истолковано. Поэтому я и прошу у вас разрешения на эту небольшую автобиографическую анкету с некоторыми разъяснениями. Позволяете? Тогда давайте начнём с самого начала. А что у нас начало? – спросила и улыбнулась. – Рождение? Нет, это не совсем правильно. Наше начало – это наши родители. Так вот, мои родители – испанские коммунары. Об истории Испании в этом столетии и о том, кто такие коммунары, должны знать все, на этом я останавливаться не буду. После поражения республиканцев в Советский Союз выехало много молодых энергичных людей, мечты которых о свободной демократической Испании были грубо растоптаны фашистскими сапогами. В их числе были Карлос Гонсалес и Мария Астуриас. Удивительно, но они не были даже знакомы. Почему удивительно? Да потому, что жили в одном городе, большом правда, в Барселоне, куда вы сегодня прибыли, и познакомиться здесь двум молодым людям, разумеется, непросто, но ведь они жили на одной улице, хоть и в разных её концах. А затем плыли на одном судне и в Москву из Одессы ехали одним поездом, пусть и в разных вагонах. А вот познакомились лишь более чем через год после своего приезда в СССР, в конце августа 1940 года, при этом познакомились совершенно случайно. В кинотеатре им продали билеты на соседние места. Случайность… – проговорила она задумчиво, но тут же продолжила: – Папа на той войне был пулемётчиком, очень он любил всё сотворенное из железа, поэтому пошёл учиться в Станкин, а мама была медсестрой, в конце концов она закончила Первый медицинский институт. Я родилась… в это трудно поверить, но это произошло в Москве 22 июня 1941 года. Дата всем хорошо знакома. Маму вместе со всеми студентами Первого меда эвакуировали в Уфу. Папа рвался на фронт, но ему постоянно отказывали – возможно, это было связано с тем, что он первым делом везде заявлял, что хочет отомстить за поруганную честь Каталонии. Как ещё не арестовали – не знаю.
Мне показалось, что здесь она точно задумается, но нет, она продолжила без остановки:
– В 1943 году мама окончила в Уфе институт, получила диплом врача-хирурга и попросила, чтобы ей разрешили вернуться к мужу, который работал на московском заводе, куда привозили ремонтировать танки. Ей разрешили, и она вместе со мной приехала в Москву, где почти непрестанно находилась в госпитале. Профессия хирурга на войне очень востребована. Так что я ваша землячка – мне сказали, что группа у вас московская. Росла я как все советские дети: садик, школа, потом МГУ. Была октябрёнком, пионером, комсомольцем. Отличие было одно: я была многоязычная. С раннего детства я говорила на трёх родных языках: среди других детей – на русском, дома – на испанском или, что чаще, каталанском. Никогда не видя страну, зная о ней лишь по рассказам взрослых, не только родителей, но и других испанцев, с которыми мои родители поддерживали отношения, я влюбилась в далёкую родину моих предков. Дома носила каталонскую одежду, ела каталонские блюда, пела каталонские песни. Когда мы, каталонцы, собирались вместе, мы танцевали не фламенко, а сардану. Жила как бы на две страны: открыто, как все – в Советском Союзе; тайно, всеми мыслями – в Испании, да не просто в Испании, а в Каталонии.
Она даже головой из стороны в сторону покрутила и повторила:
– Именно в Каталонии. Затем после окончания МГУ была оставлена там в аспирантуре. Диссертацию защитила по теме, вполне естественно, связанной с историей Каталонии. Наряду с обычными занятиями – чтением лекций и проведением семинаров – создала студенческий кружок «Каталония». Из названия ясно, о чём мы там говорили.
И снова она крутанула головой, на этот раз как-то по-особенному.
– В пятидесятые годы многие из наших знакомых вернулись на родину. Франко немного смягчил к ним отношение, то ли простил, то ли сделал вид, что простил, но многие потянулись домой; но не как перелётные птицы, которые от холодной зимы улетают в тёплые края, чтобы весной вернуться на родину, нет, они навсегда возвращались туда, ведь Родина, с большой буквы, была именно там. Мои родители не решились вернуться, и мы продолжали жить в Москве. Три года назад мне утвердили тему докторской диссертации, естественно, на тему, связанную с историей Каталонии. Материала по теме у меня хватало, но тут неожиданно я была приглашена прочитать цикл лекций в Барселонском университете. Не знаю, как им удалось добиться, чтобы руководство страны разрешило читать лекции советскому учёному, но им это удалось. Моё начальство, я имею в виду МГУ, посчитало, что это поможет мне в подготовке докторской диссертации, и одобрило мою командировку. Так я стала первым советским лектором в Испании. Цикл лекций я прочитала, не буду стесняться этого слова, с успехом, собралась было возвращаться в Москву, но тут произошла неожиданность. По решению высшего совета Барселонского университета мне предложили в нём должность профессора, специалиста по истории Каталонии. Я была согласна и чуть не прыгала от радости, но в Москве остались родители, которые, если бы я взяла да не вернулась из Испании, могли превратиться в своеобразных заложников в Союзе. Я попросила у руководства университета время для решения всех личных проблем и вернулась в Москву.
Вот тут она задумалась, и это продолжалось довольно ощутимое время, но мы все молчали и терпеливо ждали, что она скажет дальше. А затем последовало уже знакомое нам покручивание головой, и она продолжила:
– На удивление, никто ни в МГУ, ни в государственных структурах не возражал против возвращения моих родителей вместе со мной на родину. Нам даже предложили не сдавать советский паспорт и остаться гражданами СССР. Мало того, в случае если не будет возражать Испания, мы могли стать гражданами сразу двух стран. Такого в СССР ещё не было. Самой труднопреодолимой преградой стало то, что между Советским Союзом и франкистской Испанией не было дипломатических отношений. Всё пришлось делать кружным путём – собственно, так же, как я добиралась первый раз читать курс лекций. По французской визе мы прибыли в Париж, там для нас оформили уже испанские визы, и вот мы всей семьёй оказались здесь. Папа до сих пор как пьяный ходит по Барселоне и смотрит, смотрит, смотрит. Он не может поверить, что мы оказались во франкистской Испании, при жизни каудильо. Тридцать с лишним лет назад они были вынуждены буквально бежать со своей родины, и вот неожиданное возвращение.
Она опять как-то нервно дёрнула головой.
– Да, Франко все эти годы, включая Вторую мировую войну, вёл себя как диктатор, но только внутри страны, на мировом уровне он скорее выглядел таким, знаете, диктатором с либеральным уклоном. Надо учесть, что и в пекло войны он не полез, подобно всяким Муссолини, Антонеску, Хорти и прочим пособникам Гитлера. Совсем в стороне, как болгарскому царю Борису III, ему остаться тоже не удалось, пришлось на восточный фронт хоть одно воинское подразделение, но послать, это оказалась так называемая Голубая дивизия. Но, отправляя эту дивизию на погибель, Франко преследовал во многом собственные интересы. И прежде всего, таким образом ему удалось с помпой, под ультрапатриотические выкрики удалить из страны наиболее реакционно настроенную часть военных. Дальше – больше, и тут он выиграл во второй раз, когда те из них, кто уцелел, но оказался в плену, начали возвращаться домой. Этот обмен военнопленных на испанских коммунистов, находящихся в тюрьмах, он тоже записал в свой актив. Весьма демократично и дальновидно. Сдавал он свои позиции медленно, вернее, постепенно и очень незаметно. Правда, сейчас он сложил свои полномочия по состоянию здоровья. Франко смертельно болен, и это все знают, но руль управления страной окончательно он выпускать из рук не желает. Вот и торговое соглашение между Испанией и СССР было подписано, когда он ещё находился у власти. И, наконец, ваше появление. Когда возникли слухи, что в Барселону зайдёт судно с советскими туристами на борту, это было подобно разорвавшейся бомбе, но им мало кто поверил. Потом слухи превратились в подписанное соглашение. Причём осведомлённые люди говорили сразу о двух судах: одном – в конце октября, а другом – к концу ноября. Первое отменили, но вы – вот они, сидите передо мной. Представьте себе, вы самые первые туристы из СССР в Испании. Найти другие слова, кроме как «чудо», я не могу. Но чудеса бывают, и мы все в этом сегодня убеждаемся. И, наверное, не меньшим чудом является то, что гидом у вас будет тоже советская гражданка. Я себя бывшей не считаю. Наверное, это очень символично и, будем надеяться, явится пусть маленьким, почти микроскопическим, но шажочком к сближению двух народов – русского и испанского.