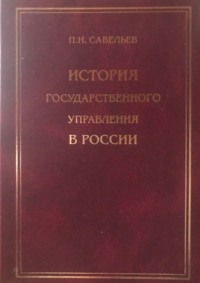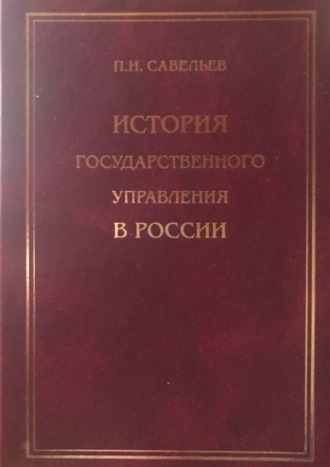
Полная версия
История государственного управления
Почти все любимцы царя познакомились со знаменитой дубинкой, которая стояла в углу токарной мастерской. Туда Петр вызывал виновных в казнокрадстве и примерно лупил их без лишних свидетелей. Чаще всего доставалось Меншикову, который отличился баснословным воровством. В походах дубинку заменяла трость. О ней с восторгом вспоминал Астраханский губернатор Артемий Петрович Волынский, которого Петр так «по отечески прибил», что его спасло только вмешательство Екатерины.
Неписанный кодекс петровской элиты решительно отвергал любое предательство государственных интересов. Такие преступления наказывались крайне жестоко. Примером служит дело сибирского губернатора князя Матвея Петровича Гагарина, подвергнутого жестоким пыткам и повешенного в 1721 году. К смертной казни был приговорен вице-канцлер барон Петр Павлович Шафиров, снятый с эшафота и отправленный в ссылку. Под следствием умер Алексей Александрович Курбатов.
Напротив, невольный промах или оплошность в добросовестном деле не только не влекли наказание, но вызывали сочувствие царя, который утешал неудачника и старался укрепить его в стремлении к честной и прямой службе. Петр понимал, что идеальных соратников, как и вообще идеальных людей, не бывает. Нужно только приставить человека к делу правильной стороной и поощрять в нем инициативу и деловую хватку, верность общему благу и беззаветную преданность своему Отечеству. Петр был щедр на награды для достойных. Выше всего ценился наградной портрет царя.
Взаимоотношения внутри петровской команды были далеко не безоблачными, что часто выплескивалось во время застолий, которые Петр умело регулировал с помощью спиртного. Возмутителям спокойствия предлагалось выпить «орла» (огромный ковш крепкого напитка). Петр был прост в общении с участниками застолья, что порождало особую атмосферу близости и искренности. При этом не было ни малейшего панибратства, но создавалась обстановка сердечного почитания. Все знали, что как за Богом молитва, так и за царем служба не пропадет.
Европейская роль России кардинально менялась по мере событий эпохи Петра Великого. Из периферийного государства где-то на восточной окраине Европы Россия превратилась в ведущую державу континента, активно участвующую в межгосударственных отношениях.
На протяжении предшествующего XVII столетия Россия, с большими потерями выбравшаяся из Смуты, была занята устроением собственной государственности. Ее сотрясали внутренние неурядицы. Не случайно XVII век получил наименование «бунташного». Усмирение мятежных банд казаков, «соляной» и «медный» бунты, восстание Стапана Разина, церковный раскол и «соловецкое сидение», стрелецкие мятежи и многое другое поглощали все внимание правительства.
Внешняя политика России была сугубо оборонительной и состояла в выстраивании отношений с соседними государствами. Угроза нависала с трех направлений: на западе нужно было отбиваться от Польши, на юге – от Турции и ее вассала Крымского ханства, на севере – от Швеции. Война на три фронта была непосильной для истощенной внутренними бедами страны. Чтобы справиться с одной, надо было идти на уступки по двум другим.
Европейские державы без особого интереса взирали на Россию и не принимали ее в расчет в своих геополитических раскладах и планах. Петр сразу это почувствовал, едва Великое посольство пересекло границу. Все его планы на создание мощного антитурецкого союза в европейскими странами оказались пустыми мечтаниями. В Европе назревал внутренний конфликт из-за борьбы за испанское наследство, и роль России в нем вовсе не просматривалась.
«Великий союз», созданный Англией, Австрией и Голландией против Франции был также для России недоступен. А все вместе они боялись сильную Швецию, где к власти пришел молодой сорвиголова Карл XII, обладавший едва ли не самыми сильными в Европе армией и флотом. Взятие Азова также не произвело впечатления на европейцев, и Петру пришлось забросить все свои приготовления на юге.
Европейская судьба России должна решаться на севере, на побережье Балтийского моря. Пока внимание держав приковывал испанский вопрос, можно было попытаться отвоевать выход к морским путям на Балтике. Это означало войну со Швецией. В одиночку это было не под силу, а серьезной поддержки никто не обещал. В последний момент на антишведский Северный союз согласились только Саксония и Дания.
Это были слабые и ненадежные союзники, которые не только не помогли, но скорее затруднили России ее задачу. Они рухнули при первой опасности со стороны Карла XII и Россия осталась с ним один на один. Дания капитулировала после первой же бомбардировки Копенгагена с шведских судов и подписала Травендальский договор (8 августа 1700 г.). Это был единственный союзник России, обладавший флотом.
Начало Северной войны ознаменовалось поражением русской армии под Нарвой в ноябре 1700 г., что окончательно подорвало кредит России в глазах европейских держав. На нее махнули рукой и забыли. Русский посол в Гааге А. А. Матвеев общался с голландцами «как отчужденный» и вынужден был выслушивать их нарекания «с нестерпимой горестию».
Махнул рукой на царя и Карл XII, который вместо того, чтобы развить нарвский успех, лихо гонялся за польским королем и саксонским курфюрстом Августом II по его владениям и тем очень помог Петру. Безуспешно русские дипломаты обивали пороги европейских королевских домов, ведь по известному плану Лейбница Россия предназначалась в качестве колониального владения Швеции. Вскоре в Европе началась война за испанское наследство, и всем стало не до России.
Петр же, напротив, посчитал поражение под Нарвой великим уроком, а позже вообще назвал его «счастием» для России. Европейская война тоже его очень порадовала. Полученную передышку он использовал для создания новой армии и флота. И вскоре пришли первые, пока малозначительные на фоне блистательных успехов Карла, победы. В Европе их никто не заметил.
Карл XII согнал Августа II с польского престола, принудил его подписать Альтранштадтский договор (сентябрь 1706 г.), занял Саксонию и, посадив на польский трон своего ставленника Станислава Лещинского, принял решение идти на Москву. Его план состоял в расчленении России. Северные территории с Псковом и Новгородом должны были отойти Швеции, а западные с Украиной и Смоленщиной – к Польше. Над Российским государством нависла смертельная угроза.
Петр обратился за посредничеством в заключении мира со Швецией к Великому союзу, надеясь, что торговые интересы Англии и Голландии заставят их помочь России в трудный момент. Однако миссия А.А.Матвеева в Лондон провалилась. Отвернулась и Австрия. Все боялись вызвать раздражение Карла XII. Все признали Станислава Лещинского королем Польши и наперебой навещали Карла в Саксонии, подталкивая его к походу на Россию.
Над европейцами довлел «нарвский синдром». Успехи русской армии, завоевавшей Ингрию и продвигавшейся в Эстляндии, остались незамеченными. Карл сделал роковой для себя шаг – двинул войска на Россию. Его армия испытала нехватку в снаряжении и боеприпасах. Расчет был на соединение с 16-тысячным корпусом генерала Левенгаупта с его громадным обозом. И тут грянул гром. В сентябре 1708 г. при деревне Лесной этот корпус был разгромлен 10-тысячным русским отрядом. Артиллерия и обоз были утрачены шведской армией.
И даже эта знаменательная победа не изменила умонастроения европейских столиц из антифранцузского Великого союза. Не вняли уговорам Петра и бывшие союзники Дания и Саксония, несмотря на предложение даже территориальных уступок вплоть до Дерпта и Нарвы. Тщетно русский посол в Дании В. Л. Долгорукий предлагал датскому правительству крупные денежные единовременные и ежегодные субсидии. Отказался и Август II. Все ждали скорой и окончательной победы Карла XII.
Все изменилось после Полтавской битвы 1709 года. Армия страшного Карла XII перестала существовать. Сам полководец бежал с поля битвы. Немедленно возобновился союз с Данией и Саксонией. Без уступок и субсидий от России. Союза с Россией теперь возжелали все – и Франция, и антифранцузская коалиция. Единственной страной, в свое время воздержавшейся от признания Станислава Лещинского, была Голландия. «Нарекания» Гааги были забыты, потому что торговая выгода важнее. Такова Европа. Была и остается.
Изменился и тон Петра. Теперь он мог предложить свое посредничество воюющим европейским державам. Он холодно отнесся к предложениям Англии и вступил в переговоры с Францией. Людовик XIV даже намекал на возможность предоставления венгерского престола царевичу Алексею Петровичу. Он же предлагал организовать русско-французскую торговлю через новые русские порты на Балтике.
Так Россия вступила на общеевропейскую политическую арену. Она стала общепризнанной европейской державой. Теперь она была желанным участником любого союза. Ее вмешательство в европейские дела признавались обычным делом. Вместе с тем явилась новая враждебность, страх от того, что будет нарушено «европейское равновесие». Этим особенно отличалась Англия, которой не нравилось усиление России и ослабление Швеции и прежде всего появление русского Балтийского флота.
Петр отправился в Париж, чтобы предложить Франции дружбу вместо Швеции. Париж соглашается, несмотря на все бывшие договоренности. Правда правительство во главе с регентом Филиппом Орлеанским еще осторожничает и постоянно оглядывается на Англию, однако все больше склоняется к союзу с Россией. Петр на руках несет малолетнего Людовика XV по ступеням королевского дворца.

Петр с Людовиком XV на руках
Дружбы Петра ищут и Георг I, курфюрст ганноверский и король английский, и добивающийся английского престола Яков II Стюарт, и Испания, которая готовилась к войне с императором, Англией и Францией. Швеция, в угоду Англии провалившая Аландский конгресс с Россией, очень скоро пожалела. Вслед за победоносным Гангутским сражением 1714 года последовала победа при Гренгаме (июль 1720 г.) на глазах английского флота. Швеция сдалась и пошла на заключение невыгодного ей Ништадтского мира (10 сентября 1721 г.).
Ништадтский мир был вторым по значению событием после Полтавской победы. Россия получала Ингрию, часть Карелии, Эстляндии и Лифляндии, а вместе с ними свободный и прочный выход к Балтийскому морю и его коммуникациям. Россия стала великой европейской державой. Императорский титул российского самодержца, хотя и не сразу, был в итоге принят всеми.
Южное направление внешнеполитической активности России отошло на задний план и было отложено до лучших времен. Тем более, что война с Турцией завершилась прутской катастрофой и дальнейшая борьба с Османской империей была переведена в дипломатическую плоскость. Царским эмиссаром в Константинополь был отправлен И.И.Неплюев, которому пришлось противостоять мощному английскому влиянию. Ему удалось предотвратить новую войну с Турцией, несмотря на происки европейских дворов, стремившихся нанести удар России с юга.
Стратегическим планом Петра был выход к Каспийскому и Черноморскому мореплаванию, для чего следовало отодвинуть русскую границу до Кавказа и Каспия. Без новой роли России в европейских делах этот план был бы нереальным, ибо позиции держав, особенно Англии, здесь были доминирующими. Каспийский поход Петра 1722 года подавался русской дипломатией как естественная потребность утвердиться на побережье Каспия, не ущемляя интересов Турции. Русские взяли древний Дербент.
Осенью 1723 года молодой персидский шах Тохмас, утвердившийся на престоле после восстания афганцев, подписал с Петром договор, по которому Россия получала почти все побережье Каспия с провинциями Ширван, Гилян, Мазендеран и Астрабад. Турция смирилась и с этим. Позиции России в Европе были настолько сильны, что никто не решился на открытый протест. Новая европейская держава властно диктовала свои условия бывшим вершителям судеб запада и востока.
Лекция 4. ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ
– Наследие Петра Великого и первые наследники престола
– Аристократия и дворянство в борьбе за воцарение Анны Иоанновны
– «Бироновщина» как система государственного управления
Наследие Петра в момент его смерти казалось необозримым и непосильным ни для кого из его возможных наследников. Петр оставил после себя великую империю, обширность и сложность которой во всей ее целокупности не мог охватить своим разумом никто из его современников. Управление такой огромной территорией и таким многоликим населением так и не далось в полной мере никому из его наследников вплоть до революции 1917 года. Это была мир-страна, мир-экономика, это была новая европейская цивилизация, не похожая на Европу.
Европейская культура проникла и укоренилась в сознании высших слоев общества. Они оделись в европейское платье, построили себе европейские дворцы, изъяснялись на странном новоязе, в котором редко попадались собственно русские слова. При этом масса народа оказалась словно совсем не затронутой этими новомодными веяниями. Народ продолжал жить прежним укладом жизни.
У Российской империи была новая столица с нерусским названием Санкт-Петербург. Она напоминала то ли Венецию, то ли Амстердам, но никак не Москву, Нижний Новгород или Архангельск. У России была новая международная роль великой европейской державы, на которую оглядывались с опаской все ее ближние и дальние соседи.
На протяжении следующего столетия после Петра они все признали императорский титул русских царей, хотя совсем недавно это казалось совершенно невозможным, ведь в Европе на их памяти была всего одна империя – Великая Римская империя германской нации со столицей в Вене.
Могучий морской флот, огромная регулярная армия, многочисленный бюрократический аппарат – все это наследие петровских реформ было на иждивении казны, которая пополнялась главным образом за счет подушной подати, сменившей старую подворную податную систему, которая оставляла еще некоторую свободу личности.
Государево тягло приобрело личный, персональный характер и тяжким бременем легло на плечи основной массы населения. Пожизненная служба стала уделом не только крестьянства, из которого набиралась основная масса рекрутов, но и городских и прочих сословий, включая служилое дворянство. Это было государственное закрепощение всех сословий. Протест против него начался сразу же после смерти Петра.

Петр и «элита»
Смерть Петра застала врасплох его наследников. Своим Уставом 1722 г. о престолонаследии, прославляемым знаменитым панегириком Феофана Прокоповича «Правда воли монаршей», а также помпезной коронацией в 1724 г. своей наложницы Марты Скавронской, усвоившей имя Екатерины Алексеевны (Екатерина I), Петр посеял жуткое разномыслие в умах российской элиты, которая кинулась высчитывать степени родства разных ветвей императорского дома и соображать свои возможности занять место поближе к власти.
Сама власть императора при Петре приобрела абсолютный характер и уже не зависела от прежних многовековых традиций. Не было уже былых ограничений в виде Земского собора, Боярской думы, разрядных книг и местничества. Над всем вознеслась воля монарха, который сам назначал себе наследника. Такое было уже однажды, когда великий князь Московский и государь всея Руси Иван III своей волей свел с престола уже коронованного внука Дмитрия Ивановича и сделал наследником сына от Софьи Палеолог Василия III.
Петр также расправился с прямым наследником, своим сыном Алексеем Петровичем, но назначить себе иного наследника не успел. Божий промысел лишил его в решающий момент возможности написать завещание. Он лишил его даже дара речи, так что умирающий император оказался бессилен определить судьбу верховной власти, что привело к ожесточенной борьбе за трон и длинной, изнурительной для страны череде дворцовых переворотов. Порой на троне оказывались лица, не имевшие кровного родства с царствующей династией.
В этой мутной обстановке подковерной борьбы и интриг сложились три основных центра силы, которые в разной степени влияли на государственное управление на протяжении всего XVIII столетия – Высшие и центральные государственные учреждения (Сенат, Синод, коллегии), Советы при особе государя, фавориты, или «припадочные люди», как их насмешливо именовали недовольные современники.
Первая схватка за трон развернулась уже у смертного одра Петра Великого, скончавшегося в ночь на 28 января 1725 г. Претендентами назывались супруга Петра императрица Екатерина I и внук его, сын казненного Алексея Петровича, Петр Алексеевич. О дочерях Анне (Голштинской) и Елизавете и о племянницах – дочерях царя Ивана V Алексеевича Анне (Курляндской) и Екатерине (Мекленбургской) речь не шла вообще.
Сразу же выявилось, что правящая элита расколота на два лагеря. За Екатерину были новые выдвиженцы – Меншиков, Ягужинский и Толстой. За Петра были выходцы из старой боярской знати – князья Долгорукие и Голицыны. Судьбу трона решило вмешательство гвардии, выступившей в поддержку Екатерины. Так, впервые в истории России на престоле оказалась женщина подлого происхождения. Впервые же в качестве политической силы заявила о себе гвардия, состоявшая из шляхетства (дворянство).
Во избежание открытого конфликта сторон в феврале 1726 г. был создан новый высший орган власти – Верховный Тайный совет с полномочиями бывшей Боярской думы. В него вошли Меншиков, Апраксин, Толстой, Головкин, Остерман, а также князь Дмитрий Михайлович Голицын. Сенат был низведен до уровня коллегий, а всеми делами заправлял первый временщик, президент Военной коллегии Александр Меншиков.
В мае 1727 года Екатерина скончалась от скоротечной болезни и вопрос о троне встал вновь. Единственным претендентом стал Петр Алексеевич – Петр II, который упоминался в завещании Екатерины (возможно, подложном). До совершеннолетия Петра назначался регентский совет в составе Верховного Тайного совета с включением в него дочерей Анны и Елизаветы. Дальнейшее престолонаследие на случай бездетной кончины Петра II предполагало сначала Анну Петровну, а затем Елизавету Петровну с их наследниками. Однако, история распорядилась иначе.
Чтобы сохранить власть и влияние в государстве и при новом монархе, Меншиков стремился породниться с ним. Он добился разрешения больной императрицы на обручение 11-летнего Петра II со своей дочерью Марией. Поселил его в своем доме, но Петр возненавидел наглого временщика и остался холоден к его дочери. У него появились иные привязанности и увлечения.
При первой же возможности Меншиков был отправлен в отставку, а затем и в далекую сибирскую ссылку в Березов со всей семьей. Готовясь к коронации, двор переехал в Москву. Здесь Петр II надолго задержался. Он практически не занимался государственными делами, проводя время в забавах и удовольствиях.

Император Петр II
Он сблизился с молодым князем Иваном Алексеевичем Долгоруким, известным кутилой бражником, и обручился с его сестрой Екатериной Алексеевной. Между тем, в состав Верховного Тайного совета были включены новые члены – князья Василий Лукич и Алексей Григорьевич Долгорукие, что усилило аристократическое крыло совета, но не повлекло за собой перемен в политике. Работа совета была фактически парализована. Трудился один вице-канцлер Андрей Иванович Остерман.
Постоянные кутежи и зимние охоты юного императора в сопровождении беспутного Ивана Долгорукого, а иногда и молодой тетушки Елизаветы Петровны, оборвались трагически. Петр II во время одной из таких поездок заразился оспой и в ночь с 18 на 19 января 1730 г. скончался. Что ожидало Россию от его царствования, так и осталось загадкой. Она вновь сделалась игрушкой в руках враждующих группировок. Причем многие из участников этой борьбы вскоре горько пожалели о своей глупости и самонадеянности.
Аристократия и дворянство впервые открыто столкнулись в борьбе вокруг условий передачи трона Анне Иоанновне, дочери старшего брата и соправителя Петра I царя Ивана V Алексеевича, человека болезненного и очень рано ушедшего из жизни.
Реализуя свои внешнеполитические матримониальные расклады, Петр Великий выдал свою племянницу Анну замуж за герцога Курляндского, скончавшегося вскоре после свадьбы. Положение молодой вдовы было незавидным в силу бедности Курляндского двора и скудного содержания, поступавшего в Митаву из Санкт-Петербурга. Приглашение именно ее на Российский трон было результатом неожиданной смерти Петра II и хитросплетений борьбы за власть разных политических сил.
О времени Анны Иоанновны написано не так много, как об эпохах Елизаветы или Екатерины II. Между тем, оно по-своему интересно, в том числе и с точки зрения истории власти. Точнее – борьбы за власть. Борьба эта началась до нее, еще при воцарении Екатерины I, когда впервые на политическую сцену выступила гвардия, и судьба трона оказалась в руках дерущихся честолюбцев.
Пигмеи спорили о наследии великана, – сказал Николай Михайлович Карамзин, – и это самая точная оценка происходившего. Никто из участников этой подковерной схватки не способен был подняться до понимания судеб страны, ее народа. Одни дрались за то, чтобы любыми путями удержаться государственной кормушки. Другие рвались к ней, чувствуя, как слабеет сила прежних властителей.
Основная борьба развернулась между аристократией, тяготевшей к олигархической системе государственного управления, и дворянством, которое именовалось на польский манер шляхетством и требовало своего участия в делах управления государством. Цитаделью аристократов был Верховный Тайный совет, или просто Верховный совет, как иногда встречается в источниках и литературе. Их было всего семь человек, причем к моменту воцарения Анны четверо верховников были из князей Долгоруких.
В момент смерти Петра II его любимец Иван Долгорукий составил поддельное завещание, которым престол отдавался несостоявшейся невесте императора Екатерине Долгорукой. Он даже подписался за императора, как не раз делал по его приказу при его жизни, но пустить документ в ход так и не решился. Едва Петр испустил дух, Иван вышел из комнаты умирающего (Лефортовский дворец) с обнаженной шпагой и воскликнул: «Да здравствует императрица Катерина». Ответом было гробовое молчание. Вложив шпагу в ножны, он отправился домой и сжег завещание.
Затея Долгоруких провалилась еще и потому, что переругалось их старшее поколение. Это их и погубило. На следующий день князь Василий Лукич Долгорукий внес в совместном заседании Верховного совета, Сената и высшего генералитета кандидатуру Анны Иоанновны, с которой все и согласились. Еще один родовитый верховник князь Дмитрий Михайлович Голицын предложил знаменитые «пункты», или кондиции, то есть условия, на которых должна была царствовать Анна.
Верховники, да и большинство аристократов вообще, относились к шляхетству без особого почтения. Они думали о себе. Среди них были и те (к примеру, князь Алексей Михайлович Черкасский), кто хотел использовать силу дворянства в своих интересах. Ослепленные своей властью верховники ответили на призывы Черкасского выслушать мнение дворян пустыми обещаниями заботиться обо всех сословиях.
Это была ошибка, потому что основная масса родовитой знати была инертна и выжидала, а у верховников не было силы, чтобы провести в жизнь свои планы. За дворянством же как раз сила была. И хорошо организованная. Гвардейские полки был по своему составу дворянскими. Причем, у шляхетства не оказалось четкой политической программы, а у гвардии все было просто. Она желала самодержавия, как при Петре, который их создавал, холил и лелеял.
Впрочем, было дозволено подавать дворянские проекты в Верховный совет. Из 12 шляхетских проектов наиболее обстоятельным был проект знаменитого Василия Никитича Татищева. Шляхетство требовало, чтобы Верховный совет был расширен и чтобы он назначался по выбору всего дворянства. В остальном это были просьбы об ограничении службы 20-ю годами, об отмене единонаследия и открытии школ для дворянских детей.
Делегация Верховного совета из трех его членов во главе с князем Василием Лукичем Долгоруким явилась в Митаву и предложила Анне трон и кондиции. Однако, их опередил посланец обиженного на верховников П.И.Ягужинского, его адъютант Сумароков, и предупредил Анну о разногласиях в Москве, предложив не принимать кондиций. Анна трон и кондиции приняла, но сообщение Ягужинского также приняла к сведению.
Москва был заполнена шляхетством, съехавшимся на свадьбу императора, а попавшим на его похороны. Как только Анна приехала в Москву, к ней явилась огромная депутация от дворян, человек с 800, и объявила о том, что шляхетство и народ не поддерживают кондиций и просят рассмотреть проекты, поданные в Верховный совет. При этом гвардейские офицеры из состава депутации потребовали самодержавной власти.