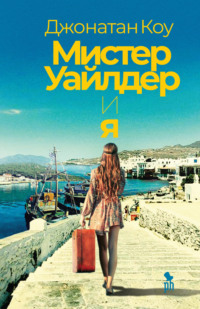Полная версия
Вдали от этого разгула буйного веселья Фрэнк и Сэмюэл сидели друг против друга в приватном баре – маленьком, обитом деревянными панелями, прокуренном закутке рядом с баром-салоном, но от него вполне отдельном. В этом укромном пространстве, конечно, слышно было состязание Албертова фортепианного музицирования и пронзительного воя граммофона, но и то и другое приглушалось, а потому едва ли слишком мешало беседе – или не мешало бы в любом случае, если б та не исчерпалась и не сошла на нет. Фрэнк был и в лучшие времена немногословен, а у Сэма под действием четырех или пяти пинт, которыми он успел закинуться по прибытии, веки начали тяжелеть – второй раз за тот день. К счастью (наверное), пиво в пабе кончилось примерно три четверти часа назад, и, вместо того чтобы перейти на что-нибудь рюмочное, эти двое держались все это время за свои пустые стаканы. Табак и сигареты успешно заполняли пустоту.
Как бы то ни было, отвлечение все-таки возникло. Алберт прервал игру. Граммофон заглушили. За стойкой хлопнул в ладоши и призвал к тишине хозяин паба Том. Его сын и кто-то из друзей взгромоздили тяжелый приемник на полированную деревянную столешницу бара, включили. Танцоры прекратили плясать и расселись по местам, какие нашлись, а кто-то прокричал:
– Король! Король! – и разговоры быстро иссякли почти совсем. Донесся лишь редкий приглушенный ропот – от тех, кто не был роялистом или просто не желал прерывать возлияния.
– Не хочу я слушать это чертово радио, – громко пробурчал кто-то.
– Это же Король, приятель! – отозвался другой завсегдатай.
– К-к-к-к-король! – подал голос кто-то еще, жестоко передразнивая знаменитое монаршее заикание. Раздался шумный смех, а также осуждающее цыканье и возглас:
– Как не стыдно!
Предыдущая передача еще не завершилась, и пока она тянулась, болтовня присутствовавших вновь стала набирать обороты. Через минуту-другую разговоры сделались такими громкими, что заглушили голос диктора Би-би-си, потонули и первые слова Короля, начавшего свою сухую торжественную речь.
– Тс-с-с-с-с-с-с-с-с-с! – зашелестел всеобщий шепот по всему салону, и трепаться прекратили мгновенно – за вычетом женщины, продолжавшей стрекотать над своим джином с лаймом, пока свирепый лысый мужик за соседним столом не гаркнул:
– Фэнни, Его Величество говорит. Имей уважение, закрой хлебало в кои-то веки.
Послышались смешки и улюлюканье, а затем слово в “Большом камне” дали Королю.
“Сегодня мы благодарим всемогущего Господа, – начал он, – за великое… освобождение. (Пауза перед “освобождением” была мучительной и многих слушателей вынудила смущенно и сочувственно поморщиться.) Вещая из старейшего столичного города нашей Империи, войной потрепанного, однако ни на миг не сломленного и не поверженного, – вещая из Лондона, я прошу вас присоединиться к моей благо…” – Казалось, до второй части слова он не доберется никогда.
– Ну же, приятель, давай! – вскричал кто-то, и Король словно услышал его: преодолевая треск радиоволн, его губы смогли вылепить наконец три финальных слога:
“…дарности”.
По залу разнесся вздох облегчения.
Затем Король, похоже, собрался, и в речи его прибавилось уверенности.
“Германия, – продолжил он, – враг, втянувший в войну всю Европу, наконец побежден. И все же на Дальнем Востоке нам еще предстоит разбираться с японцами, недругом настойчивым и жестоким. На это должны мы обратить всю свою решимость и все наши ресурсы. Однако в этот час, когда устрашающая тень войны оставила наши сердца и дома на этих островах, мы можем наконец отвлечься – ради благодарности и чтобы обратить наши мысли к задачам, какие предстоят всему миру вслед за победой в Европе”.
– Вот где мой Дэвид – в Японии, – пробубнил кто-то. – Бог знает, что эти мерзавцы с ним сейчас вытворяют. – А затем громче, чтобы всем было слышно: – Блядские япы! Хуже сраных фрицев!
– Эй! Потише ты! – одернул его Том из-за бара. – И за языком следи при дамах да когда Король говорит.
Однозвучный же монолог катился себе дальше, теперь неостановимый.
“Задумаемся, что именно поддерживало нас все эти почти шесть лет страдания и опасности. Знание, что все поставлено на карту – наша свобода, наша независимость, само наше существование как народа, – но вместе с тем и знание о том, что, защищая себя, мы защищаем свободы всего мира, что наши цели – цели не только этой нации, не только Империи и Содружества, но и каждой страны, где ценят свободу, а законность и право выбора неотделимы друг от друга. В чернейшие часы мы знали, что порабощенные и разделенные народы Европы полагаются на нас, их надежды были нашими надеждами, их уверенность укрепляла и нашу веру. Мы знали, что, если не справимся, рухнет последняя преграда на пути мировой тирании”.
– “Наши цели, – повторил Фрэнк, – цели не только этой нации”. Хорошо сказал, это точно. Моему тестю понравилось бы. Как думаешь? Хорошо же сказано, а?
Но Сэм толком не слушал. Голос Короля его раздражал – не заикание, а вот эти манерные, сплющенные гласные английских высших классов, звучавшие для Сэма иностранной речью. Как бы ни пытался, не мог он понять, почему все (включая его жену, голосовавшую, как и он сам, за лейбористов) выказывали столько почтения и пиетета этому скучному человеку и его избалованной семье.
“Есть большое утешение, – продолжал Король, – в мысли о том, что годы тьмы и опасности, в которых выросли дети нашей страны, завершились, слава Богу, навсегда. Мы проиграем, а кровь дражайших наших окажется пролитой впустую, если победа, ради которой они погибли, не приведет к устойчивому миру, основанному на справедливости и доброй воле”.
– Вот-вот! – вскричал Сэм, все же ощущая, что должен из вежливости к своему другу-роялисту выказать какое-никакое согласие, и решил, что со словами “мир”, “справедливость” и “добрая воля” соглашаться можно запросто, не поступаясь при этом своими принципами.
“К этому, следовательно, обратим наши мысли в сей день заслуженного торжества и гордой скорби, а затем вновь примемся за работу, исполненные решимости, все как один, не совершать ничего недостойного тех, кто погиб за нас, и сделать этот мир таким, какой желанен их и нашим детям. Такова задача, с которой мы теперь связаны честью. В час опасности мы смиренно вверили цели наши в руки Божьи, и Он был нам и силой, и защитой. Возблагодарим же за милосердие Его и в этот час победы вверим себя и новую свою задачу водительству той же сильной руки”.
Вновь возникла долгая пауза, самая протяженная, и до безмолвных слушателей постепенно дошло, что речь завершилась.
– Гля… справился, – произнес кто-то.
– Молодец! – воскликнул кто-то еще, заскрежетали по полу стулья, и все воздвиглись на ноги: из радио полился государственный гимн. С пылом и чувством выводили все эту помпезную мелодию, и еще до конца первого куплета в глазах у большинства уже стояли слезы. И тут Сэм бросил встревоженный взгляд на часы, нетерпеливо потеребил Фрэнка за руку и сказал:
– Я сказал Долл, что мы с ней встретимся в четверть. Сейчас почти столько. Я как пить дать не успею.
– Я с тобой, – сказал Фрэнк. – Мои тоже в Роухит собираются.
Они поспешно набросили пиджаки и принялись проталкиваться сквозь толпу в салоне. Пели теперь вразнобой и немного невпопад, но тем не менее с большим чувством. Слова в последних куплетах знали немногие, а потому импровизировали или же повторяли и повторяли первый куплет. Сэм задумался, долго ли публика пробудет в пабе – речь уже прозвучала, да и пиво кончилось. Костер в Роухите может оказаться развлечением популярнее. Сэм заметил, что не они одни уходят.
5
Освеженная и приободренная не только словами преподобного Чэпмена, но и самим получасом, проведенным в церкви, Долл добралась домой с лучезарным блеском в глазах, который не смогло погасить даже запинчивое снотворное выступление Короля по радио. Затем они с Мэри вновь набросили пальто, заперли дом и влились в толпу, направлявшуюся к костру. Ближе к концу дня прорезалось солнце, и наступил теплый приятный вечер со все еще остававшейся в небе легчайшей синевой. Повернули на Вудбрук-роуд и далее двинулись вверх по склону к игровым полям, и Мэри не могла не заметить, что некоторые улицы приложили гораздо больше усилий, чтобы отметить сегодняшнее событие, чем ее улица. Между деревьями на Торн-роуд висели гирлянды британских флажков, а на следующей улице на мостовой расставили столы на козлах и лавки, кругом сплошь остатки пирогов и сэндвичей, соседи сидели компаниями, болтали и тянули последнее пиво из бутылок, распевая время от времени куплеты песен. Почему, размышляла Мэри, ее улица обязательно такая тихая и сдержанная, почему этой улице вечно нужно производить впечатление превосходства и считать такие вот празднования несколько ниже собственного достоинства? Заметила она и свет, лившийся из всех окон. Мало кто задернул шторы, и после стольких лет глухих занавесей – прошлого, тянувшегося сколько она себя помнила, еще со времен до шестого ее дня рождения, – упоительно диковинным было теплое свечение всех этих огней, со всех сторон, каждый слегка отличался от прочих лучистостью и силой. А на игровых полях света будет еще больше, еще больше тепла. Костер и фейерверки. Мэри крепко стиснула материну руку, смакуя предвкушение и поеживаясь от охватившей ее дочерней нежности.
Отец ждал их, как и договаривались, на углу Хит-роуд и Селли-Оук-роуд. Не один. Рядом с ним стоял человек, с которым Сэм ушел в паб, а еще женщина и пара сильно постарше. Мать с отцом при встрече не поцеловались и не обнялись. Совершенно не в их привычках было такое. Долл оглядела мужа с головы до пят – заметила слегка набрякшие веки, едва заметное покачивание тела – и, делая собственные выводы о его состоянии, неодобрительно цокнула языком и стала ждать, пока ее представят незнакомцам. Поскольку Сэму это оказалось невдомек, последовало многосекундное молчание, прежде чем Фрэнк протянул руку и сказал:
– Здравствуйте, миссис Кларк. Вы же не знакомы с моей женой Бертой, верно? А это… – Фрэнк повернулся к пожилой паре, – мистер и миссис Шмидт. Мать и отец Берты.
– Очарована, без сомненья, – произнесла Долл и едва не присела в книксене, до того внушительной была фигура высокого сумрачного мужчины, пожавшего ей руку и слегка поклонившегося. На нем был черный “хомбург”, который он приподнял, поклонившись и явив высокий лоб и негустую путаницу беловатых волос. Носил он безукоризненно подстриженные усы, костюм-тройку в тонкую полоску, а также серебряные часы на цепочке, безупречным полукругом свисавшей из жилетного кармана. Впрочем, при всей его величественности общие взгляды притягивала его супруга. Была она ростом почти с него и вдвое шире. Эпитеты “дородная” и “крепко сбитая” не отдавали должного этой громаде, закутанной в бесформенное кашемировое пальто и увенчанной шляпой-колоколом – этим символом кокетливой женственности, ей совершенно не шедшей. Она держала мужа под руку, словно кошка в когтях – беспомощную мышь, и смотрела на него с пылом, в котором перемешивались обожание и лютое собственничество.
Вся их компания устремилась через ворота на игровые поля и принялась протискиваться сквозь толпу, пытаясь подобраться ближе к костру, ярко горевшему поодаль. Фрэнк с женой высматривали своего сына Джеффри – он должен быть где-то тут. Мэри надеялась, что парнишка окажется приветлив, поскольку уже затосковала по детскому обществу, но когда они его наконец нашли, разочаровалась: Джеффри и впрямь выглядел приветливым, но был гораздо старше нее, чтобы с ним задружиться. Шестнадцать, а то и семнадцать лет, по крайней мере. Он был с компанией молодых людей его возраста или даже старше, и, что еще хуже, большинство их выпивали. В руках у них были бутылки пива, а также здоровенная бутылка виски, которую они передавали по кругу. Джеффри действительно выглядел юношей застенчивым и тихим, и, казалось, ему неловко в компании этих друзей или приятелей. Высокий и голенастый, плечи покатые, как у молочной бутыли, он держался в нескольких шагах от них, словно бы его раздирало между отчужденностью и желанием быть замеченным и принятым. Вожак же группы выделялся тем, что шуму от него было больше, чем от всех остальных, говорил он чаще и настырнее, а также имел более развязные повадки; звали его, как Мэри впоследствии узнала, Нил Бёркот. И нескольких секунд не прошло после того, как она оказалась рядом с этой буйной ватагой, а он уже улюлюкал и подначивал кого-то из новоприбывших.
– Гля, ребятки! – заорал он, перекрикивая шум толпы и шарманки. – Вы гляньте на это! Гляньте на Кеннета! – Имя он произнес медленно, подчеркивая чопорный выговор. – Гляньте, как нарядился. Эй, Кенни, ты что затеял? Явился на блядский костер с фасонистой ленточкой на шее!
– Привет, Нил, – отозвался предмет этого комментария с подчеркнутой учтивостью. – Я решил, что повод особый и заслуживает усилий. Следи за языком, кстати. Тут дамы и дети.
Между этими двумя явно ощущалась некая история вражды, поскольку в ответ на отповедь Нил мгновенно зашагал к Кеннету, вперившись ему в лицо, а затем, взявшись за игривый ярко-желтый шейный платок, красовавшийся на Кеннете, презрительно сдернул его набок и произнес:
– Слишком уж выдаешь себя, Кенни. Мы всегда считали тебя бабой. А теперь знаем наверняка.
Кеннет сказанным пренебрег и двинулся поприветствовать кого-то еще из той же компании, кто (под недобрым взглядом Нила) тепло пожал Кеннету руку и сказал:
– Привет, Кен, ты, значит, дома теперь?
– Да. На прошлой неделе вернулся.
– Триполи, верно?
– Некоторое время там, да. Последнее расположение было в Риме.
– Италия, э? Небось повидал всякое. Есть что порассказать, сдается мне?
Кеннет улыбнулся.
– Сберегу для мемуаров.
Мэри внимала всему этому разинув рот. Думала, что человек этот – наверняка необычайно храбрый, раз побывал в таких далеких краях и сражался за свою страну. А еще он был очень хорош собой, и Мэри восхитил его желтый шейный платок. С ним Кеннет смотрелся невероятным франтом, а тот второй парень, так грубо с платком обошедшийся, сделался ей отвратителен.
– Орехи! – вдруг вроде бы ни с того ни с сего объявил Фрэнк. Его жена Берта глянула на него изумленно – как и Долл с Сэмом. – Там вон человек орехами торгует, – показал Фрэнк пальцем. – Жареный соленый арахис. Пойду возьму пакетиков. Кто хочет?
– Фрэнк, – произнес его тесть, роясь в брючном кармане в поисках мелочи. – Нечего тебе платить за нас всех. Позволь мне внести свой вклад.
– Чепуха, опа. Горсть орешков меня совсем не разорит. – С этими словами Фрэнк отправился добывать лакомство.[11]
Для Мэри в этом обмене репликами самым поразительным показалось одно – выговор мистера Шмидта. Она, конечно, помнила, что он немец, но почему-то не ожидала, что речь у него будет звучать по-немецки. Или, во всяком случае, не столь мощно и несомненно по-немецки. И не одна она это заметила: Нил Бёркот, заслышав мистера Шмидта, вперил в него настырный взгляд.
– Ты знаешь этих людей, дорогой? – спросила Берта Агнетт у сына, пока та компания нежелательных личностей дурачилась, болтала, выпивала и спорила, – такое поведение к антиобщественному не отнесешь, и все же казалось, что оно все время на грани. – Наверняка же хороших школ они не оканчивали.
– Кое-кто оканчивал, – сказал Джеффри. – Вот он (показывая на Нила) на три класса старше меня учился, пока его не выгнали.
– Понятно.
– Просто настроение хорошее, – сказал мистер Шмидт, предлагая Нилу улыбку, – она была замечена, однако осталась без ответа. – Не это ли сегодня главное?
Дочь его в этом, судя по всему, сомневалась. Жена стиснула ему руку с такой силой, что он поморщился.
И тут по толпе пробежала рябь – медленное крещендо зачарованности: раздался первый залп фейерверков, и через несколько секунд иссиня-черное небо взорвалось шумом и светом. В воздух взмыло попурри из ахов и вздохов. Фейерверки стреляли и стреляли, Мэри глядела на отца и думала, что замечает в его глазах нечто незнакомое – некое двойное зрение, словно он внимает зрелищу, но в то же время вспоминает что-то еще. Много лет спустя, уже состарившись, она сохранит отчетливую память о его тогдашнем непроницаемом лице и станет гадать, думал ли он о других ночных небесах, какие видел в предыдущие несколько лет с высокой крыши Фабрики, о черноте, исчерканной крест-накрест прожекторами, о гуле самолетов над головой, о городе, сотрясавшемся от грохота бомбежек и противовоздушного огня, о разоренном городском пейзаже, испещренном пожарами повсюду, докуда хватало взгляда. И вот они, эти другие, безопасные взрывы и каскады света, и хвосты жара и огня, в чем-то похожие на праздничную пародию всего того, что отцу, наверное, довелось увидеть. В послевоенные годы трудно было сказать, возвращался ли он в мыслях к тем долгим ночам, к тем авианалетам. О них он не говорил никогда. Но странно: Мэри навсегда запомнила мимолетную загадочность любимого и знакомого отцова лица в ту ночь куда живее, чем то, что случилось потом, хотя то, что случилось потом, было гораздо более захватывающим.
Неприятности начались, когда объявилась еще одна компания молодежи – она протолкалась сквозь толпу и приблизилась к костру. Вроде то были друзья Нила, поскольку, проходя мимо, проорали ему что-то приветственное. Кто-то из них толкал тачку с грубо сработанным чучелом – что-то примерно похожее на человеческую фигуру, гротескное туловище, усаженное более-менее торчком. Ни с каким человеком, живым или мертвым, чучело сходства не имело, однако определялось безошибочно, поскольку на потрепанном пиджаке, наброшенном на туловище, красовалась нарукавная повязка со свастикой, а посередине яйцевидного лица, какие снятся в страшных снах, под носом, изображаемом прищепкой, виднелись маленькие квадратные усы, изготовленные из щетины выброшенной метлы или щетки. Как только люди осознали, кого это чучело должно изображать, оно вызвало всплеск насмешек и улюлюканья, и те достигли пика, когда тачка добралась до места назначения и ее содержимое швырнули в огонь. Германский канцлер тут же вспыхнул, а толпа – особенно та часть, которая была рядом с Мэри и ее семьей, – принялась бесноваться. Послышались вопли “Жечь его! Жечь мудака!”, отчего мистер Шмидт возвысил голос и произнес:
– Господа, ну правда! Держитесь хоть каких-то приличий в присутствии этих юных дам, если можно!
Возможно, из себя их вывел особенно этот призыв к приличиям, но тут Нил слетел с тормозов. Он ринулся к мистеру Шмидту, размахивая уже пустой бутылкой из-под виски.
– Карл, берегись! – возопила его жена, однако и это оказалось ошибкой.
– Как, говорите, звать его? – процедил Нил. – Карл – немецкое же имя, а? Муж у вас немец, что ли? (Пожилая пара не ответила.) Ну и? Ты фриц или как?
– Я натурализованный английский гражданин, – начал мистер Шмидт. – Я живу в этой стране больше…
– Ты блядский фриц, вот ты кто, – отрезал Нил. – И у тебя хватило наглости явиться сегодня сюда, когда вы последние пять лет бомбили нас в говно и убивали наших парней за границей.
– Я к этому не имею никакого отношения, – стоял на своем мистер Шмидт. – У меня… – Но продолжить ему не дали.
Почти ничего из того, что случилось дальше, Мэри не запомнила. Звон разбитого стекла, внезапный полный разворот и исчезновение Нила (они с дружками удрали), а затем мистер Шмидт – на земле, из раны на лбу течет кровь, рану бинтует Кеннет, сняв с себя желтый шейный платок и сделав из него импровизированную повязку. Все дальнейшее Мэри забыла. Никаких воспоминаний о том, как она оказалась дома, никаких воспоминаний, как тот самый желтый платок попал к ней домой вместе с ней, никаких воспоминаний, как она подобрала его с земли, что, вероятно, произошло посреди сумбура и суматохи. Но наутро платок нашелся в кармане ее платья. Клок переливчатой желтой ткани, теперь испятнанной засохшей кровью, сложившейся в абстрактные узоры по всей длине платка.
Рана, как выяснилось, оказалась не опасной. Мистер Шмидт был скорее оглушен, нежели ранен. Его семья не смогла уговорить его подать в суд. Он не хотел никакой шумихи, желал лишь оставить всю эту историю позади. Они очень старались его переубедить, но все впустую. Старик он был упрямый. Долл и Сэмюэл, узнав эти новости от Фрэнка несколько дней спустя, пожали плечами и сказали, что это превеликая жалость, поскольку такое хулиганье должно быть наказано, однако выбор за мистером Шмидтом. Далее детали той истории постепенно сгладились и размылись, она заняла свое место в мифологии Фрэнка, Берты и остальной их родни в виде расплывчатой и всеми одобренной версии, в которой на выручку своему деду пришел Джеффри. И только Мэри помнила эту историю по-другому – но кто бы поверил впечатлительной девочке? – и дорожила своим воспоминанием о героизме и отваге Кеннета, доказательство которым в виде окровавленного шейного платка она хранила у себя, запрятав на чердаке вместе с четырехлистным клевером, подписанной фотокарточкой Джона Миллза и всеми остальными своими детскими сокровищами.
Событие второе
Коронация Елизаветы II
2 июня 1953 года
1
После того как наладчик ушел, Сэм позвал Долл в гостиную, и минуту-другую они стояли, держась за руки, и с безмолвной гордостью глядели на поразительный новый предмет в углу. Простой дизайн, состоявший из двух половин: верхняя – 17-дюймовый экран, бледный зелено-серый и слегка выпуклый, нижняя – короб с динамиком в нем и двумя бакелитовыми ручками на решетке, громкость и настройка. Между верхней и нижней половинами шла полоска из черной пластмассы, а по центру красовалась заглавная буковка “Ф”, означавшая, что этот телевизор произвела манчестерская компания “Ферранти”[12]. Этот стильный прибор был тем, что, судя по всему, было необходимо, чтобы получить доступ к волшебному царству, куда в последние годы устремлялось все больше британцев, – в сообщество телевизионных зрителей. Теперь и Сэм с Долл смогут приобщиться к старому доброму варьете в лондонском театре Столла, посмотреть выступления модной танцевальной труппы “Телевизионные топ-звезды” в “знаменитейших лондонских светских местах”, понаблюдать за скачками в Кемптон-парке и за женским хоккеем на стадионе “Уэмбли”, посетить экскурсию по “Историческим домам Англии”, познакомиться с “Обзором разведения кур на ферме” и, посмотрев “Королевскую иву”, выяснить, как изготавливают крикетные клюшки[13]. Долл сможет получить “практическую помощь домохозяйке” от Джоан Гилберт в передаче “По дому”, а Сэм – перенять политическую мудрость ведущих программы “В новостях”, вместе же они пополнят свои знания благодаря популярной викторине “Животное, растение, минерал?”[14]. А в те продолжительные часы дня, когда телевидение Би-би-си не показывало вообще ничего, телевизор можно было скрыть: палисандровые дверки закрывались, пряча за собой экран и динамик, и снаружи все это выглядело как добротный коктейльный шкафчик. Долл эта часть устройства нравилась больше всего, и она провела несколько блаженных часов, экспериментируя с тем, как выглядят на телевизоре всевозможные вазочки и цветочные композиции. Финальное решение, как ей казалось, смотрелось наиболее привлекательно. Вам и в голову не придет, что там телевизор. К сожалению, такого нельзя было сказать об их доме, теперь обезображенном громадной уродливой телеантенной, ужасно портившей опрятный силуэт крыши и щипца. Долл умоляла Сэма придумать что-нибудь, но он заверил ее, что тут ничего не поделаешь: антенна должна быть в точности на том месте и именно под таким углом, никак иначе.
Долл отправилась на кухню баюкать свое горе в обычном для себя насупленном молчании, Сэм вышел наружу – еще раз поглядеть на оскорбительное уродство из сада перед домом. Сам-то он не понимал, из-за чего жена так расстроилась. Антенна очень бросалась в глаза, это правда, но были в ней и красота, и современность. Ее сверкающий металл и острые углы сообщали всему свету: да, мы живем в изысканном доме, вместе с тем мы новые елизаветинцы, вплываем в 1950-е на волне технологических перемен. И чего Долл противится? За три года до этого, в декабре 1949-го, на холме рядом с Саттон-Колдфилдом установили исполинский телепередатчик, милях в десяти отсюда, и до того важной новостью это сочли, таким научным чудом, что люди специально ездили посмотреть на него – настоящую семейную экскурсию устраивали на целый день. Среди таких были и они с Долл и Мэри – и пусть Долл вроде бы не очень-то восхитилась возникшей перспективой и не очень-то поразилась, увидев сам передатчик, их поездка (по его воспоминаниям) оказалась памятной. Сэм огорчился, упустив “Фестиваль Британии”. Он бы хотел свозить семью в Лондон, посетить Саут-Бэнк, осмотреть “Купол открытий” со всеми его многочисленными и разнообразными научными экспонатами и, конечно, “Скайлон”[15] – чудесную сигароподобную скульптуру, закрепленную стальными кабелями так, что она словно бы висела над Темзой. Уговорить Долл и Мэри на эту поездку ему почему-то не удалось, пришлось довольствоваться чтением обо всем тамошнем в газетах, но Саттон-Колдфилд был куда как ближе, а передатчик впечатление производил по-своему столь же сильное, как и “Скайлон”, насколько представлял себе Сэм. Благодаря новой телевизионной антенне Сэм чувствовал связь с передатчиком, а через него – с Радиовещательным центром в Лондоне, и Борнвилл уже не казался отрезанным от большого мира. Было у Сэма это сильное чувство, что людей по-новому сблизили эти электромагнитные волны, разбегавшиеся из столицы во все города, деревни и поселки страны. А потому не станет он снимать антенну с крыши – и менять ее положение так, чтобы она меньше бросалась в глаза, тоже не будет. Это сила прогресса – и сила единства. Сила добра.