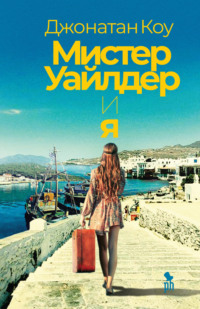Полная версия
– Так и есть. Вот только улучу минутку.
Долл взяла журнал.
– “Бойкий Кот”[7], – прочла она, а затем повторила напечатанное на картинке с обложки: – “Бойкий в салки стал играть, и долетели слухи, что главный приз он получил, последовав за нюхом”. – Она бросила журнал мужу на колени. – Взрослый человек – а читаешь такое!
– Ты за этим пришла? Чихвостить меня?
– Нет, я пришла глянуть, чем Мэри занимается. Она вроде шапки делала.
– Доделала. Ушла в сад.
– Ну, нечего ей там прохлаждаться. Есть чем заняться.
– Да ради всего святого, женщина, – вскричал Сэм в отчаянии, – сегодня особый день. Всем полагается праздновать.
– Ну, миссис Баркер явится в половине шестого, как и во всякий вторник. А я уже несколько дней не слышала, чтоб Мэри репетировала. – Она подошла к пианино, подняла крышку банкетки и достала ноты. – Ты посмотри! Она к Бетховену даже не прикасалась.
Сэм неохотно отложил журнал и встал.
– Я с ней потолкую, – сказал он. Долл в это вмешивать ни к чему. Она девочку только расстроит, а дальше жди ссоры.
С трубкой в руке он прошел коридор, кухню и затем маленький застекленный тамбур, который они помпезно именовали “верандой”, и оказался в саду. Мэри сидела под яблоней на неказистой деревянной скамейке, несколько лет назад спроектированной и сколоченной лично Сэмом, – что поразительно, конструкция пока не рухнула и не развалилась. С трехмерными предметами у Сэма получалось так себе, талант у него был в рисовании.
Сэм сел рядом, поднес огонь к трубке, протянул дочери жестянку и позволил понюхать, вдохнуть густой, пьянящий аромат. Она любила запах его табака.
– Читать не хочется? – спросил он, кивнув на закрытую книгу у нее на коленях.
– У меня здоровские мысли, – со всей серьезностью ответил ребенок.
– А. – Сэм два-три раза пыхнул, пытаясь раскурить трубку. – Ну, такие не каждый день приходят. И что же за мысли?
– Я размышляла, как бы получше его убить. Повесить на фонаре или сжечь живьем.
Сэм серьезно глянул на дочь. Подобным садистским порывам она обычно не поддавалась.
– Старика Адольфа, в смысле? Вряд ли стоит об этом беспокоиться. Ему крышка. Может, уже покойник.
– Нет, не Гитлера, – сказала Мэри, пренебрежительно фыркнув. – Он мне без разницы. Я про Бетховена. Хочу, чтобы он помучился.
– Бетховена давно уже нет в живых, – отозвался ее отец. – Так что же он тебе сделал плохого?
– Он сочинил эту пьесу. Дурацкий “Экосез” этот. Я его на прошлой неделе упражняла-упражняла, а он все равно не звучит как надо, и на этой неделе я вообще не занималась, и миссис Баркер будет бешеная. И почему вообще я должна с ней сегодня заниматься? Я думала, сегодня полагается выходной.
– Сегодня выходной и есть. Это не значит, что все должно замереть. Жизнь продолжается. Уж это-то мы усвоили.
– Ни у кого из моих друзей фортепианных уроков сегодня нету, могу спорить.
– Ну, они, в отличие от тебя, на пианино так хорошо не играют. Это, между прочим, ответственность. Когда будешь играть при полном зале в Королевском Алберт-холле через несколько лет – порадуешься, что упражнялась.
Мэри фыркнула.
– Никогда я не научусь так, чтобы в Королевском Алберт-холле играть.
Сэм похлопал ее по коленке.
– Беги в дом и позанимайся немножко, ладно? Мать порадуется, и жить нам всем будет спокойно.
С тяжким вздохом Мэри встала и удалилась. Сэмюэл остался на скамейке, продолжая наслаждаться трубкой в мире и тишине, а несколько минут спустя усладился звуками смертельного поединка дочери с Бетховеном; впрочем, у входа на веранду вскоре возникла Долл и вновь принялась его изводить. На сей раз его внимания, похоже, требовал сад, и ему под недреманным оком супруги пришлось провести почти целый час на четвереньках, прореживая всходы, сажая капусту и окучивая картошку. Работа утомительная, он запыхался, вспотел, а на брючных штанах образовалось два земляных пятна. Не успел закончить, как Долл, сколько-то минут назад оставившая его в покое, вновь возникла на веранде, да еще и с нежданным гостем – ее зятем.
– Привет, Джим. – Сэм встал во весь рост, вытер руку о штаны и протянул ее. – Вот чудеса-то. Гвен спустила тебя сегодня с поводка, что ли?
– Фигурально выражаясь. У нее три соседки в гостях, они там в кухне чаи гоняют и кудахчут, как целый курятник. Вот я и подумал сбежать и проверить, не соблазнишься ли ты со мной на пинту где-нибудь.
– На пинту?
– Да.
– Пива, в смысле?
– Именно.
Сэм смутился.
– Слушай, Джим, у нас в доме пусто. Долл не считает…
– Я не имел в виду здесь. Вряд ли бы стал я заявляться к тебе в дом и требовать выпивки, ну? Думал, сходим в паб.
Ужас от дерзости этой затеи потеснил смущение. Середина дня. Сэм, естественно, понимал, что пабы посреди дня открыты, но ему обыкновенно и в голову бы не пришло навестить паб – уж точно не под носом у жены, скажем так.
– Ты же не против, Долл, а? – спросил Джим, ожидая возражений. – В смысле, обычно-то мне бы и не приснилось сбивать твоего мужа с пути истинного. Но нынче такой день…
Долл осталась не в восторге, это очевидно. Вместе с тем не очень-то получилось бы у нее возражать. Зятя своего Долл почитала и, возможно, даже побаивалась. Он был мужем ее старшей сестры, и это наделяло его немалым нравственным авторитетом. Если он считал, что сегодня прилично отправиться в паб посреди дня, так тому и быть. Просто придется уступить. Требование у нее только одно: муж должен вернуться не позже чем через час.
Однако случиться такое могло вряд ли – во всяком случае, по той причине, что ближайший паб находился более чем в миле от них. В самом Борнвилле никаких пабов не водилось. Пабы остались за пределами этики, на фундаменте которой воздвиглась деревня. Все-таки почти век назад семья Кэдбери мыслила себе жидкий шоколад как альтернативу выпивке. Их предприятие основывалось на принципе умеренности. И когда в 1900 году владения Борнвилл передали борнвиллскому Деревенскому попечительскому фонду, в условиях сделки сказано было, что “продажа, распространение или употребление опьяняющих напитков должно быть полностью исключено”. Коли Сэм и ее зять желали выпить, это придется заслужить, топая пешком.
* * *И уж они-то заслужили. К его возвращению домой Сэмюэлу успели продать, а сам он успел потребить немалый объем выпивки, и теперь та приятно распространилась по всей его нервной системе. Долл это не порадовало. Осязаемо было ее недовольство, однако впрямую Сэму она ничего не сказала, поскольку в этом доме так не делалось. Мать и отец Мэри ссорились редко. Разногласия возникали, происходил скупой обмен обтекаемыми словами, а затем наступали тихо клокотавшие долгие молчания. Но никто не возносил голоса выше обиженного, капризного тона, в каком Долл произнесла:
– Ты впритык. Почти три часа дня.
– А что будет в три часа дня?
Долл цокнула языком.
– Что будет в три часа дня? – переспросила она. – Ты сколько пинт принял? Мистер Черчилль по радио – вот что будет. Как ты мог забыть такое?
Радио уже включили, и из него с ненавязчивой громкостью изливалась легкая музыка. Сэм устало опустился в кресло, Долл подкрутила ручку приемника и позвала дочку, чтоб спускалась к ним.
– Премьер-министр произнесет речь! – крикнула она. – Такое нельзя пропускать!
Они сидели и слушали мистера Черчилля в том же почтительном молчании, какое сохраняли, когда говорил Король – или преподобный Чэпмен на еженедельной проповеди. Мэри речь показалась очень скучной, на ней едва удавалось сосредоточиться. Первые несколько минут премьер-министр вроде бы исключительно перечислял имена заморских генералов и политиков и рассуждал о подписании пактов и договоров, названия которых тоже казались заморскими. Премьер-министр продолжал бубнить, и Мэри заметила, что веки у отца постепенно отяжелели. Но тут речь наконец сделалась более выразительной: Черчилль объявил, что “боевые действия официально завершатся этой ночью, в первую минуту после полуночи”. Он напомнил всем, что кое-какие немцы все еще воюют с русскими войсками, но добавил, что “это не помешает нам сегодня и завтра праздновать Дни победы в Европе. Сегодня же, вероятно, – продолжил он, – нам следует думать преимущественно о себе. Завтра мы отдадим особое должное нашим русским товарищам, чья мощь на поле боя стала одним из величайших вкладов в общую победу”.
Услышав это, Долл умудренно кивнула и сказала мужу:
– Так и есть, верно? Если б не русские, мы б ни за что не победили.
Но Сэм под непривычным действием трех пинт обеденного пива уснул и теперь тихонько похрапывал, вытянув ноги, запрокинув голову и приоткрыв рот. Долл, глазам своим не веря, покачала головой. Собралась было разбудить его пинком по пяткам, но отказалась от этой мысли, предоставила мужу дремать.
“Германская война, – продолжал премьер-министр, – следовательно, подошла к концу. После нескольких лет плотной подготовки Германия напала на Польшу в начале сентября 1939 года и, следуя нашим гарантиям, данным Польше, а также по соглашению с Французской Республикой, Великобритания, Британская Империя и Содружество Наций объявили войну этой гнусной агрессии. После того, как доблестная Франция оказалась повержена, мы – и нашим островом, и всей единой Империей – боролись в одиночку целый год, пока к нам со своей военной мощью не присоединилась советская Россия, а позднее – колоссальная сила и ресурсы Соединенных Штатов Америки. Наконец едва ли не весь мир сплотился против злодеев, и ныне простерлись они перед нами поверженные. Все сердца на этом острове и по всей Британской Империи преисполнены благодарности к нашим блистательным союзникам”.
Долл поджала губы и вновь закивала в согласии, а Мэри тем временем размышляла о слове “остров”, которое то и дело повторял Черчилль. Никогда о своей стране как об острове она не думала. Это слово напомнило ей о книге, которую тетя Гвен и дядя Джим купили ей на прошлое Рождество. Она называлась “Остров приключений”[8], и мама рассердилась – она считала, что дочь переросла Энид Блайтон: Мэри уже пошла во взрослую школу, и ей полагалось читать Шекспира, Диккенса и прочих подобных. Но Мэри книжку все равно прочла и получила большое удовольствие. Там говорилось о четырех детях, оставшихся на каникулах с тетей и дядей, жившими в доме на морском утесе рядом со зловещим островом – он назывался Остров Мрака, – чуть ли не все время окутанным туманом. Там происходило много всякого таинственного, что, как в конце концов выяснилось, было делом рук некоей банды, хотя настоящим злодеем оказался слуга детей, черный человек по имени Джо-Джо. В общем, книга захватывающая, и с тех пор слово “остров” всякий раз наводило Мэри на мысль о тайнах и приключениях. Напоминание о том, что и сама она живет на острове, было Мэри приятно.
Премьер-министр приближался к финалу своей речи. В заключение он сказал:
“Мы можем позволить себе краткую радость, однако ни на миг не будем забывать о трудах и усилиях, что ждут нас впереди. Япония со всем своим коварством и жадностью остается неукрощенной. Ущерб, причиненный ею Великобритании, Соединенным Штатам и другим странам, ее отвратительные зверства требуют суда и возмездия. Ныне обязаны мы посвятить свои силы и ресурсы завершению нашей задачи – и дома, и за рубежом. Вперед, Британия! Да здравствует основа свободы! Боже, храни Короля!”
Эти три последние фразы, казалось, были задуманы так, чтобы вызвать громогласную радость, но в тихой, непритязательной гостиной на Бёрч-роуд, Борнвилл, их встретили сдержанно. Долл кивала, Мэри вздохнула с облегчением, когда речь закончилась, а Сэмюэл проспал ее чуть ли не всю. Бросив на него последний укоризненный взгляд, Долл встала и сказала:
– Когда твой отец проснется, сделай ему кофе, будь любезна. А у меня дело. – Она потопала наверх и зашла в дальнюю спальню, чтобы снять светонепроницаемые шторы.
Мэри осталась сидеть, слушала радио. После того как завершилась передача с Даунинг-стрит, началась программа под названием “Колокола и празднование Победы”. Сообщения поступали из многих городов, и все они поразительно походили одно на другое: толпы ликовали, звонили колокола, доносились обрывки песен – от “Выкати бочку” до хора “Аллилуйя”[9]. Один репортаж вели из центра Бирмингема, всего в нескольких милях от них, но для Мэри он с тем же успехом мог вестись с другого края света: улицы Борнвилла, если не слушать радио, оставались тихи и пустынны, и самым громким звуком в их доме был отцов храп.
Не успела программа завершиться, мама позвала ее наверх. Велела Мэри слазить на чердак и сложить там светонепроницаемую ткань, которую она поснимала со всех окон в доме. Чтобы залезть на чердак, нужно было достать складную лестницу – Сэмово сооружение, которому Долл не доверяла ни свой вес, ни вес вообще кого бы то ни было из взрослых. Мэри охотно взялась за дело, поскольку лазать по чердаку любила. Заодно можно было еще и кое-что проведать. На чердаке, в тесном просвете между водяным баком и скатом крыши, она держала коробочку, в которой хранила то, что звала своими “сокровищами”. Среди них – ее карманные дневники за 1943 и 1944 годы, четырехлистный клевер, найденный на лугу, когда она ездила на ферму Уорден (ферма дяди Оуэна и тети Айви в Шропшире), кусочек шрапнели, подобранный Томми Хантером у него в саду и обмененный на пакет лакричного ассорти, а также фотография Джона Миллза[10] с его автографом – знаменитый актер удостоил Борнвилл своим присутствием в один волшебный день три лета назад, когда навещал Фабрику, чтобы поддержать ее боевой дух. Втащив коробку со сложенной светонепроницаемой тканью по лестнице наверх, Мэри провела несколько счастливых минут в сумраке чердака, разглядывая свои трофеи и размышляя, что бы такого к ним приобщить, но тут послышался стук дверного молотка, а следом леденивший ее душу голос преподавательницы фортепиано – это напомнило Мэри, что день все-таки уготовил для нее этот ужас. Она неохотно спустилась на первый этаж, чтобы встретиться со своим неминуемым роком.
У миссис Баркер, ее преподавательницы фортепиано, было худое угловатое лицо и соответствовавшая ему отрывистая, строгая манера разговаривать. Голос хрипло однозвучный, и уж чего-чего, а музыкальной страсти в нем не заподозришь. Невзирая на это, она питала беспрекословное почтение к великим композиторам, которому исполнение Мэри бетховенской “Экосез” не соответствовало вовсе. Имелись в этой пьесе четыре особенно трудных, ритмически неподатливых аккорда, которые миссис Баркер заставляла Мэри брать вновь и вновь, пытаясь дотянуть усилия ученицы до сколько-нибудь выраженного рубато; бедная Мэри, лупя по клавишам, в седьмой или восьмой раз продиралась через них и тут, к своему удивлению, увидела в переднее окно, что отец вновь уходит – на этот раз в сопровождении человека, которого Мэри не узнала. Они прошли по дорожке через сад и вместе оказались на улице. А потом исчезли из виду. Что бы это значило?
Когда фортепианный урок завершился, миссис Баркер, сурово откомментировав игру Мэри, отправилась на кухню получить оплату. Мэри двинулась следом. Долл склонялась над самой исполинской кастрюлей, ожесточенно помешивая что-то, лоб изборожден яростью и досадой. Заметив миссис Баркер, она изо всех сил постаралась взять себя в руки, и все же улыбка у нее получилась такая, что кого угодно пробрала бы холодом до самых костей.
– Десять шиллингов, как обычно? – спросила она.
– Все верно. Спасибо.
– Надо полагать, – проговорила Долл, протягивая десятишиллинговую купюру с замятыми уголками, – на ужин вы не останетесь?
Вид у миссис Баркер сделался удивленный, а у Мэри – устрашенный. Что это мама удумала?
– Что ж… – Миссис Баркер вроде помедлила, но обе стороны понимали, что эта заминка для проформы. Семьи у миссис Баркер не имелось, и в тот вечер она, вероятно, предвидела одинокую трапезу.
– Хэш из солонины у нас, – сказала Долл. – Любимое Сэмово блюдо. Специально для него делала, но его, похоже, не будет дома, так что не поест.
– Не захочет? – переспросила миссис Баркер.
– Ушел в паб, – сказала Долл. – Второй раз за сегодня.
– Понятно. Что ж, в таком случае… – Она выразительно вдохнула, словно собралась произвести необратимый рывок во тьму, а не просто принять соседское приглашение. – Как это мило с вашей стороны. С удовольствием угощусь хэшем.
– Вот это дело. Стало быть, не совсем уж зря я так старалась. Мэри, накрывай на троих. Сегодня парадные приборы. Из верхнего ящика буфета.
3
Мэри не нравилось есть этими тяжелыми посеребренными ножами и вилками, которые извлекали на белый свет всего раз-два в году, – они всему, к чему прикасались, придавали горький металлический привкус. И все же ужин удался – горячий, вкусный и сытный. Мэри подумала, какая ужасная жалость, что отцу не достанется, и надеялась, что он не очень проголодается. Но, может, пивом наедаешься. Мать с миссис Баркер позволили себе по маленькому, однако неслыханному стаканчику хереса перед едой и сделались прямо-таки болтливы и задушевны друг с дружкой. Оказалось, ее преподавательница фортепиано – не Медуза горгона, за какую Мэри ее принимала, хотя ее присутствие и разговоры сообщали дому ощутимо иной дух. Спроси у нее кто угодно, о чем ее родители разговаривают за ужином, Мэри ответить не смогла бы, пусть и ела с ними каждый вечер; она знала, что родители обмениваются некими словами, сообщают новости, выражают чувства, однако все сказанное казалось таким обыденным, что не проникало в ее сознание совсем, и Мэри считала, что именно таковы все взрослые разговоры. Но миссис Баркер, похоже, это убеждение опровергала. Она произносила вот такое:
– Конечно же, эта страна после войны никогда не будет прежней.
– Вы так думаете? – отвечала Долл, а ее дочь тем временем подмечала в этих двух простых словах – “конечно же” – отголоски разума и житейской мудрости и восхищалась ими. – Но ведь в этом же и был весь смысл воевать – то есть чтобы сохранить то, что мы имели.
– Не только сохранить. Развивать. Строить на этой основе.
Долл усомнилась.
– Я просто рада, что все закончилось, – сказала она, – дети наши целы, и сами мы теперь сможем крепко спать в своих постелях.
– Правильно ли я понимаю, – сказала миссис Баркер, накалывая на вилку картофельный кубик и закидывая его в рот, – что вы сами внесли небольшой вклад в помощь фронту? Вы же работали на Фабрике?
– Правильно, – ответила Долл. – Всего несколько месяцев, пару лет назад. Им очень не хватало рук, и они выступили с призывом ко всей деревне. На том этапе они почти всё приспособили для подготовки вооружения. Я на производстве была, помогала изготавливать пули, чеки для ручных гранат, всякое-разное.
– И как вам оно было?
– Ой, работа очень скучная. И все же…
– И все же? – подтолкнула ее миссис Баркер. Глаза у нее выжидательно заблестели.
– Ну, я довольна была, должна сказать. Более чем.
– Вам нравилось бывать с другими женщинами? С другими девушками?
– Да, и это тоже. Но еще, знаете… Разнообразие. Выход из рутины. Конечно, Мэри было трудно. Ей приходилось возвращаться из школы в пустой дом, самой делать себе чай…
– И я была не против, – поспешила вставить Мэри. Это правда. Война породила множество эпизодов, от которых ежилась память: краткая горестная эвакуация в Глостершир, например, или по-своему еще более болезненное посещение кинотеатра в Селли-Оук, где показывали “Пиноккио”, – сеанс прервали из-за воздушной тревоги, и все бросились к выходам, а затем бегство домой, в ужасе, под гул бомбардировщиков “дорнье”. Мэри с тех пор панически боялась и фильма, и сказки. Но те месяцы, когда мама работала на Фабрике, были совсем не такими: Мэри совершенно нипочем были те вечера, когда она приходила из школы в пустой дом, доставала ключ из-под горшка в саду и вступала в обнимавшую ее тишину. Без всякого надзора выполняла домашнее задание, играла что хотела на пианино, слушала радио сколько влезет, мазала варенье на белый хлеб слоем толще некуда. Райское время.
– Вот, пожалуйста, – сказала миссис Баркер. – Дети умеют быть гораздо независимее, чем мы им позволяем.
– Да, но те перемены на Фабрике были временные. Все теперь станет как прежде. Снова будут делать шоколад.
– Естественно. И им по-прежнему будут нужны толковые умные работники. Вы бы всегда могли найти себе там работу, если б захотели.
Долл поджала губы.
– Не знаю, как на это посмотрит Сэм…
– Не приятнее было б, если бы на работу вы ходили по утрам вместе, рука об руку? И возвращались бы вместе в конце дня.
Под таким углом образ получался притягательный, без сомнения. Но Долл по-прежнему казалось, что эти соблазнительные предложения имеют мало общего с действительностью.
– Но кому-то же надо смотреть за домом. Это большой труд, между прочим, – содержать его в таком порядке.
– Я в этом не сомневаюсь ни секунды. Но если б вы зарабатывали, разве нельзя выделить часть денег на домработницу? Может, и Сэмюэл мог бы помогать вам с самыми трудными задачами, по выходным.
Тут Долл не смогла удержаться от смеха. То, что показалось практическим предложением, внезапно обернулось чистой фантазией.
– Сэм! Это вряд ли. Он ничегошеньки по дому не делает. И раньше не делал, и дальше не будет. Вот буквально сегодня он час сажал овощи, и потом чуть ли не до конца дня ему надо было отлеживаться.
– Я думала, это из-за пива, – сказала Мэри.
Долл сердито зыркнула, подливая себе воды.
– И от этого тоже.
– Я просто считаю, – продолжила миссис Баркер, – что стоило бы подумать насчет того, чтобы присоединиться к трудящимся, раз война закончилась. Мне известно, что многие мои подруги – все они замужние женщины – это обдумывают. Возможно, окажется, что это добавит вашей жизни удовлетворения. Что же до мистера Кларка… – Она снисходительно улыбнулась. – Не судите его сегодня слишком строго. Это неповторимый повод, миссис Кларк. Действительно красный день календаря. По-моему, всем женам Британии стоит на несколько часов спустить мужей с поводка.
– Кто это был вообще? – спросила Мэри до того, как мать собралась ответить миссис Баркер.
– Ты о ком?
– Тот, с кем папа ушел только что в паб – во второй раз.
– Это мистер Агнетт, – ответила Долл. – Фрэнк Агнетт. Из друзей твоего отца, с работы.
– А! Как ни забавно, я знакома с Агнеттами, – сказала миссис Баркер. – Они живут в Лонгбридж-Эстейт, да? По соседству с одной из моих сестер, так вышло. Вы с ними близко дружите?
– Да не то чтобы. На работе Фрэнк Сэму очень даже приятель. Они вместе играют в снукер, ну и прочий сыр-бор.
– Славная они пара, – сказала миссис Баркер. – Бедной миссис Агнетт, боюсь, не очень-то легко приходилось последние годы. – Ни Долл, ни Мэри, похоже, не поняли, что она имеет в виду, и она добавила: – Миссис Агнетт наполовину немка. По отцовской линии. С соседями ей поэтому было непросто.
– Я не знала, – сказала Долл. – До чего несправедливо. Она же не виновата, что у нее отец немец, верно?
– Именно. Но не все такие понятливые, как вы, миссис Кларк.
За этим комплиментом последовало веское молчание. Затем миссис Баркер глянула на свои наручные часы и сказала:
– Что ж, совершенно неожиданное вышло угощение, но мне пора. Почти пора в церковь.
– В церковь? – растерянно переспросила Долл. – Во вторник?
– Да. Преподобный Чэпмен дает особую службу. Вы не слышали?
– Нет, мне никто не сказал.
– Может, желаете сходить?
– Конечно, – сказала Долл, рьяно вскакивая. Возможность посетить церковь она не упускала никогда. Она обожала это в той же мере, в какой другие женщины любили бегать в киношку. – Мэри, надевай шапку и пальто.
– Мне тоже надо? – переспросила Мэри, и от одной этой мысли сердце екнуло. Ужасный поворот. Отчаявшись, она выступила с безрассудным предложением: – Может, я лучше останусь дома и помою посуду?
– Посуда подождет, – сказала Долл. – Помоешь, когда вернемся. Как раз должно хватить времени перед речью Короля.
Вместе они быстро убрали со стола, натянули пальто и в едином суматошном порыве вышли из дома, Долл едва не забыла запереть входную дверь, а Мэри тащилась позади взрослых, стремительно шагавших по Бёрч-роуд, так не терпелось им вознести благодарность Богу, наконец освободившему их от германского зла.
4
К без пяти девять в “Большом камне” сделалось довольно шумно. В баре-салоне семидесятилетний пианист Алберт уже некоторое время назад истощил весь свой репертуар и теперь, казалось, вновь и вновь наяривал “Выкати бочку”, но всем хоть бы что: было в той песне что-то такое, благодаря чему публика от нее не уставала, – а может, дело просто в том, что все уже так напились, что распевали всякую мелодию и любые слова, какие приходили в голову, что б ни играл пианист. Между тем середину общего бара расчистили от стульев и столов, и там происходило некое подобие танцев: кто-то установил переносной граммофон, и пара десятков завсегдатаев вдохновенно отплясывали джиттербаг, хотя ненадолго пришлось остановиться, когда двое старейших танцоров запутались в гирлянде красных, белых и синих флажков, оборвавшейся и повисшей опасно низко над полом. Один из участников той пары – супруг – споткнулся и рухнул, создав эффект домино, приведший к тому, что семь или восемь танцоров тоже оказались на полу в визгливой путанице рук и ног. Старика, ставшего причиной этой кучи-малы, придавило привлекательной двадцатиоднолетней дамой, и положение это никакого неудовольствия в нем не вызывало, пока дама, миролюбиво смеясь, не освободила его от себя и не поставила его же на ноги, а через несколько секунд они вновь давали джиттербага – на сей раз парно, пока не вмешалась жена и не вытребовала мужа обратно. Наблюдая за развитием этой супружеской комедии, бесновавшиеся танцоры улюлюкали и ревели от одобрительного хохота.