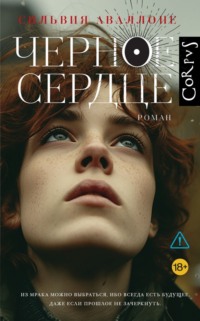Полная версия
Элиза и Беатриче. История одной дружбы
Материнское пальто сливочно-белого цвета, короткое и стянутое на талии поясом с пряжкой слоновой кости, придавало ей настолько благородный вид, что она казалась старше лет на пять.
Потом сапоги, которые я уже упоминала: из мягкой, глянцевой черной кожи.
Наконец, бархатная юбка до пола, тоже черная, с морем оборок и вставок из органзы; не помню, от какого стилиста, – а вот продавщица вспомнила. Та, что нас разглядывала, и попалась в ловушку. Едва освободившись от клиентки, она подошла к Беатриче и сообщила, что ее юбка – настоящее произведение искусства и что если она хочет подобрать к ней что-то, то пришла в нужное место. Беа тут же сочинила, будто купила юбку во Флоренции: там она и живет вместе со своей бедной маленькой сестренкой, то есть со мной.
На самом деле нам обеим было по четырнадцать, только Беатриче в тот вечер выглядела на двадцать, а я на десять. С самого начала автоматически установилось такое правило, что она главная. И это оно определило все наше будущее. Даже вот этот финал, в котором я сижу здесь, спрятавшись от всех, и пишу, а она – там, в центре мира, у всех на устах.
Продавщица повела нас мимо манекенов. Беатриче начала говорить, что ей, вероятно, нужна блузка. Сняла сумку, пальто, отдала мне; провела руками по разложенным на столе блузкам, футболкам, топам. Я заметила, что ее глаза точно по волшебству сделались еще более зелеными, хищными.
– Я примерю все, – заявила она и двинулась к кабинкам.
Я пошла за ней, послушно осталась ждать снаружи. Пока она переодевалась, я мельком видела то руку, то плечо. Рука высовывалась из кабинки: «Нет, эта не нравится! – выкрикивала Беа. – Следующую». Уверенно, повелительно. Потом выходила. Шла к зеркалу. Разглядывала себя: «Нет, мне не идет». Сердилась.
Она требовала все новые блузки, кофточки, кардиганы, свитера.
– А! – воскликнула она в какой-то момент из кабинки. – Есть у вас какие-нибудь джинсы интересные?
Продавщица уже совершенно ошалела. И в кабинке, и перед ней скопились горы одежды. Беа тем временем не прекращала рассказывать, что ее отец – известный журналист, ее тетя работает в Париже в модном ателье, у ее сестры – ох! – такая вот редкая болезнь, что она не растет и не разговаривает, и наша мать от этого чуть не впала в серьезную депрессию. Она плела и плела, приукрашивала и приукрашивала; рассказчица она была просто невероятная. Наконец ей принесли с витрины джинсы.
– Последний тридцать восьмой остался.
Беатриче замолчала, скользнула глазами по рукам продавщицы, где, как живые, удобно устроились джинсы. Взгляд у нее сделался темный, точно ночной лес.
– Нет, слишком броские, – отрезала она.
– Поверьте, они прекрасно сядут. Можно надеть их на Новый год. Даже с простой маечкой будут выглядеть великолепно.
– Ну, если вы настаиваете… – нехотя произнесла Беатриче.
Потом забрала джинсы и скрылась за шторкой. Едва продавщица удалилась, она выглянула и сделала мне знак зайти.
Она была без одежды. Лифчик да треугольничек снизу. Меня накрыло сильное, не очень ясное ощущение, что-то между неловкостью и влечением; Беатриче ничего не заметила. Взяла этикетку, зажала ценник большим и указательным пальцем и продемонстрировала мне: четыреста тридцать две тысячи лир.
– Видела? – спросила она, округляя полные возбуждения глаза. – Представляешь?
Я потеряла дар речи – но не оттого, что вошла в роль. И не из-за непомерной цены. Ее тело без одежды ошеломляло, сокрушало. Как Ника Самофракийская, как Дафна в исполнении Бернини. А еще как лава – что-то стихийное. Никогда я не думала, что от красоты может стать больно.
Опустив глаза, она медленно надела джинсы. И подождала какое-то время. Прямо как мой отец с «Поляроидом»: не переворачивал карточку, пока не проявится изображение, пока из пустоты не проступят очертания, открывая правду – или ложь. Беатриче держалась двадцать секунд, стоя перед зеркалом с закрытыми глазами. Потом открыла их. На ее лице читалось удовлетворение.
В белом свете дневных ламп, в укромной тесноте кабинки этот новорожденный образ в джинсах и лифчике притягивал к себе, точно магнит.
Я, загипнотизированная, не могла оторвать от нее глаз.
Чтобы такую, как она, отвергали? Чтобы пренебрегали, игнорировали? Невозможно; только любить и завидовать всем миром.
Беатриче словно догадалась, о чем я думаю:
– Ты заметила, что я у всех как заноза в заднице? Изображают дружелюбие, а на самом деле ненавидят, никогда в компанию не возьмут. Представь, если я вдруг в этом в школу приду? Как все говном изойдут! И мать моя тоже подавится от зависти, потому что я молода, а она нет, и потому что я красивее ее. Понимаешь теперь, зачем мне это нужно?
На самом деле я по-прежнему не понимала, но хотела быть ее подругой.
Беатриче взяла меня за руки, точно жених невесту:
– Ты готова?
– Готова.
Она улыбнулась, заглянула мне в глаза:
– Тогда нужно, чтобы тебе сейчас стало плохо.
Не снимая джинсов, она натянула сверху юбку и, поспешно одеваясь, крикнула:
– Господи, Элиза!
Что она знала о моем прошлом? Ничего. Однако поручила мне сделать именно то, что у меня выходило лучше всего: заблокировать легкие, потерять пол под ногами и ощутить, как срывается в галоп сердце и вот-вот разобьется вдребезги. Паническая атака – так это называется, но для меня это всегда были приступы одиночества; начались они однажды утром, в детстве, и я даже могла бы рассказать, как именно, вот только воспоминание это слишком болезненное.
Я вывалилась из кабинки, хватая ртом воздух. Беатриче принялась кричать, сея панику. Меня трясло. Все собрались вокруг, кто-то догадался принести воды.
– На воздух, на воздух! – умоляла Беатриче, волоча меня к выходу и рыдая. Предложили вызвать скорую помощь, и она с отчаянием в голосе воскликнула:
– Да, скорее! Мамочка, папочка! – призывая наших воображаемых родителей. Я аж посинела от нехватки воздуха. Беатриче незаметно сняла обувь, спрятала в сумку. Распахнула дверь. И дальше я знаю только то, что мы побежали.
Неслись со всех ног, что есть духу, по улице, где не пройдешь, прокладывая себе дорогу локтями, и потом дальше по тускло освещенным переулкам, вдоль припаркованных в два ряда машин, задевая руками стены. Мы едва не умерли от инфаркта, пока добрались до скутера, брошенного у выезда на Аврелиеву дорогу. Беатриче надела шлем, протянула мне мой, отогнула подножку и расхохоталась.
– Ты была великолепна, Эли! Великолепна!
Она назвала меня Эли. И мне показалось, что мы с ней ужасно близки, связаны неразрывно, как сиамские близнецы. Я гордилась собой, гордилась нами. Я так не радовалась, даже когда закончила начальную школу со сплошными «отлично»; даже когда закончила среднюю со сплошными «отлично» и похвальной грамотой.
Мы ринулись в подсвеченную фарами темноту, в субботний вечер, в котором, как в фильмах, сконцентрировался смысл жизни. Короткая остановка на заправке – и дальше на семидесяти в час, а где получится, то и быстрее. Когда мы вернулись на Железный пляж, лишь свет луны освещал берег моря и воду. В ясном небе можно было разглядеть даже Стрельца и Близнецов.
Я слезла с «реплики» и забралась на свой «кварц».
– Жаль, что не получилось и для тебя украсть, – сказала Беатриче, заглушив мотор. – Я тебе свои одолжу. – Она подняла юбку, демонстрируя добычу, и в холодном свете луны стразы загорелись белым.
– Беа, – начала я, впервые обращаясь к ней так, – ты что, я же не могу их надеть.
– Почему?
– Ты меня видела? – улыбнулась я, как бы в оправдание.
– Ты ничего не понимаешь, – серьезно ответила она. – В понедельник после обеда приходи ко мне домой – виа Леччи, семнадцать, – и я покажу тебе кое-что, чего никто не видел.
– Не знаю, смогу ли я…
– Сможешь.
Было поздно. Не прибавив больше ни слова, мы помчались вниз по тропе: Беатриче впереди, я следом. Как и все последующие годы. Она по эту сторону (зеркала, объектива, компьютера) – я по другую. Она на свету – я в тени, она говорит – я слушаю, она продвигается – я наблюдаю.
Хотя в тот вечер мы просто неслись вперед и играли в догонялки: она на новеньком коне, а я на старой колымаге. Подпрыгивая на колдобинах, уворачиваясь от прорезавших землю сосновых корней, с криками и воплями. Две ненормальные.
В город въехали уже в десятом часу. На кругу с виа Орти Беатриче уехала направо, а я налево. Мы расстались, посигналив друг другу, связанные невидимой нитью: обещанием встретиться в понедельник после школы.
Потом волшебный сон закончился. Паркуясь у дома, я вновь ощутила, как желудок наполняется безысходностью. На первом этаже в кухне горела лампа, и лишь отец ждал меня там.
2
Чужие друг другу
Калитка была приоткрыта, дверь не заперта, словно отец узнал звук двигателя или же – что еще хуже – все это время просидел у окна, дожидаясь меня.
Если бы у меня был выбор, я бы поехала куда-нибудь еще. Эта темная квартира, эти погруженные в молчание комнаты лишний раз доказывали, как мы одиноки.
Я несмело, точно гость в чужом доме, пошла по коридору. Хотелось есть, в воздухе висел аппетитный запах рыбного соуса. В грязных ботинках и в заношенной куртке брата я появилась на пороге кухни.
Стол был накрыт заботливо, по-настоящему, не в мамином небрежном стиле. Скатерть чистая и выглаженная, глубокие тарелки стояли на плоских сервировочных, вместо обрывков бумажных полотенец лежали тканевые салфетки. На плите на минимальном огне кипела вода, рядом ждали своей очереди две порции спагетти. По телевизору шел очередной выпуск «Суперкварка», за которым папа внимательно следил.
На часах было без двадцати десять.
Обернувшись, отец спокойно спросил:
– Кидаю макароны?
Я кивнула. Роль глухонемой мне удавалась прекрасно: сказывались месяцы тренировок. Папа встал, снял с кастрюли крышку, прибавил огонь.
– Можешь разуться и снять куртку, если хочешь, и вымыть руки.
Его вежливость раздражала, а помешанность на чистоте – тут я вообще молчу. В моей прошлой жизни никто никогда не говорил мне мыть руки. Мой брат отсчитывал деньги за курево, зажимал гашиш между большим и указательным пальцами и грел его над зажигалкой, потом теми же пальцами лез в пакет с картофельными чипсами. Иногда эти чипсы составляли его ужин.
Я подошла к раковине, выдавила немного жидкости для мытья посуды и быстро потерла ладони и пальцы. Не снимая, впрочем, куртки и ботинок-амфибий фиолетового цвета с железными носами, в которых я была похожа на Чарли Чаплина: у меня тридцать шестой размер, а они сорокового; до этого они принадлежали Себо, лучшему другу Никколо, теперь же составляли мне компанию.
– Послушай передачу, – отец показал на экран, где проплывали планеты и туманности. – Очень интересно. Астрономию в классическом лицее всего три года изучают, к сожалению.
Я не имела понятия, когда у нас начнется астрономия; я только-только перешла в старшую школу. Его попытки завязать разговор, особенно на научные темы, нервировали меня еще больше, чем его прекрасные манеры.
– Меня завораживает мысль, что вселенная изучена всего на десять процентов, – продолжал отец, помешивая спагетти. – А все остальное, то есть несоизмеримо большая ее часть, по-прежнему остается загадкой.
К глубокому сожалению, я его слушала. И даже шпионила за ним – точно так же, как и он за мной. Проходя мимо его кабинета, косила туда глазами, а когда он говорил по телефону с коллегами – подкрадывалась и подслушивала. На самом деле мне мало что удавалось понять. Но ему везло еще меньше: я ни с кем не говорила по телефону, всегда закрывала дверь своей комнаты, а если шла в ванную, то запиралась на два оборота и открывала все краны.
Вроде отец и дочь, а на деле словно посторонние. Трудновато начинать отношения с четырнадцатилетним опозданием.
Тем ноябрьским вечером я в своей пилотской куртке окопалась на стуле у горячей батареи. Внутри пузыря, наполненного нетерпимостью и злобой и не желавшего разрываться. На заднем плане Пьеро Анжела объяснял разницу между эллиптическими и спиральными галактиками. Отец попробовал макаронину.
– Всемирная паутина сейчас устроена похожим образом, – прокомментировал он. – Все, что доступно, – это не более одного процента. – Он попробовал вторую макаронину и решил сливать воду. – Но ты только представь, как благодаря этому проценту изменится жизнь на планете. Вам ведь в школе объясняли, что такое интернет? Какой это неисчерпаемый источник информации?
Для меня в последние месяцы это был источник раздражения. Потому что, когда отец подключался к интернету, телефон не работал. И плевать мне было на его сайты и чаты. А вот то, что он в десять вечера готовил мне спагетти с морепродуктами, – впечатляло. И тревожило. Поэтому я нервничала еще больше. Словом, наши совместные ужины превращались в сплошное мучение.
– Хочу в ближайшее время завести тебе электронную почту, Элиза, – произнес отец, перемешивая спагетти с соусом.
Я испуганно застыла: я понятия не имела, что такое электронная почта, да и звучало такое словосочетание довольно неприятно.
– Это будет замечательно, – продолжал он. – Я даже думаю, что тебе просто необходимо иметь электронный адрес. – Он подошел к столу, разложил еду по тарелкам, поставил на плиту пустую сковородку. – Вы могли бы спокойно переписываться целыми днями и не ждать, почувствовали бы себя ближе друг к другу. Вы с мамой.
– Мне это не надо, – тут же отрезала я слабым голосом.
– Почему? Ты увидишь, как это удобно. И быстро.
– У нас телефон есть, – ответила я, обходя молчанием тот факт, что звонит он крайне редко.
Отец намотал на вилку спагетти.
– Приятного аппетита, – сказал он.
Я начала есть. Было вкусно, но я ему об этом не сказала. Сидела, не поднимая глаз от стола.
– По-моему, прекрасная возможность начать общаться по-новому, спокойно, всем вместе. Что думаешь?
А думала я, что хочу встать, швырнуть тарелку, все расколотить, убить его.
– Телефон для нас не самый подходящий вариант. Разговаривать нам, очевидно, не очень комфортно. А вот писать – совсем другое дело. Есть время подумать, подобрать верные слова, изменить их при необходимости.
«Да ты кто такой? – подумала я. – Откуда ты знаешь, как писать, – ты, технарь хренов?»
– Компьютер там, – продолжал он. – Можешь приходить в мой кабинет, когда захочешь. Сиди спокойно столько времени, сколько нужно. Я, наверное, и твоей матери на Рождество компьютер подарю.
Я закашлялась, слюна встала поперек горла, вызвав рвотный позыв. На самом деле мне просто хотелось заплакать, но показывать это было нельзя. Мама и Рождество в одном предложении провоцировали короткое замыкание. Отец протянул мне стакан воды. Подошел, снял с меня куртку Никколо, погладил по влажным от пота волосам. Потом убрал руку. Жест был невыносимо ласковый.
– Обещаю тебе, что мы отлично отпразднуем Рождество. Я найду способ убедить их приехать сюда и остаться до Эпифании. В крайнем случае мы с тобой к ним поедем. Не волнуйся.
В крайнем случае я сбегу, и ты меня больше не увидишь.
Спрячусь в библиотеке, в особняке Пьяченца, до конца жизни.
Как только мне исполнится восемнадцать.
Эта мысль меня успокоила. Вот так же и моего брата всегда успокаивала мысль о совершеннолетии. Мы на финишной прямой, и это испытание необходимо стойко вынести; в конце концов нам больше не придется подчиняться идиотским решениям родителей.
Отец вернулся на свое место, и я подняла голову, чтобы взглянуть на него. Очевидно, вид у меня был расстроенный. Я поняла это по виноватому выражению его лица.
Он старался. Сидящий напротив меня сорокасемилетний мужчина с проседью в бороде и волосах, в очках с толстой черной оправой, с лицом типичного ботаника, занимался тем, что суетился у плиты, мыл, стирал, убирал ради своей дочери. Взял полугодовой отпуск на работе, чтобы заботиться обо мне и вести хозяйство.
Вот только я в этом не нуждалась. Чтобы меня любил какой-то незнакомец. Мне нужна была мама, которая не звонила; брат, который укуривался косяками. А не этот образованный, с широким кругом интересов отец, вымаливающий у меня улыбку, знак внимания. Бедолага, которому вдруг ни с того ни с сего пришлось жить с дочерью-подростком.
Вроде меня.
Я ходила с мужской стрижкой и морковно-красными волосами, как моя мать. Унаследовала от нее глаза орехового цвета и даже веснушки. Рост у меня был никакой, вес тоже не особо – килограммов сорок пять. Ни бедер, ни груди; можно было спокойно носить то, из чего мой брат уже вырос, или то, что забраковали подруги моей матери, прореживая шкафы дочерей. Как следствие, я носила широкие джинсы-варенки, детские блузочки с круглым горлышком, толстовки с Sex Pistols на два размера больше и клетчатые юбки в складку. И, разумеется, была плохо социализирована. Впрочем, в моей семье в той или иной степени все этим страдали.
Зазвонил телефон, и я подскочила. Мое существование в буквальном смысле определялось и диктовалось этим серо-белым аппаратом с надписью «Телеком Италия».
После первого же звонка я сорвалась со стула и выскочила в коридор. Я знала, что это она: кто еще будет звонить в такой час в субботу? С молниеносной скоростью я схватила телефон и крикнула:
– Мама!
Потом повалилась на пол, вдавив трубку в ухо, так что они стали одним целым. Вцепилась в нее обеими руками, прижала к ней губы. Я была так счастлива, что обо мне не забыли.
– Как ты, девочка моя?
– Хорошо, – соврала я и тут же разразилась вопросами: – Что вы сегодня делали? Снег шел? Ты ходила передать от меня привет Соне и Карле? – Мне хотелось знать все про Биеллу и про жизнь, которую они вели там без меня. – А Никколо дома?
– Нет, милая, он в «Вавилонии».
От одного упоминания «Вави» на сердце потеплело, вспомнились проведенные там ночи: Никколо в ангаре дергается под панк-рок, мы с мамой ждем его в машине снаружи; сиденье опущено, ноги прикрыты пледом, окна открыты даже зимой. Как же сладко мне засыпалось вот так – мама рядом пьет из бутылки пиво, курит, а вокруг расстилаются рисовые поля.
– Снег был, но только в Андорно, – ответила она. – Горы все белые.
Едва она сказала «горы», я тут же их все увидела: Кресто, Камино, Мукроне. Они для меня были как живые. И я с ума сходила от тоски.
– А в библиотеку ты ходила?
– Ну какая библиотека? Суббота же сегодня. Если мы зашиваемся, я и после обеда работаю, ты же знаешь.
На самом деле я совсем ничего не знала о ее новой работе на фабрике головных уборов. Не участвовала в ее нынешней жизни, и это было очень грустно. А ведь когда-то я часами читала на пьяцце Лиабель, дожидаясь ее, знала всех ее коллег, ее расписание.
– А ты чем занималась? – спросила она.
– Ничем.
– Так не бывает.
– Гулять ходила, – призналась я.
– Вот это отличная новость! А с кем?
От ее радости мне было больно: она совсем не ревновала.
– С одноклассницей. Беатриче.
– Дружба – это очень важно, Эли, не забывай об этом. Передашь трубку папе на минуту?
Что, уже? Мое сердце покрылось трещинами. Разлетелось на кусочки.
Почему ты меня так мало любишь, мама?
Я позвала отца, протянула ему трубку. Он был прав: телефон нам для семейного общения не подходит. Потому что мы и не семья вовсе.
Я больше не желала слышать, как они разговаривают, будто бы меня не существует, и закрылась у себя в комнате.
Несколько коробок после переезда до сих пор стояли на полу у стены нераспечатанные, заклеенные скотчем. Так они создавали впечатление, будто я здесь временно, и однажды мама с братом приедут забрать меня. Я бросилась на кровать, схватила свой кассетный плеер – тоже, можно сказать, обноски брата, наряду с его куртками и толстовками. Он собирался выбросить его, но подарил мне, когда купил себе новый CD-плеер. А я ради развлечения запускала пальцы в кассету Blink-182, вытягивала ленту и поглаживала ее, не имея возможности дотронуться до брата.
Я поискала в шкафу роман, который не вернула в библиотеку перед отъездом. И пижаму в сердечках, которую в последнюю минуту вытащила у мамы из чемодана. Взяла все, прижала к себе, ощущая эту грандиозную способность вещей: сохранять впитанные когда-то запахи, голоса. Воскрешать воспоминания.
У меня больше ничего не осталось, ничего.
Я взяла плеер, книгу и пижаму с собой в кровать, под одеяло: это все, что сохранилось у меня от прошлой жизни после кораблекрушения. Ни одной фотографии, где мы втроем, ни единого доказательства нашего счастья. Лишь мой дневник с замочком, где я тренировалась фиксировать впечатления, чувства, чтобы хоть в словах оставалось что-то мое.
Я выудила из-под матраса ключик и отперла дневник.
На чем я остановилась? Я пролистала страницы. На «пожилом».
А можно так сказать про дерево? Я уже перечислила пятьдесят два определения для платана за окном; я часами глядела на него каждый день, но так и не решила, какое выбрать.
Какой он, этот платан, Элиза?
Я не знаю. Если бы пришлось описать его кому-то, кто его не видит, что бы ты сказала? Что он грустный, наверное. Весь высохший, почти без листьев; стоит там один, на заднем дворе, замурованный в бетон.
Да, он грустный. Или это ты грустная?
Интересно, а у Беатриче есть дневник? Что видно из ее окна? Какой у нее дом? На каком этаже она живет? В понедельник у меня будут ответы. Сердце ожило, забилось снова. Я встала за справочником, чтобы в паутине улиц найти виа Леччи, 17. Оказалось, это в отдаленном районе, на холме. Я прочертила ручкой путь от своего дома до дома Беатриче и невольно улыбнулась. У меня появилось что-то, за что можно зацепиться, и это успокаивало мою боль. Облегчало хоть немного.
«Пожелтевшее», – продолжила я. «Полуголое». И даже: «одинокое». Никто из класса ни разу не спросил, где находится Биелла, что там интересного. Говорили: «Шевели поршнями» или «Биелла-белены-съела». Тупой, дебильный юмор того, кто ничего не знает и не хочет знать. Я подняла глаза от дневника, прислушалась к повисшей в доме тишине. Отец, дойдя до точки, резко бросил трубку. Разговор был окончен. Мама больше не хотела общаться со мной. Я поглядела на пустые стены, освещенные лампой под абажуром. На эти заградительные щиты. На эту одиночную камеру в сиротском приюте.
Как ты могла оставить меня здесь?
Увезти Никколо и бросить меня?
Почему, мама?
3
Прощание с пейзажем
Мы переехали в Т. все втроем. Поначалу. Двадцать девятого июня двухтысячного года загрузились в «альфасуд» с тремя чемоданами и четырьмя граммами гашиша, потому что мама, потеряв работу на фабрике «Лиабель», внезапно решила начать все сначала с папой.
Хотя бессмысленно говорить «решила» в случае с мамой: она обычно действовала импульсивно. Как-то в апреле или в марте она вернулась домой, бросилась на диван в гостиной, где я делала уроки, а Никколо рисовал дракона для своей будущей татуировки. Так и вижу ее: задорные вихры, короткое морковно-красное каре без единого седого волоска, вздернутый носик, веснушки, желтоватые глаза, подведенные фиолетовым по подростковой моде. Я бы дала ей вдвое меньше лет, учитывая еще и смешной рост и худобу ее нервного тела. Она зажгла сигарету и объявила:
– Ребята, мы уезжаем.
Я была в третьем классе средней школы, Никколо – в четвертом классе старшей. В тот момент мы и близко не догадывались, о чем речь.
– Меня уволили, – продолжала мама, выпуская дым. – За какую-то пару трусов, – она изумленно улыбнулась. – Катастрофа, но мы превратим ее в удачную возможность.
Тут она поднялась и направилась в коридор; мы за ней, в неведении и тревоге. Мама же пребывала в эйфории, словно только что нашла ключ от счастья. Она взяла телефон, набрала номер. И все произошло на наших глазах, в прямом эфире.
– Я тут подумала… – начала она в трубку, – давай дадим себе второй шанс, Паоло. Мы еще молоды, мы этого заслуживаем. Нашим детям нужны родители. Мне нужен ты. Нужно сменить обстановку, изменить жизнь! Прошу тебя.
И она стала совать нам трубку, в которой был отец: бестелесный голос в телефоне, в лучшем случае – молчаливая фигура на Пасху и Рождество. Она с воодушевлением потрясала этой трубкой перед нашими лицами:
– Давайте, скажите что-нибудь!
Сначала брату, потом мне. А мы так растерялись, что даже не смогли выдавить обычное: «Все хорошо, в школе нормально».
Дело в том, что, когда маме взбрело все это в голову и она внезапно вынудила нас поломать нашу жизнь, оставить город, где мы родились, дом, где мы выросли, и переехать за пятьсот километров, мы понятия не имели, что за человек наш отец. Он был тот, кто посылал нам деньги, кто звонил по утрам в воскресенье и кого мы теоретически должны были любить. Вот и все.
Мы никогда не страдали от его отсутствия.
Да и с Т. были не очень знакомы. Пляж, на котором мы скучали две жаркие суматошные августовские недели, когда мама отправляла нас к отцу и каждый обед и ужин был точно тяжкий крест; променад под иссохшими пальмами и олеандрами; исторический центр с вечными ремонтными работами. Два-три приятеля по пляжу, с которыми мы обменялись адресами и которым никогда не писали; за год они изменялись так разительно, что на следующее лето казались незнакомцами. Но когда мы в тот день стояли с трубкой в руке, то, наверное, самым страшным было вот что: они двое вместе. Абсолютная несуразность того факта, что этот сдержанный мужчина, профессор университета, мог запасть на нашу мать, сделать двух детей, да еще и дать ей второй шанс – причем теперь, а не в те времена, когда мы еще не выросли и, возможно, захотели бы иметь отца, который бы забирал нас из школы.