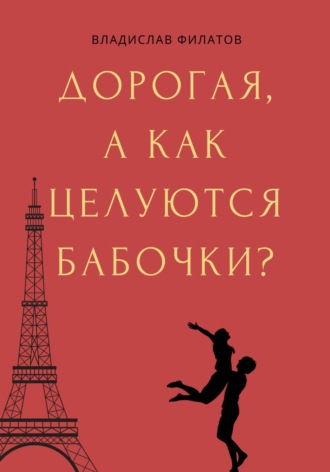 полная версия
полная версияДорогая, а как целуются бабочки?
– Шмотки собрал?
Обнаружив на столе пустую сумку, начали швырять в нее все, что попадало под руки.
– Это не мое
Высыпали.
Лицо Катрин вдруг сделалось серым. Взял свою сумку, которая давно уже была собрана, пошли к шоссе. Эти двое за нами.
–Помнишь, гостиницу Татарстан? Завтра жду тебя там, – шепнул ей на французском. – Я никуда не уеду.
– Нет, нет, нет. Уезжай. Тебя арестуют. Сошлют в Сибирь, уезжай – твердила она.
–Не сошлют. И завтра мы с тобой обязательно встретимся. И я тебя еще из Москвы провожать буду.
Сел в попутку, а она осталась. Стояла на обочине, а в трех шагах эти два бугая.
Черт бы побрал обкомовцев вместе с их дачами! Но только ли в дачах дело?
Письма? Никакой «антисоветчины» в наших письмах не было. Мы там даже о браке не говорили. Да если бы и говорили. Официального запретов на брак с иностранцами к этому времени уже не существовало. Специально интересовался. В 47-м, был опубликован скандальный с точки зрения международного права Указ Президиума Верховного Совета СССР о запрете браков советских граждан с иностранцами, но в 1954-м его ж отменили. Черт бы их всех побрал! Ну, влепили бы выговор по комсомольской линии. Да хоть в тюрьму посади. Но только не при ней. Ну что стоило дождаться конца смены! Нет, надо было напакостить. Ну ладно мы тут, привычные, а она? Даже ее не постеснялись, ублюдки.
– Приехали! – сообщил таксист, притормозив у свежеокрашенной «сталинки». Провожая меня в Казань, отец дал адресок своего фронтового друга Муштареева и просил при случае навестить его. Что я и сделал. Дверь отворила жена Муштареева – Вера Ильинична.
– Сын полковника Игнатова? Равиль, ты слышишь?
Муштареевы мне были рады. Да что там – они были счастливы! Накрыли стол и часов до двух ночи мы с дядей Равилем пировали, хотя на душе у меня было темно, как у негра в том самом месте. Рюмашки я хлопал одну за другой, но все никак не пьянел, а потом вдруг свалился замертво. Очнулся, впрочем, в постели. Старики каким – то образом меня уложили. Взглянул на часы и обмер: опаздывал не на пять, не на десять – на сорок минут! Поймал такси, а у гостиницы ее нет. И за гостиницей, и в холле…Я совсем уж было отчаялся и вдруг:
– Володя!
Бежит. И опять вся зареванная.
– Я думала тебя посадили в тюрьму.
– Прости, прости, прости, – целую припухшую от слез рожицу.
Заулыбалась, а меня как кипятком вдруг ошпарило: ее же могут пасти. Схватил за руку и дворами, дворами, дворами… Вроде бы никого.
– За тобой не следили?
Оказалось, следили. И не один. А трое. Но и она была не одна. Целая группа французов вывезли в этот день в казанский кремль на экскурсию. И вот там, моя маленькая умница, от слежки оторвалась. Долго бродила по городу. И только потом подошла к гостинице. Но не к самой – схоронилась в сквере. Кажется, ее начинала увлекать эта детективная история.
Мы ели мороженое в какой-то открытой кафешке, потом целовались как сумасшедшие в последнем ряду кинотеатра, где крутили «Белое солнце пустыни», и мальчишки, числом приблизительно с роту, обстреливали экран. Орудием пацанам служили корпуса шариковых ручек. Патронами – жеванная бумага. Стреляли они, разумеется, в басмачей. Часов в восемь я посадил Катрин на такси, переписав номер машины и предупредив таксиста о последствиях, которые для него наступят, если пассажирке дорога в лагерь покажется утомительной.
– Международный скандал мне ни к чему, – согласился со мной водила, и утром
следующего дня я уже обнимал Катрин в сквере гостиницы «Татарстан».
– Я все сделала, как ты велел, – отчитывалась малышка. – Отодвинула доску в заборе, вылезла в дыру и долго, долго шла. До самых рыбаков, которые учили наших ребят пить вашу самогонку.И только потом поднялась к шоссе и остановила машину. А денег ты дал слишком много. У меня осталась целая куча. Но ты поедешь в Москву? Я очень хочу, чтобы ты поехал. Но я боюсь, что они тебя поймают и вышлют в Сибирь.
–Никогда, – целовал я соленые от слез ресницы.– Ни в какую Сибирь.
Это был последний наш день в Казани. Назавтра французы летели в Москву. Я – следом. И очень быстро нашел – они остановились в той же самой студенческой общаге. Я нашел их и сделал глупость. Нужно было увести ее втихаря, а я приперся на вечеринку, которую университет устроил для гостей столицы в актовом зале все той же общаги.
–Человек проходит как хозяин необъятной родины своей, – мурлыкал, соскребая с физиономии отросшую за ночь щетину. Нет, мыслишка, что делать этого не стоит, конечно была. Но, петушась, я возражал себе самому.
– А почему, собственно, нет? Что такого противоправного я делаю? Кто мне может запретить пригласить девушку на танец?
Ну и когда, свежевыбритый, благоухающий одеколоном и совершенно трезвый пробирался сквозь толпу к этой самой девушке, то ощутил на плече знакомую тяжесть руки. И услышал до боли знакомый голос:
– Тебе сказали, что у тебя мама заболела?
– Володя! – закричала Катрин, обнаружив меня, а рядом одного из тех, кто заламывал мне руки в лагере.
– Скажи девушке про маму, и чтобы духу твоего в столице не было.
Стряхнул его руку, и, «отвальсировав» Катрин поближе к громыхающим колонкам, шепнул:
– Я выхожу, минут через десять – ты. Свернешь из подворотни налево, я тебя окликну.
Она появилась ровно через десять минут. Но, разумеется, не одна. Я взял ее под руку, и мы пошли к метро. Сопровождающие лица, лицо – за нами.
– Заходим в вагон, – инструктирую любимую, – и тут же выходим обратно.
Мы не вышли, мы выскочили. А он не успел. И бежал вдоль окон. И мой хук был последним, что он увидел.
Утром Катрин улетала в Париж. Но день у нас был. А потом опять были письма. А потом я получил диплом вместе с предложением вернуться в «Аделяково», и понял, что сдохну. Сдохну в этой деревне, потому что речь шла о предложении, от которого нельзя было отказаться. Речь шла о распределении. Об обязанности отдать Родине долг за бесплатное обучение. Как минимум три года я должен был провести среди «кроликов в навозе», как выражался, Саня.
И вот иду в печали по залитому солнцем «Бродвею», рисую картины скорбной своей будущности, а навстречу – Лидия Михайловна. Еще одна эффектная француженка из Суворовского, а ныне – директор единственной в славном нашем городе школе с французским уклоном.
– Игнатов, вы ли это? – встряхивает безупречной прической , и я чувствую запах жасмина, который долго стоял в коридорах суворовского, которыми ходила эта породистая с потрясающим вкусом женщина.
– Я, Лидия Михайловна.
– Хорош, – прищурив близорукие глаза, бесцеремонно разглядывает меня Михайловна. – Ну просто Делон вылитый. Вы, я слышала, по нашей стезе пошли? И какой же курс? Четвертый?
– Я уже дипломирован, Лидия Михайловна.
– Да неужели? А отчего ж в таком случае столько печали в прекрасных глазах?
– В деревню ссылают.
– Такого красавца? Да еще кадета. По-моему, это неправильно.
– А что делать?
– Вам что – нибудь говорит фамилия Мельниченко?
– А то!
– Полковник сейчас трудится в облано. У меня сегодня с ним встреча. Доложу обстановку, а ты завтра…нет, послезавтра часиков в одиннадцать…. Возьми документы, какие есть, и – ко мне.
Через день я был у директрисы спецшколы в кабинете, а через месяц уже вел французский у пятиклассников.
Эта школа появилась в нашем городе, сразу после того, как в городе закрыли Суворовское. И появлению этому немало поспособствовал полковник Мельниченко. В СВУ он заведовал учебной частью. В облано стал одним из двух заместителей заведующего. И именно он и Лидия Михайловна занимался комплектацией нового учебного заведения , и костяк коллектива естественно составили преподаватели Суворовского. На мое счастье случилась вакансия: одна из молоденьких «француженок» ушла рожать. И я делал все, чтобы доказать благоухающей жасмином директрисе, что она приняла правильное решение, приняв участие в моей судьбе. На работе, я можно сказать, горел. И не вылезал со своими пятиклассниками из лингафонного кабинета. Тогда было проблематично с аудиоматериалами и, тексты я начитывал сам. Брал сказки и записывал. Причем, в лицах. Заячьи реплики читал заячьими голосами, волчьи – волчьими. Дети умирали со смеху, но эффективности усвоения это не мешала. Напротив – помогало. Успех у меня был среди ребят колоссальный.
– Вот, товарищи, – совсем не директорским жестом поправляет прическу Лидия Михайловна, обращаясь к членам педагогического совета. – Какие идут нам на смену кадры. Человек всего ничего в профессии, а уже один из лучших. И методист блестящий, и новаций в отличие от некоторых не чурается. И что в результате? Все показатели на высоте. И по части успеваемости, и по части дисциплины. А как его любят дети.
Они действительно у меня сильно двинули. Все. Кроме одной. Алла такая. Аллочка. Не учит и все! Я и так с ней, и эдак… -Аллочка, – говорю, – ну у тебя же двойка по французскому будет. А школа то с французским уклоном. Ты дома то что-нибудь делаешь или нет,
– Делаю, – врет, не моргнув ни одной из двух своих лучезарных гляделок.
– Ну, давай, – предлагаю, – после урока будем с тобой заниматься. – И чуть ли не каждый день вожусь с ней по часу – дохлый номер. И ладно бы не могла . Не хочет. Не хочет учиться и хоть умри. Уж не знаю, как с ней другие справлялись, а к классной даме пошел:
– Поговорите хоть вы с ней. Может, вас послушает.
Дня через два пересекаемся, у классухи лицо наперекосяк.
– Пригласила, – рассказывает, – Аллочку. Почему, спрашиваю, не учишь французский. Владимир Петрович ведь двойку тебе за полугодие поставит. Знаете, что ответила? «Не поставит. Ему не разрешат. Мне папа сказал».
– А кто у нас папа?
– В обкоме . Инструктор.
– Ну конечно, – думаю, – инструктор. А кто же еще, – и ставлю Аллочке двойку. А вот этот вот лозунг, об который я в «Аделяково» уже бился, его все еще не сняли. Он еще все, зараза, висит. И обкомовский папа знает, это лучше чем кто бы то ни было. Так что, и чернила просохнуть не успели – Лидия Тимофеевна Тарасова, завуч:
– Что вы поставили Ларионовой?
– Двойку. Нет, по – хорошему, ей и одного балла хватило бы. Но как-то у нас не принято ставить в ведомости – колы, хотя система то пятибальная.
– Ну вот и расскажете директору про эту вашу систему.
– Про нашу, Лидия Тимофеевна. Про нашу.
В кабинете директора все также волнующе пахло жасмином, но в глазах хозяйки, всегда таких теплых – лед.
– Владимир Петрович, вы в курсе, что плохих учеников нет, а есть плохие учителя?
– Не только я. Двенадцатилетняя девочка отлично об этом осведомлена и умело этой своей осведомленностью пользуется.
– Значит, знаете. Уже лучше. Ну а то что у нас с отстающими положено дополнительно заниматься?
– А вы думаете, я не занимался?
– Тетрадочку предъявите?
– Какую тетрадочку?
– Учета. Вот тех самых дополнительных занятий с ученицей пятого класса Ларионовой.
– Никакой такой тетрадки у меня нет.
– Нет? Ну, в таком случае пишите объяснительную на имя заведующего районо.
– И никакой объяснительной ни в какое районо я писать не будут.
Развернулся и вышел. Ну и началось. Что ни педсовет, то разнос. И дисциплина то у меня на уроках никудышная, и методист то я никакой, и качество знаний никуда не годится, а внешний вид мой и вовсе не совместим с высоким званием советского учителя.
И вот тут они были правы. Стригся я под битлов, и на работу ходил в джинсах по преимуществу. Левиса, и, между прочим, родные. Катрин на рожденье прислала. И помню, в «Бригантине», был у нас центровой ресторан с меня их чуть было не сняли. Да и куртка тоже знатная была. Я кожи купил искусственной и с курткой Сашкиной, ну той, что он из Парижа привез, пошел в ателье, и мне точно такую же сделали. И помню до всей этой истории она на удивление благосклонно относилась к моему прикиду, директриса. А тут….Нет сама никаких слов не произносила. За нее говорили коллеги. Но было понятно, кого они озвучивают и почему. Во-первых, двойка что уже само по себе с точки зрения районо и выше , преступно. Во – вторых, у кого? У дочери инструктора обкома КПСС. Ну а одежда, и причесон – это уже из раздела отягчающих обстоятельств. Ну и стали доставать. И когда я уже морально был готов в очередной раз испортить себе биографию, приносят повестку. Бегом в военкомат, и узнаю, что даже уже приписан. Команда номер 85.
– Что?!– снимает очки отец.
– Дальний Восток, батя
– Это не Дальний Восток, Володя. Это Вьетнам.
Глава 8
А до этого, летом в августе 71ого у нас была встреча с Катрин в Москве. Целый год мы готовились, как нам казалось, к последней встрече в разлуке. Там, в Москве, мы должны были решить, каким образом сделать так, чтобы не расставаться никогда.
Я готовил плацдарм для нашей встречи. Звонил всем друзьям, а те своим друзьям, чтобы найти какой-то приют для двоих на несколько недель. (О гостинице в ту пору и думать было нечего: во-первых, они всегда были переполнены, во-вторых, все гостиницы находились под пристальным вниманием наших органов). Но друзья-кадеты со всем вниманием отнеслись к моей просьбе. Предлагали многие, и стол, и кров, но с одним «маленьким» недостатком, а именно: мы с Катрин должны были гостить в их семьях, в кругу, так сказать, их пап, мам, братьев и сестер, а иногда, и бабушек, и дедушек.
Но тут, неожиданно, пришла весточка от Янаева – его любовь московская, правда неразделенная, со всеми своими домочадцами как раз в августе уезжает на Юга и квартира их остается свободной. Они даже обрадовались, что за квартирой кто-то будет присматривать.
Я прыгал от радости и вопил как безумный песню Янаева про его неразделенную любовь:
«А зазноба была с гоголевским носом.
В юбке кожаной и кофте креп-жоржет.
Говорила она со столичным прононсом
И этим же прононсом мне ответила: «нет».
Катрин в это время пробивала курсы русского языка для иностранцев при одном из московских вузов. Она уже тогда училась в университете. В Провансе. На сербско-хорватском отделении. Русский – второй иностранный.
Стажировка в Москве была для нас единственным возможным способом встретиться. Меня бы во Францию не пустили даже как «руссо туристо».
И мы месяц, представляете, месяц были вместе. И поняли: всё, хотим жить долго, счастливо и умереть в один день.
Я должен был еще выяснить, как можно оформить наш брак. Но в то же время понимал, как только я начну наводить справки, меня сразу забреют в армию. Все прервется в самом начале и не будет времени и места для маневра. Решили, что я отдам «долг» Родине и тогда у них не будет причин нас остановить. Марш Мендельсона откладывался еще на целый год…
***– Ну? – вскинул отец глаза поверх очков.
Я только что вернулся из военкомата. И мы сидели на кухне. Друг против друга. Я рубал матушкин борщ, отец читал «Красную Звезду». Точнее, делал вид, что читает.
– Ну? – повторил он вопрос.
Я протянул предписание:
– Поеду на Дальний Восток. Я там двадцать пять лет не был.
– А я – пятьдесят пять. И не хрен там делать, – отрезал батя, изучив документ, и утром следующего дня уже отправился в военкомат сам.
О том, что Вьетнам опять – в огне, я, конечно, же знал. С 64-го страну бомбили и жгли напалмом американцы, и не было новостного выпуска на нашем ТВ без сообщений из этой горячей точки. Знал я и о том, что мы не стоим в стороне. Снабжаем дружественную ДРВ и вооружением, и спецами. Но что за спецы, сколько их и есть ли среди них жертвы, вот этого я не знал. Как и большинство наших граждан, но батя был, разумеется, в курсе. Батя был в курсе и отлично понимал, каким маршрутом советские зенитчики, летчики, связисты, медики, военные моряки, а также переводчики попадают на театр индокитайских боевых действий. И батя надел парадную с иконостасом форму, а, вернувшись, приказал: «Поедешь в Пензу. В артиллерийское училище. Лаборантом. Будешь пробирки мыть».
Пробирки, так пробирки. Покидал в сумку бельишко со средствами личной гигиены и – на вокзал. Вот как был – патлатый и в этой своей зашибенной джинсе, что прислала на рожденье Катрин. Ну и вот я в Пензе, у забора гремевшего на весь Союз училища, которое приравнивалось к академии и где в связи с этим повышали воинскую квалификацию офицеры стран Варшавского договора. Немцы, болгары, венгры, кубинцы, те же вьетнамцы.
Захожу на КПП – парнишка мается. Ну, а я порядок знаю.
– Товарищ рядовой, доложите командованию, что призывник Игнатов прибыл для прохождения службы.
В глазах паренька – недоверие: обычно новобранцы скопом с призывного пункта прибывают. И не сами по себе, а в сопровождении. Как минимум, старшины. Ну и лысые все уже. А тут – лохмарик, и один – одинешенек.
– Доложи, – настаиваю я. Звонит – прибегает ефрейтор.
– Ты – Игнатов?
– Так точно.
– Предписание.
Достаю. Изучает.
– Ну, пошли. Там как раз командир дивизиона вашего брата собрал.
Заводит в командирский кабинет, и я опять – по всей форме. Прибыл, дескать, для прохождения службы.
– Как это прибыл? – стягивает к переносице генсековские брови хозяин. Ему явно не по душе художественный беспорядок на моей голове, напрягает и отсутствие сопровождающего лица.
– Военкомат направил, – гоню дурочку, оценивая боковым зрением товарищей по несчастью. Пардон, по счастью. Народ весь уже брит, но еще полупьяный, и морда лица у народа ну практически совсем интеллектом не обезображена.
– Епэрэсэтэ, – чертыхаюсь мысленно я, – а слова то с кем говорить? Это ж свихнешься – без Катрин, да еще без слов.
– Кто родители? – продолжает тем временем допрос командир.
– Отец – полковник Игнатов. В штабе округа служит.
– Тепличное растение, значит. Но не надейся – у меня служба медом не покажется, – обещает подполковник и следующему новобранцу: «Кто, откуда?»
«Призывник Ледогоров, – пытается изобразить стойку смирно, – тот. – Окончил пензенский пединститут»
«Призывник Дренин, – рапортует стоящий рядом. – Пенза. Педагогический»
– Пед? А рожи – то бандитские, – думаю я, и в общем и целом в правильном направлении. Они были мне братья скорее по крови, чем по разуму. Все за исключением одного с факультета физвоспитания, где зачеты ставят не за блеск формулировок, а за очки, голы и секунды. Исключение, замечу сразу, приятное, составлял Дима Осинский. Тоже – пензяк, тоже выпускник местного педа, но филолог. И, как потом выяснилось, неплохой. Хоть рожа, надо заметить, тоже у него была вполне себе бандитская.
Год. После вуза тогда служили год. Два месяца – курс молодого бойца. Я не стал доводить до сведения старших товарищей информацию о своем суворовском прошлом. Решил прикинуться валенком – валенком оно проще, и двинул вместе с прочею салажнёю в карантин проходить курс молодого бойца. Потекли армейские будни.
– Рота подъем! – орет старшина Маруська (кликуха такая у старшины). И начинается светопредставление. 45 секунд ведь на все про все, а кроме штанов, гимнастерки и сапог еще и портянки, которых никто, кроме меня и в руках то не держал. Молодняк мечется, материться. Один я невозмутим. Суворовское доводит положенные по уставу действия не до автоматизма. До артистизма! Натягиваю, не поднимаясь с койки, штаны (они у меня рядом, на табуреточке), сажусь, и вот уже ноги обернуты, будто младенец пеленкой, и вот они уже в сапогах, и я уже иду к дверям, натягивая по ходу гимнастерку и застегивая ремень. Разумеется, в коридоре первый. Маруська глядит на меня глазами влюбленного.
– Старшина, – говорю я ему, – надо бы научить ребят портянки наматывать.
– Научаться, – обещает тот, строит роту и начинает драть пришитые супротив уставу погоны. У одного срывает, у второго, у третьего…Доходит до меня. Подворотничок – в линеечку, и погоны на месте, и пуговки, и ни одной нитки не видно.
– Фамилия?!
– Рядовой Игнатов!
– Выйти из строя на два шага!
Мне, да не выйти? Да я двенадцать раз в парадах участвовал. И на 7 Ноября маршировал по главной площади города, и на 1 Мая. Ать – два – кругом! Да еще и каблуками прищелкнул.
– Вот солдат! Целовать его надо, – растрогался старшина, но угрозу в исполнение, к счастью, не произвел.
– Ну, ты…чувак, – цокали восхищенно товарищи по оружию.– Как ты это делаешь? Ну, с портянкой.
– Не боись, научу.
Ну и стал потихоньку учить, тайны происхождения собственных знаний, умений и навыков не раскрывая. Ну, с понтом, от рождения – идеальный солдат. Загадка она ж не только в женщине хороша. Она и у мужика на авторитет работает. Ну и через пару дней буквально Маруська готов уже всю нашу роту целовать. Через день назначают меня старшим дневальным. В подчинении – трое. Один должен стоять у «тумбочки», другой – убирать казарму, третий – на смену, и я для начала организую ликбез.
– Армия, – внушаю парням, – не любит, когда солдат без дела. И потому создаем атмосферу ударного труда. Берем тряпку…Да, нет, мыть полы не обязательно. Достаточно намочить, но так, чтобы не скоро высохло. А дальше – хоть шедевры мировой литературы перечитывай, хоть письма домой пиши, хоть в носу ковыряйся, главное, чтобы швабра на расстоянии вытянутой руки находилась. Ферштейн?
Маруська заглядывает: пол влажный. И в казарме, и в туалете.
– Кто старший дневальный?
– Рядовой Игнатов!
– Молодца!
Комроты Карпушин навещает: один, как и положено, у тумбочки, другой – со шваброй, и на вечерней поверке лично объявляет мне благодарность за безупречно исполненные обязанности старшего дневального. Но – первые стрельбы, и я мажу.
– Как же это ты, брат? – разочарованно чешет маковку Карпушин.
– «Ружье» никудышное, товарищ лейтенант.
– Плохому танцору …
– А вы дайте другое.
– А бери! Но только на спор. Увольнительная, если в яблочко. Наряд вне очереди, коли опять промажешь, – и протягивает мне автомат. А из него только что разрядник стрелял.
– Как, – шепчу я парнишке, – бьет?
– Да нормально. Чуток только влево возьми.
Дых, дых, дых: пять из пяти. У Карпушина глаз задергался – азартен он был, этот наш Карпушин, спасу нет, но спор есть спор: знакомлюсь с городом Пензой. Но главное – с тетушкой одного сослуживца, и «арендую» у нее почтовый адрес. Тетушка согласилась, что на ее адрес будут приходить письма из далекой Франции. А я на радостях запел любимую песню двух кадетов-пензяков:
«Пенза – стильный городишко.
Пенза – маленький Париж.»
Вечером пишу Катрин, сообщая и об успехах в боевой и политической подготовке ( ну, насколько позволяет военная тайна) и о новом адресе, и о том, что собираюсь в библиотеку, изучать отечественное законодательство на предмет брака с иностранцами.
– Вот как только из караула вернусь, так и сгоняю, – обещаю любимой.
«Караулю» учебную территорию училища с военной техникой и складами. Караульная служба – это вершина нашего обучения в карантине. Перед караулом нам объяснили, что всё кроме дорожки, которая ведет в расположение роты, – охраняемая территория. Никто на этой территории после часа Х появляться не должен. Но я то службу знаю. Наверняка комроты Карпушин захочет проверить, как его молодые солдаты службу несут. Я спрятался за угол здания и стал ждать Карпушина. Холодрыга той зимой была страшная. Но экипирован я как надо – валенки, тулуп. И конечно – автомат. И конечно – с патронами. Ну и топчусь, посматривая из-за угла, топчусь, часов около шести гляжу – Карпушин. И главное – с тропки сворачивает. Я автоматец вскинул и: – «Стой!» – кричу. – Стрелять буду!»
– Отставить! Я комроты охраны лейтенант Карпушин.
В ответ я передергиваю затвор. Затвор зверски лязгает в ночной тишине, загоняя патрон в патронник. «Стой! Стрелять буду!»
Он на тропинку обратно – прыг, атлет под два метра ростом, и рысью – в казармы. «Молодой, – подумал, видимо, – солдат, мало ли что на уме». А я по уставу действовал. А по уставу, караульный только двоим подчиняется – начальнику караула и разводящему. И ни генерал ему, ни маршал Гречко не указ, не говоря уже о лейтенанте Карпушине. Ну и, конечно, в этих моих действиях была военная хитрость – выделиться среди новобранцев.
Отстоял я вахту, возвращаюсь в расположение роты – разборка полетов.
– Рядовой Игнатов, почему на командира роты автомат поднял? – вопрошает грозно Карпушин.
– По уставу действовал, товарищ лейтенант.
– Вот именно, – расплывается в улыбке. – Выношу тебе, солдат, благодарность. И советую всем с Игнатова брать пример. Рядовой, а службу лучше любого сержанта знает.
–Служу Советскому Союзу!– рявкаю, и на утро меняю дислокацию. Из учебки нас переводят в роту охраны, и начинает сбываться угроза командира дивизиона. Служба не то, что медом не кажется. Она превращается в наказание, если не сказать, каторгу. Через день – на ремень. В караул, то есть. И вот стою в очередном и думаю: «Екэлэмэнэ, для того я что ли вышку заканчивал, чтобы торчать здесь как тополь на Плющихе днями и ночами? Да как же так?! – возмущаюсь внутренне и на утро, выбрав момент, в канцелярию роты. К командиру. Стучусь.

