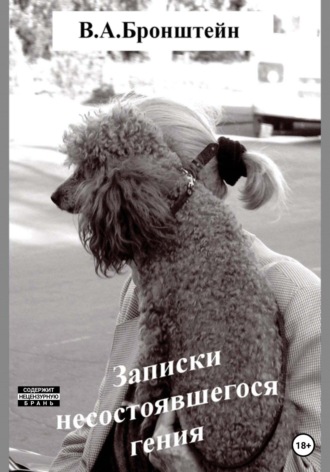 полная версия
полная версияЗаписки несостоявшегося гения

Виталий Бронштейн
Записки несостоявшегося гения
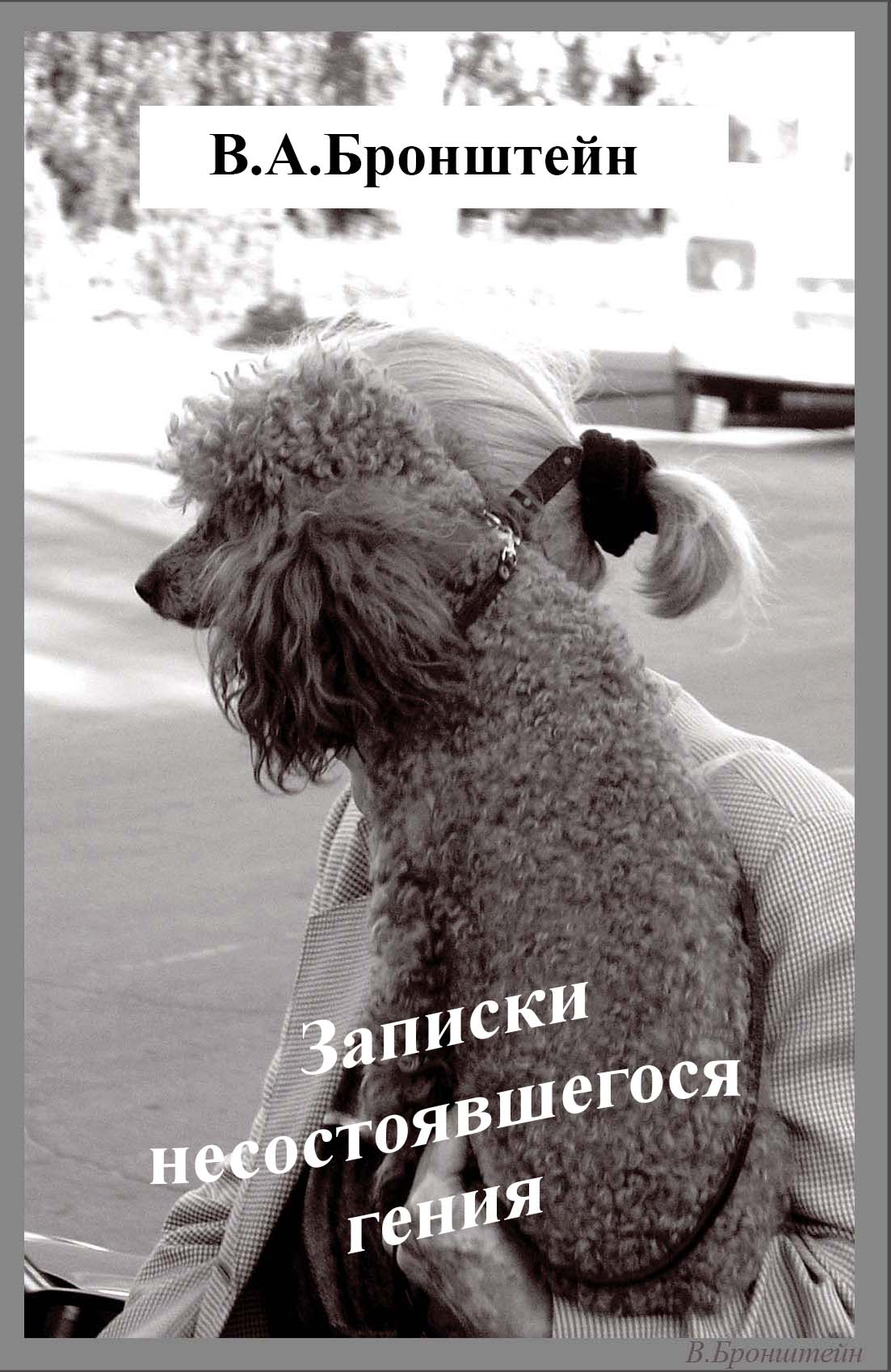

«Nullus liber est tam malus, quin aliqua parte prosit» («Нет такой плохой книги, которая
была бы совершенно бесполезной»)
Плиний Старший.
________________
Так что прошу критиков не беспокоиться!
МОЕЙ ЖЕНЕ
Не помню кто сказал, что, любуясь звездами, важно не потерять луну. Ты – мое главное и
яркое светило, вместе мы уже почти полвека. Будь здорова и счастлива!
________
Я хочу, чтобы осень подольше тянулась
Чтобы солнца осколки покрыли аллеи
По теплу твоих старых, заброшенных улиц
Чтобы мы не жалели
Потому что в дороге, тревоге, пути
Можно только терять, трудно что-то найти
И когда всё вокруг поглощает туман
Это только обман
Не грущу я, что мы ничего не нашли
И не плачу о том, что с тобой потеряли
Нас уже поджидают дожди
И печали…
2
Вместо посвящения –
ЗАВЕЩАНИЕ.
______________
Настоящим, находясь в полном уме и здравии, завещаю своей супруге, Бронштейн
Алле Ивановне, и дочери, Бронштейн Раисе Витальевне, все мое нижепоименованное
движимое и недвижимое имущество: земли и воды, леса и пашни, моря и океаны, фабрики
и заводы, корабли и самолеты, а также двухкомнатную квартиру по ул. Старообрядческой, дом № 10 в городе Херсоне, а в ней – 200 экземпляров этой книги.
Будьте здоровы, богаты и счастливы!
ЗАПИСКИ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ ГЕНИЯ.
_______________
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ.
Жизнь любого человека – непрерывная цепь разных уроков, от которых зависит, кем или чем ты являешься в этом мире.
Потому и говорят, что самый лучший Учитель на свете – это Жизнь.
Мой дорогой друг!
Автор этой книги тоже учитель. И по профессии, и по жизни: в его активе (или –
пассиве?) около сорока лет педагогического стажа. Так что, это книга одного учителя о
другом Учителе.
Кого и чему научил автор за эти годы – не столь важно. Интересней другое: научился ли чему-нибудь у Жизни он сам? Хорошим ли был учеником? Могут ли
пригодиться полученные им уроки другим?
Судить об этом ты сможешь, прочтя книгу, которая сейчас в твоих руках. И прости
меня, пожалуйста, за то, что в этом обращении я говорю о себе в третьем лице: «автор»,
«он», «ему»… Просто иногда бывает полезно посмотреть на себя со стороны. Говорят, так
можно лучше увидеть.
Вообще, любой, кто берется за перо, ставит перед собой какую-либо цель: поделиться своими размышлениями, заработать на хлеб насущный, а если повезет –
прославиться. Наиболее амбициозные мечтают оставить след, отпечаток, обрести
бессмертие.
Иное дело – автор этих строк. Кроме всего перечисленного, он, обуреваемый
манией величия, поставил перед собой более объемную задачу: на основании уроков, полученных им в своей жизни, дать пытливому уму читателя полезную пищу для
житейских размышлений, помочь ему получить ответы на главные вопросы людского
бытия: как жить среди людей, близких и не очень; относиться к делу, которое тебя
кормит; к чужим долгам и своим обязанностям; к тем, кто нужен нам, и к тем, кто не
может существовать без нас.
Более того, автор наивно надеется, что, дойдя до последней страницы, ты, мой
заочный собеседник, станешь уже немножко не таким, как сейчас, когда только читаешь
эти строки.
Думаешь, так не бывает? Чтобы человек изменился за несколько дней или часов?
Как бы не так! Поверь: манипулировать тобой не собирается никто. Но в нашем мире
много разных вещей. Одни – меняются под нашим воздействием, другие – меняют нас.
Может быть, эта книга – из последних?
И в завершение. Перед тобой не мемуары, которые предполагают авторское
жизнеописание, богатое малоизвестными, но яркими и зна́чимыми фактами. В этом
3
смысле автору особо хвалиться нечем. Судьба не одарила его возможностью участвовать
в Великих Мгновениях Века, ни разу, к сожалению, не свела накоротке с истинным
украшением многоликого человечества – его Знаменитыми и Умнейшими, зато и не
опачкала личными связями с Сильными Мира сего…
Не беда! Наблюдатели процесса обычно знают о нем куда больше его участников.
Вот и для меня яркий факт – вовсе не самоцель, зато размышления о нем – животворная
стихия моего мироощущения. И если факты не всегда согласуются с тем, как их
воспринимает автор – пусть им будет плохо, этим фактам!
Итак, я смело приглашаю тебя войти в мой внутренний мир, дорогой читатель.
Как полагали древние: если диктует жизнь – надо писать. Добро пожаловать!
Коротко о себе.
Родился я незадолго до окончания Великой Отечественной войны, в середине
апреля 1945 года, в городе Херсоне на юге Украины.
Мой отец, офицер-фронтовик, кроме того, что зачал меня во время краткосрочной
побывки в отпуске по ранению, особой роли в моей жизни не сыграл: ушел в другую
семью, когда мне было 5 лет, и я в дальнейшем виделся с ним периодически и
нерегулярно.
Хотя и, справедливости ради, отмечу, что несколько своих уроков он мне все же
преподал.
– Запомни раз и навсегда, – внушал мне бывший офицер, человек чести, когда я, первокурсник Одесского холодильного института, жил у него в 1962 году
непродолжительное время, – как надо себя вести в серьезных ситуациях.
Вот, например, ругают за что-то на собрании твоего товарища… Как быть?
Промолчать? Не выход. Потому что промолчишь раз, потом другой – приобретешь
репутацию равнодушного или скрытного человека. Карьеры уже не сделаешь, плохо.
А ты возьми да подумай хорошенько: чем это все может закончиться для
провинившегося? Если видишь, что ему конец, – бей посильней, чтобы он уже не встал, будь резок и непримирим: – Таким не место в наших рядах!
Другое дело, если поймешь, что все это – пустяки: повинится он, отряхнется да
пойдет себе дальше. Тут уж не зевай, смело поднимай голос в его защиту:
– Как же это так получается, товарищи, давайте будем объективны… Да, наш друг не
прав, да, он ошибся, но где же все это время были мы? Стояли в сторонке? Согласитесь, не очень это по-товарищески, давайте хоть теперь поможем человеку встать на верный
путь!
Так делай, сынок, и будь спокоен – одним товарищем у тебя стало больше!
С тех пор прошло много лет. Отцовские советы мне не пригодились. Наоборот
поступал многократно, бывало, правда, отмалчивался. До сих пор уверен, что он желал
мне только добра и советы его шли от души. Но для юноши, получившего от матери иное
нравственное воспитание, они были неприемлемы в принципе. Это раз. А во-вторых, таили в себе некоторый элемент опасности: а что, если ошибешься, не определишь верно, кто – устоит, а кто – упадет?! Тогда потерять можно больше, чем найти…
Моя мама – Бронштейн Рахиль Абрамовна, была, есть и, очевидно, теперь уже до
конца останется главным человеком моей жизни. Понимаю, о чем это говорит, знаю, что
это не очень хорошо, но так уж у меня сложилось.
Мама родилась в 1910 году в скромной еврейской семье акушерки-повитухи и
портового грузчика. Получала образование уже в советские времена: блестяще училась в
школе, окончила институт с отличием, была зачислена в аспирантуру при Херсонском
сельскохозяйственном институте.
4
Из семейных преданий мне известно, что на лекции моя бедная мамочка ходила
босиком – не было обуви, 1933-34 годы… Потом аспирантуру перевели в Одессу, и она
была вынуждена оставить ее – за недостатком средств на существование в чужом городе.
А я иногда задумываюсь: что ощущала она, отличница, пряча под стол на лекции босые
ноги от насмешливых взглядов втайне влюбленного в нее молодого преподавателя?
Моя мама любила Чехова, Толстого, Драйзера, Мопассана, – и этой болезнью
заразила меня. Я приходил домой после школы к часу дня, обедал, делал уроки, а после
читал все, что попадалось под руку. И не было ничего в те годы моей жизни ярче и
интереснее, чем книги, которые я таскал домой из трех библиотек: школьной, детской
городской и областной имени Горького. Читал безо всякой системы: фантастику и
примитивные советские детективы со следователем майором Прониным, газеты и
журналы, и даже то, что в руки ребенка вроде бы не должно было попадать.
Поздно вечером приходила с работы мамочка, топила грубу, готовила на плите еду, изредка проверяла, сделал ли я уроки, что-то делала еще по хозяйству, а затем укладывала
меня спать. И долго еще в ее комнате горел свет: где-то позади оставались склоки и дрязги
консервного комбината, где она работала главным агрономом, неуютное существование
сорокапятилетней женщины-разведенки, убого обставленное жилище, – моя мамочка
сладостно погружалась в загадочный мир книжных героев…
А однажды, когда я учился в первом или втором классе, она пришла с
родительского собрания расстроенная. И сказала мне, чтобы больше не смел трогать ее
книги. Оказывается, наша классная руководительница, беседовавшая с родителями о
круге чтения их детей, упрекнула мамочку во всеуслышание:
– Как вам это нравится: ваш Виталик читает в восемь лет «Милого друга»
Мопассана! Какой ужас! Конечно, родители могут читать что угодно, мало ли чем они
озабочены, но дети, бедные дети!.. (Придет время, я стану взрослым человеком, директором школы, и буду особо внимателен, чтобы личностные качества учеников и
пробелы родителей в их воспитании ни в коем случае прилюдно не обсуждались –
надолго запомнились мне мамины слезы).
Коль я уже рассказал здесь об отцовских советах, не лишним будет привести и
один из уроков маминых.
Летом 1976 года, через месяц после того, как я стал директорствовать в
райцентровской школе-новостройке, у нас дома впервые появился ковер. Красочное чудо
размером два на три метра, вещь весьма дефицитная, да и довольно дорогая, «тянувшая»
больше месячной зарплаты директора. Райцентр открывал широкие возможности: у одной
моей учительницы брат работал председателем райторга, так что появлением в доме этого
красавца я был обязан исключительно блату.
Мамочка, к тому времени уже пенсионерка, сияла:
– И у нас теперь дома тоже есть ковер!
Я же небрежно поглядывал на гостей, радостно упиваясь новой для себя ролью
добытчика. Все было прекрасно. А так как отношения с торговым боссом уже как бы
сложились, ничто не помешало мне ровно через месяц снова внести домой длинный тюк
и, в предвкушении маминого восторга, развернуть на этот раз ковер размерами поменьше, два на полтора метра.
И хоть мамино изумление при виде новой покупки трудно передать, особых
восторгов теперь, кажется, не было: мама потрогала ковер рукой, задумчиво промолвила: -
какая прелесть… – и ушла готовить обед на кухню. А вечером у нас состоялась беседа, которую я запомнил навсегда.
Я сидел в большой комнате за обеденным столом и что-то писал, мамочка, убравшись на кухне, тихо включила телевизор, посмотрела немного, а затем повернулась
ко мне:
5
– Извини, что я тебя отвлекаю,– сдержанно заговорила она, – но что-то на душе
неспокойно, плохо мне, Витя, так плохо… Пойми меня правильно: две таких покупки в
течение месяца – что-то, кажется, не то с тобой происходит… Неужели и ты – умный, начитанный, добрый – заразился этой гадкой болезнью?! Поверь мне, сынок: вещизм для
интеллигентного человека – это страшно! Он ломает души и судьбы, превращает людей в
склады или копилки, да что там – лучше я расскажу тебе одну старую историю, а ты уж
постарайся сам сделать вывод.
–Знаешь, – протирая свои старенькие очки, задумчиво начала она, – я очень жалею, что не довелось мне поговорить с тобой об этом раньше. Все как-то не получалось, было
вроде не к месту, а теперь боюсь, чтобы не оказалось поздно… Я расскажу тебе о том, как
мы с твоей бабушкой эвакуировались из Херсона в 1941 году, когда сюда подошли
немцы. И не смотри на меня недоуменно, не перебивай: мне позарез сейчас нужно до тебя
достучаться… Поймешь меня, сможешь сделать шаг назад – спасешься, нет – значит, жизнь моя прошла даром: не смогла я вложить свою душу в самого близкого для меня
человека.
… В тот жаркий августовский день мы уезжали последним пароходом. С нами был
твой старший братик Бертольд, маленький Бертик, пятилетний умница и всеобщий
любимец, который через полгода тихо умрет в Фергане от воспаления легких, и твоя
двоюродная сестричка Инночка. Ее родителей в первые дни войны мобилизовали на рытье
окопов, и она пошла в порт провожать нас, но в последний момент мы с бабушкой
посоветовались и решили ее забрать с собой и, как оказалось после, спасли этим. Всех
евреев, оставшихся в городе, включая ее папу и маму, гитлеровцы уничтожили.
Так вот, накануне отъезда объявили: беженцев много, а пароход небольшой, и
каждой эвакуирующейся семье позволяют брать с собой не более двух мест багажа. Если
б ты знал, как это тяжело: прожить много лет на одном месте, обрасти хозяйством, домашней утварью, а потом все бросить, захватив с собой лишь два чемодана… Мы
плакали ночью, отбирая самые нужные вещи, с болью разглядывали их, и вся предыдущая
жизнь невольно проходила перед нашими глазами. А впереди – неизвестность: что ждет
нас в чужих краях с малым ребенком? До сих пор не могу я забыть те тяжкие сборы!
Нам казалось тогда, что все нужно, что любой пустяк может пригодиться. В общем, с горем пополам, собрались и утром отправились в порт. А к полудню нам объявили, что
мест нет, пароход перегружен, спасать, в первую очередь, нужно людей, и на семью
теперь можно брать только одно место, представляешь? И сотни плачущих людей стали
раскладывать не берегу свои вещи, горестно отбирая самое необходимое.
И знаешь, что оказалось? Что то, без чего действительно жить нельзя, – это самые
простые, обыденные, с виду даже малозначимые вещи: теплая одежда и белье, посуда для
еды и приготовления пищи, жалкие драгоценности, конечно, да самое заветное – альбом
семейных фотографий…
И вот тогда, сынок, мне, тридцатилетней женщине, вдруг раз и навсегда открылась
истина, определившая на всю дальнейшую жизнь мое отношение к вещам. Да, они нужны, другой раз, даже очень… Многие вещи облегчают нам жизнь, другие – радуют глаз, третьи – делают наш быт комфортней и уютней.
Но поверь: главное, без чего прожить нельзя, это то, что можно унести с собой, уложив в один не очень тяжелый чемодан…
Я сегодня увидела, с какой гордостью ты разворачиваешь второй, привезенный в
течение месяца ковер, и очень за тебя испугалась. И подумала, что ты обязательно должен
узнать, как мы уезжали в эвакуацию…
Мне тогда было стыдно и почему-то обидно, но урок этот пригодился: помог
выздороветь в самом начале болезни, имя которой – стяжательство, симптомы –
неутолимая жажда обладания, последствия – все, что угодно, вплоть до тюрьмы. Плюс
непременная деградация личности.
А что бы хотелось приобрести тебе сегодня, читатель?
6
Пройдет время, и я в этом плане сделаю свой вывод: видение любых вещей зависит
от того, с какой точки зрения на них смотреть. Если снизу – это одно, если с
господствующих высот духа – совсем другое. Есть, правда, и общее: все они, как правило, стоят значительно меньше того, чего они стоят…
В те годы, когда я получал среднее образование, проходила очередная реформа
просвещения, и мне – без малейшего на то желания! – довелось поучиться в шести разных
учебных заведениях. Мой класс переводили из школы в школу, и я послушно кочевал
вместе со всеми, пока не вырвался из этого порочного круга: устроился после восьмого
класса поближе к мамочке – разнорабочим консервного комбината и стал после работы
ходить на занятия в вечернюю школу рабочей молодежи. На семейном совете, правда, бабушка была категорически против:
– Боже мой, – причитала она, – неужели мы отдадим нашего мальчика к этим
хулиганам!
Но мамочка на этот раз поддержала меня, потому что в хрущевские времена
производственный стаж давал льготы для поступления в институт.
В общем, школу я окончил без особо впечатляющих результатов: ходить по
вечерам на танцы было значительно интереснее, чем сидеть в постылом классе.
В 1962 я поступил в Одесский холодильный институт, где опять-таки ничем
особым себя не проявил, кроме постоянных прогулов да шатания по Дерибасовской. Ведь
целью и смыслом моего существования тогда была не учеба, а загадочные существа
противоположного пола любой масти, калибра и упитанности. Все, что движется…
Здесь надо сказать, что со мной, очевидно, дурную шутку сыграли любвеобильные
отцовские гены: мой папочка по этой части был еще тот майстер, чем выгодно от меня
отличался, как мужчина, которого любят женщины, от того, кто безответно обожает их
сам…
Так что, если вы услышите о человеке, у которого большую часть жизни нижняя
половина тела руководила верхней – очень может быть, речь идет обо мне. Как говорится,
– нечего вспомнить, зато есть, что забыть!
Девушки девушками, но в Одесском холодильном в те времена было принято
заниматься столь важными делами в свободное от учебы время. А так как у меня
получалось наоборот, сей вуз решил со мной расстаться, причем, сделал это в такой
радикальной форме, что я и сам не заметил, как оказался в Погранвойсках СССР, в
Ленинаканском погранотряде.
После года службы на заставе был замечен и переведен в штаб отряда. Сначала –
старшим писарем-чертежником, затем, по чьей-то халатности, принял новейшую
кодировочную аппаратуру и был обучен работе на ней, не имея еще официального
допуска к государственным секретам. Стали оформлять его и растерялись: одесское
прошлое, мягко говоря, не безупречно (исключение из комсомола и института!), да к тому
же пятая графа…
Но новый кодировщик уже полным ходом работает на совершенно секретной
аппаратуре под названием «Фиалка», тихо напевая профессиональный шлягер:
«…лепестки фиалок опадают, словно хлопья снега на ковер, о минувших днях
напоминают, наш с тобой последний разговор…»
Предпринимать что-нибудь было поздно, бравые особисты плюнули и… оформили
допуск. А я случайно подслушал обрывок разговора майора-контрразведчика из
секретного восьмого отдела с командиром отряда. Он шел на столь повышенных тонах, что и в приемной было отчетливо слышно:
– Да вы с этим Бронштейном просто ох@ели! Единственный жид в погранвойсках
СССР – и того шифровальщиком поставили! Сбежит же падла – и правильно сделает!
На что полковник обреченно бубнил:
7
– Ну, в виде исключения… в виде исключения… способный парень… евреи ж тоже
люди…
Служил нормально, был принят в партию, гордился этим. Работа в штабе имела
свои маленькие преимущества. Получил доступ к гербовой печати части и как-то, желая
порадовать мамочку, написал ей на служебном бланке от имени командира погранотряда
благодарственное письмо за воспитание сына: «прекрасного советского человека, стойкого воина, являющегося примером для товарищей, командиров (?) и подчиненных».
Легко нанес чужую подпись, шлепнул печать и отправил домой почтой – ликуй, родная! А через пару недель со мной случилось единственное за все время службы чудо: поощрительный десятидневный отпуск с поездкой на родину.
Счастья полные штаны, приезжаю домой, внимаю маминым восторгам, умиротворен и расслаблен, и вдруг:
– Какой же молодец твой командир, сынок! Получила я от него такое чудное
письмо, читала всем на работе, наш комбинат тобой прямо гордится! И знаешь, я так
воодушевилась, что и сама написала ему теплый ответ: поблагодарила за внимание к
солдатам и их родителям, немножко рассказала, каким ты был в детстве, и даже вложила
вырезку из комбинатской газеты с текстом его благодарственного письма… Пусть
человеку тоже будет приятно!
Я сидел, ошеломленный, и тупо молчал.
– Мама, мамочка, что ж ты наделала, родная, – билось у меня в голове, – что же теперь
со мной будет, когда командир получит ответ на письмо, которое он не посылал?..
Нетрудно представить, что это был за отпуск и с каким настроением возвращался я
в часть. И, кажется, напрасно. Командир, расспрашивая, как я съездил домой, ничем не
показал, что ему известна моя проделка. Я даже подумал, что, возможно, мамин ответ, к
счастью, затерялся на длинном пути из Украины в Армению. И только в конце разговора
Борис Алексеевич, глядя мне прямо в глаза, доброжелательно заметил, что вполне
доволен моей службой и считает, что пришла пора послать моей маме благодарственное
письмо.
– Напиши его сам,– сказал он,– и дашь мне завтра на подпись.
А так как я, не поднимая глаз, подавленно молчал, веско добавил:
– Разве твоя мама не заслужила настоящей благодарности?
Вообще, оглядываясь назад, честно скажу, что мне очень везло в жизни на
порядочных людей. С тем же командиром моего погранотряда связана еще одна хорошо
запомнившаяся мне история.
Как-то уж так получилось, что мы с ним, несмотря на разницу в возрасте и
положении, по-человечески близко сошлись. Он долго приглядывался ко мне, потом стал
давать разные доверительные поручения, несопоставимые с моим служебным статусом.
Так, на третьем году службы я писал для своего полковника разные выступления и
доклады. Ему нравился мой слог, хорошо совпадавший с его речевым ритмом. Однажды
мне было поручено подготовить материал для выступления на активе Закавказского
военного округа о роли офицера в подъеме уровня боеготовности своей части или
подразделения. Я все выполнил, он прочитал, был очень доволен, с тем и уехал на
совещание в Тбилиси. А когда вернулся в отряд, буквально, сиял.
– Ну и молодец ты, Бронштейн,– гудел он своим командирским басом,– голова у
тебя варит нормально, мое выступление отметил сам начальник политуправления.
Попросил при всех, чтоб я повторил эпиграф к своему докладу и даже записал его себе в
блокнотик. Поблагодарил меня за отменное знание трудов полководца Суворова и
предложил другим тоже внимательно изучать тексты наших военных классиков.
С этими словами, командир вынул из кожаной планшетки папку с докладом и
любовно отложил в сторону первый листок.
8
– И как ты умудрился раскопать это в «Науке побеждать», – произнес он, и с
удовольствием прочитал:
– «Хороший офицер мне даст хорошего солдата, хороший солдат – даст нам победу!»
Я молча стоял у его стола, и у меня внутри все похолодело. А командир, желая мне
сделать приятное, вынул из кармана кителя нераспечатанную пачку моих любимых
сигарет «БТ» и щедрым жестом швырнул по гладкой поверхности стола в моем
направлении.
Неловко улыбаясь, я поблагодарил его, взял сигареты и повернулся, чтобы идти.
Но не выдержал и все-таки – будь что будет! – решился сказать:
– А вы уверены, товарищ полковник, что это – Суворов?
На лице командира сначала отразилось легкое недоумение, затем его стал заливать
густой бурый оттенок:
– Ты, ты, ты – что? – вмиг пересохшим голосом воскликнул он, – да ты понимаешь, что натворил?! Этот же генерал будет теперь, сука, долбать меня к месту и не к месту…
пока не…
Между прочим, насколько мне известно, все обошлось. Слава Богу, советские
офицеры всегда предпочитали Суворову труды других авторов. Что поделаешь, устарел. А
мне умение писать чеканные фразы в стиле и за подписью мировых знаменитостей еще не
раз пригодится. И, как сказал однажды близкий мне человек, они, великие, могли бы
гордиться написанным мною …
После службы в армии закончил Херсонский пединститут, получил диплом



