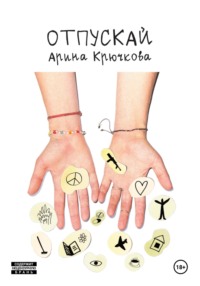Полная версия
На дне моего океана
У меня внутри тоже немного теплеет. Если уж одно моё самое обычное, самое человеческое прикосновение так ему помогло, значит, я и правда на многое способен. Я его обязательно спасу и вытяну с этого дна.
Нахожу лифт, заказываю дорогу в Рай, только поднявшись, спешу сразу в магазин с художественными принадлежностями – купить всё для создания настоящей, законной панацеи своему подопечному.
Держись, Кит. Совсем скоро я тебе помогу.
Четвертая. К.
Голосом разума явился вдруг зазвонивший телефон, точнее – звучавшая в нём староста группы, Лена. Поправ законы природы, или что там отвечает за технику, мобильник вышел из режима блокировки и откровенно восстал из мёртвых, потому что если кто и мог пролежать без подзарядки полторы недели и не окочуриться, то точно не его айфон. Только факт остаётся фактом: из очередного не то оцепенения, не то сна Кита выдернула вибрация звонка.
Сначала не хотел подходить, конечно. Но телефон любезно вывел в верхней части экрана количество пропущенных, перевалившее за четыре сотни. И за них тут же образовалось чувство вины (точнее, те жалкие остатки чувства вины, которые удалось наскрести после визита Димки). Кит взял трубку и бесцветным, осипшим от количества выкуренных сигарет голосом выдавил жалкое «Алло?»
– Никита! Слава богу! Живой! – воскликнули на том конце, тут же себя одёрнули и приготовились выдать гневную тираду: – Ты где, чёрт тебя дери, пропадаешь?! Ты вообще в своём уме?! Мы тут все… Тебя уже и в учебной части искали… Я даже прикрывать уже не прикрываю, потому что ты, зараза, не предупредил, не позвонил и не написал! Идиот! Да я сама же первая попёрла туда на тебя доносить, чтобы только помогли разыскать… Витя к тебе домой ездил! Там никого не было, ну или ты не открывал, не знаю, но окна, говорит, не горели. Что это такое было?! И вот теперь ты запросто так мне – «алло»?!
Кит болезненно морщился, выслушивая эту тираду. Трубку предусмотрительно отодвинул от уха. Наверное, Лена права, и ему в любом случае стоило вставить мозги на место. А уж если учитывать, что у них в последние пару месяцев начинало что-то закручиваться, что-то более серьёзное, чем у него когда-либо до этого было…
Истерический не-диалог-но-всё-же Лены наконец кончился, и Кит выдохнул тяжело, как после удара в рёбра (он теперь знал, как бывает после удара в рёбра). Придётся отвечать. А этого он хотел меньше всего на свете.
Он уже очень давно – а может быть, даже никогда – не чувствовал себя таким беззащитным и маленьким, как в эти дни. Мама растила его мужчиной. Мама ни разу не пыталась сделать вид, что у него тоже есть папа, просто он «улетел на луну» или «уехал в длительную командировку в параллельный мир, куда не дозвонишься». И даже легенд про то, что его папа – моряк дальнего плаванья, уплывший, разбив маме сердце, или что он сидит в тюрьме за тяжёлое преступление, которое мама не могла ему простить, она не придумывала. Просто – у тебя нет папы. И когда дозрел до вопроса: «А почему?» – честно ответила: так бывает, что взрослые сходятся без любви, а потом так же расходятся, даже телефонами не обменявшись на случай внезапного «тут такое дело, у нас будет ребёнок». А может, как раз во избежание этого случая.
И никогда не спрашивал у мамы, почему она не любила того, кто мог бы быть его папой; почему ни разу так никого домой и не привела; в конце-то концов, не было ли у неё какого-нибудь постоянного любовника в её путешествиях. И так знал: не было. Она вообще никогда дважды в одно место не путешествовала. И неизменно летала одна.
Теперь чувствовал своё не то чтобы равнодушие, а просто нелюбопытство глупой ошибкой, одной из тех мелочей, которые разрушили мир. Даже поговорить о маме Киту было не с кем. Может, можно было бы позвонить Димке: давно не общались, ну и пусть – Димка был маминым другом, самым настоящим, таким же, каким для Никиты. Но Димка, очевидно, не был готов о маме поговорить.
О чувствах лучшего друга Кит никогда не догадывался. Не догадался и после истерики с избиением, которую тот закатил несколько дней назад. Наверное, просто не мог предположить, что названный брат любит их (почти, немножко, но) общую маму не так, как названному брату положено. Димка и сам догадался много позже, чем влюбился, чего уж там.
Сердечные дела матери проходили мимо Кита. Он был взрослым с детсадовского возраста – во всяком случае, так ему казалось и так уверяла мама. Но вот теперь, именно теперь, в без малого двадцать лет он внезапно стал ребёнком, малышом, младенцем, ничего о жизни не знающим, катастрофически к ней неготовым и одиноким. Неповторимо, необратимо, невыносимо одиноким. Таким одиноким, каким вообще-то быть нельзя, жить нельзя. Но приходится. Выбора ему никто не даёт.
Кит снова погрузился в пучину отчаяния, из которой его на долю секунды выдернул такой невозможный, но почему-то всё же случившийся телефонный звонок. Он не мог бы сказать, сколько провисело молчание: несколько секунд или минут, кто знает, сколько Лена готова была ждать? Но в какой-то момент она не выдержала и сурово рявкнула в трубку:
– Никита, твою мать! Можешь ты мне ответить уже или нет?!
И Кит, сам того от себя не ожидавший, не пустивший ни одной слезы с тех пор, как ему позвонили из аэропорта, разрыдался. Вот так вот с ходу, без прелюдий, отвратительным детским ором с прихлюпыванием, который многих отвадил от мысли заводить детей, разрыдался. Его как лавиной накрыло, и он рыдал, рыдал, рыдал; рыдал ещё сильнее от неловкого молчания в трубке, от тихого: «Никита? Ты чего? Никиточка? Что с тобой случилось?» – и от того, что звонок вдруг оборвался, телефон выдал пару долгих гудков и выключился.
А он сам не выключался, продолжал рыдать, совершенно себя не контролируя. Слёзы должны были давно кончиться, а он всё рыдал – не зря копил их всю жизнь. И двух слов сейчас не мог бы связать, развозил только руками по лицу слёзы и слюни, тёр глаза так, словно пытался вытереть их из орбит. Бился в истерике изо всех сил.
И чувство времени совсем потерял за эти полторы недели, не различал день и ночь, тянул всё как жвачку, как один долгий день, потому что очнуться с мыслью о том, что мамы больше нет, ещё можно было, проснуться – точно нет. Поэтому удивился бы, если бы мог, внезапному звонку в дверь, а так – просто тупо ждал, когда назойливый звук прекратится, не понимая, откуда он вообще взялся.
Но звук не прекращался, а Кит потихонечку допирал. Встал, наконец, разбудив этим несложным движением адскую боль во всём теле, подошёл, автоматически-вежливо брякнул дежурное: «кто там?» – не дожидаясь ответа, открыл. На пороге стояла Лена. Перепуганная ещё до того, как распахнулась дверь, а теперь вообще едва не чокнувшаяся. Во-первых, говоря по правде, не ждала, что дверь всё-таки откроется. Во-вторых, Кит представлял собой не просто жалкое, но – ужасающе жалкое зрелище.
Весь красный и мокрый, натурально с головы до ног мокрый от слёз и всё ещё трясущийся в недовыплаканном рыдании, грязный, избитый. У Лены не получилось даже спросить, что с ним. Она вошла резко в квартиру, повинуясь нечеловеческому желанию влепить ему со всего размаху пощёчину за то, что так нервы вымотал, но сдержалась, поразившись самой себе. Никита сейчас – последний на всём белом свете, кого нормальный человек захотел бы ударить. Он же, наверное, от этого схлопнется в ничего.
Но в квартиру всё равно уже вошла. И вместо того, чтобы с размаху влепить пощёчину, влепила объятие. Самое крепкое, какое только было. Он не ответил, но уткнулся сверху вниз носом в плечо, в холодный с мороза пуховик, и сотрясал её, как прибой. Лена, хлопая его по спине, осторожно отвела на кухню – слушался, как миленький. Усадила на стул. Снимая прямо тут пуховик, подумала о том, как неистово накурено, сколько по столу разбросано пачек, початых и непочатых, окурков и зажигалок. Господи, он же не курил никогда, очень яростно не курил!
Машинально включила чайник, принимаясь хозяйничать на его кухне, как на родной. Хотя на конкретно этой чужой кухне не хозяйничала ни разу, да и была-то всего раз шесть. Мама Никиты очень, очень вкусно готовит – так вкусно, что даже подойти и спросить рецепт стесняешься. Потому что у магии нет рецепта, у неё только огромный талант и непостижимое для простых смертных искусство звонко и чисто щёлкать пальцами.
Заварила на двоих чаю, смела со стола мусор, села и наконец снова спросила, что случилось. К счастью, на этот раз без «твоих матерей» и прочей ругани – когда всё по-настоящему серьёзно, как раз не до ругани становится.
И Киту, который думал, что ему теперь придётся самому умереть с этой невысказанной не-тайной, потому что высказать её некому, вынужден был что-то ответить. От тяжести задачи даже рыдать перестал, зажмурился всем телом – сжался, закусил до крови губы – просидел так пару минут и выдохнул:
– Её больше нет.
Непонимающее молчание; в глазах Лены промелькнул и сгинул маленький, неспелый такой страх. Вторая попытка:
– Мамы. Моей. Моей мамы больше нет.
И всё. И всё, и ничего больше, вот так вот, в четырёх словах, а внутри – океан, вселенная, целая вечность пустоты, и эти четыре слова она засасывает и теряет в одночасье, моментально. Так же, как засосала и потеряла маму. Мамы нет больше; даже слов об этом больше нет; только невнятная, неопределённая, бессмысленно-болючая память.
Но Киту теперь кажется, что любых слов мало. И он выжимает из себя ещё – только чтобы не молчать, спасибо, намолчался:
– Самолёт из Исландии. Разбился. Она на нём домой летела.
Лена ищет, что сказать, никогда прежде ничего не говорила, не было таких ситуаций, а он продолжает:
– За чемоданом я не поехал. И опять не поехал. И телефон выключил, чтобы не звонили. А они курьера прислали – мешался, наверное. Но я и курьера не впустил. Он уехал. С чемоданом.
Всё, высказался, слова закончились. Осталось ещё одно виноватое признание:
– Я его не открыл бы. Не могу. Не смогу.
– Никита, если я могу чем-то помочь… Да ну, к чёрту, тут ты себе только сам поможешь, и то… вряд ли. Короче, если что-то нужно, я всегда могу…
– Не нужно. Спасибо, – ответил Кит, и на этом его лимит исчерпался. Несколько минут назад он, сам того не понимая, обрадовался приходу Лены, тому, что он хотя бы не один больше. Теперь, после этих её слов, ему стало в тысячу раз тяжелее. Он прекрасно осознавал и раньше, что никто ему не поможет. И что если вытягиваться со дна, то делать это самому. Но он ещё не был готов никуда себя вытягивать. Ему нужно было ещё время, не важно, сколько, просто больше времени на эту чёртову пустоту.
Пустоту, в которую так хочется шагнуть самому. Чтобы не страдать. Чтобы просто не-быть, на то оно ведь и небытие, чтобы не чувствовать в нём боли. Потому что его ведь всё равно в «здесь», в «сейчас» больше нет – его не стало тоже. Не в тот же момент, но когда позвонили из аэропорта. «Человекоподобных останков нет».
Кит больше ничего не сказал, он был глубоко внутри себя. Но всем своим видом он так люто ненавидел Лену, так хотел, чтобы она ушла и никогда больше не появлялась, что ей стало сумасшедше не по себе. Она понимала, что нельзя сменить тему там, где весь воздух – эта тема. Но она встала, чтобы делать что-то ещё, только бы на Никиту не смотреть. Он сам выглядел сейчас куда хуже мёртвого.
В отличие от всего остального в этой квартире, посуда идеально чистая. Ничего съедобного ни на столе, ни на плите, ни возле неё. Лена открыла холодильник, но там тоже было пусто.
– Ты сегодня ел? – молчание.
– А вчера?
– …
– Ты когда вообще ел в последний раз? – молчание снова. Пооткрывав все ящики, Лена нашла пачку каких-то макарон, поставила вариться. Минуты четыре прошли в полной тишине, она почти забыла вопрос, но Никита вдруг на него ответил:
– Я не помню.
Ещё через несколько минут тишины Лена поставила перед ним тарелку макарон. Он посмотрел пустым взглядом, отвернулся, не притрагиваясь к еде. С неестественной, лживой сердитостью, будто бы пытаясь взять его на слабо, девушка спросила:
– Мне тебя что, кормить с ложки, как маленького?
Но на слабо Кит не брался – был, получается, слишком для этого слаб. Да и чувствовал он себя сейчас именно этим маленьким, которого надо кормить с ложки, поить из стаканчика с намертво прикрученной соской (обязательно ведь уронит, не хотелось бы потом вытирать), умывать фартучком. Лена – а что поделать? – взяла действительно ложку в руку, повернула за подбородок к себе голову одногруппника, поднесла макароны ему ко рту. Спасибо хоть, Никита его открыл.
Начал жевать.
Когда Лена отстала от него с этими своими макаронами, пододвинула чашку уже остывшего чая и принялась мыть тарелку, он снова заговорил, с трудом выбираясь из пучины своей пустоты, продираясь сквозь неё:
– Я думал, я давно уже взрослый. Но я – нет. Я был к такому совершенно не готов. Пока не пришёл Димка, я её ненавидел за то, что она со мной так. Будто бы она нарочно. Назло мне: умерла и бросила. Не знаю только, за что. Мы не ссорились, ничего, просто взяла и умерла, начала первая, вот с такого вот бессовестного поступка, и вдвойне бессовестного потому, что не отыграешься. Даже если умереть в ответ тоже, ей уже всё равно. Ты взвесь только: я умру, а моей маме, моей любимой маме, будет всё равно. Я умру, а она ничего не почувствует по этому поводу. Вот за это я её и ненавидел.
Но потом пришёл Димка, и в его глазах, получается, я во всём виноват. Почему? Почему? Кто его разберёт? Пришёл, наорал, что мама умерла из-за меня. И точно так же ушёл. Дверь, кстати, не закрыл, а тебе я открывал почему-то… Когда вставал, зачем? Не помню. Могли ведь и ограбить прийти, а впрочем, ну его, наплевать. Ограбили бы, убили…
Когда Димка ушёл, я понял, что и правда я виноват. Я ведь мог маму попросить не улетать. Или не лететь в Исландию. Что там вообще делать, в этой Исландии? Там кроме вулкана вообще что-то есть? Мало ли где есть вулканы! Если бы не послушалась, я мог бы поднять голос, приказать, потребовать, я же мужчина в доме, прежде ни разу не пробовал, даже в детстве, даже подростком, но всё когда-то бывает в первый раз – послушалась бы, заставил бы послушаться… Но я ничего не сделал.
Я не знал, что так будет, не думал, не предчувствовал, но так разве это – оправдание? Был бы хорошим сыном – почувствовал бы. И остановил. И ничего страшного не случилось бы. Она бы вернулась откуда-нибудь: из Перу, например, она тысячу лет не была в Перу – и мы бы пили потом с ней вместе что-нибудь лимское… лимийское… какую-нибудь виноградную водку… Но я не почувствовал. И всё. И переиграть не смогу, второй попытки не будет, финита ля… ля… ля вида, финита, всё! – дыхание Кита участилось, он готов был вот-вот разрыдаться вновь.
– Это у тебя от Димки? – спросила Лена, махнув полотенцем Киту в лицо, чтобы обозначить синяки.
– Да.
– Аптечка дома есть?
– Не знаю, наверное, может быть. В холодильнике посмотри. Или вот тут, в буфете.
Лена открыла буфет, вытащила оттуда несколько корзинок и косметичек, просмотрела по очереди все. Что-то всё же нашла, вспомнила, что однажды, на первом курсе ещё, она оставалась у Кита на ночь – они несколько суток без остановок готовились к своей первой сессии – и его мама показывала ей, что и где лежит: шампунь, гель для душа, зубная паста, мицелярная вода, вата. Пошла в ванную за ватой – и почему только такие ненужные мелочи держатся в памяти, а из тех билетов она уже не слова не вспомнит, включая название предмета? – вернулась, принялась лечить. Совсем как маленький – чувствовала себя воспитательницей младшей группы детского сада.
– Холодильник у тебя пустой, как в первый час после покупки. Лучше?
– Лучше. Но у меня ещё ребро.
– Какое ребро?
– Болит. Ребро, – Кит осторожно, будто бы впервые имел дело с этим телом, пощупал свой бок слева – и тут же поморщился. – Вот тут.
Лена покачала головой: что там может быть с ребром? На её памяти рёбра только ломались, а с этим она не помощник. Это она даже диагностировать вряд ли сможет.
– Можно? – поднесла руку к тому месту, где ему стало больно. Никита кивнул, она осторожно нажала, прощупала по всему ребру.
– Наверное, трещины нет. Ты знаешь, что? Можешь считать меня демоном, бессовестно ворвавшимся в твоё личное пространство, но вставай-ка и иди в ванную. Чистую одежду я тебе найду и принесу. Не закрывай дверь, просто зашторься – оставлю на коврике. Я пока в магазин схожу, хорошо? А то у тебя тут макарон хватит максимум ещё на один раз. В общем, включайся давай, нам без тебя никак.
Добавила зачем-то это «нам без тебя никак». Честнее было бы сказать: «мне». Хотя и «мне», конечно, было бы сомнительное. Никогда бы раньше не подумала, что Никита – такое незаменимое существо, но вот, чуть не потеряли, попрощались уже с ним, набоявшись. Оказалось, что без него если и «как», то с большой натяжкой. Выходит, не соврала.
Почти что подняла парня на руки, почти что сама дотащила его до ванной, прислонила к стеночке – пусть стоит там.
– Сейчас вернусь с одеждой – проконтролирую. Потом из магазина вернусь и проконтролирую ещё раз. Дерзай! – строго сказала Лена и ушла к Никите в комнату, искать, что можно ему притащить. Минут через семь, когда принесла свежие вещи и полотенце, из ванной слышался шум воды. Уже что-то. Как и обещала, открыла дверь, оставила всё на коврике, собралась и ушла за продуктами.
Кит стоял в ванной в носках, которые забыл снять, лил ледяную воду и медленно-медленно приходил в себя. Сначала его вся эта Ленина суета злила: какой в ней толк, когда больше нет смысла ни в еде, ни в чае, ни в чём ещё? Потом живот отозвался несильной и немного приятной болью на макароны – надо же, не думал, что его ещё будут кормить. Как вообще не окочурился за всё это время от голода? Чудеса организма в отчаянии, магия, которая всегда рядом. Под конец от заботы старосты стало лучше, будто бы очнулся от тяжёлого сна: очнулся, а ещё не проснулся, но обратно проваливаться пока не тянет: если поторопиться, кошмар вернётся.
Через двадцать минут встретил Лену в чистом, с мокрой головой, с уже не дежурным, а искренним: «Спасибо тебе».
Поставили ещё чаю. С вопросами она больше не лезла, но была рядом до самого вечера, следила, чтобы Кит функционировал. Он подыгрывал изо всех сил, старался сам включиться в суету, но как только это стало возможным, Лену выпроводил. Напоследок она сказала:
– На эту неделю я тебя отмажу, но чтобы с понедельника был на парах. Иначе я прямо сюда учебную часть привезу.
Вышла. Кит посмотрел в телефоне, который она предусмотрительно зарядила: сейчас был четверг. Очень мало времени, чтобы снова стать человеком, когда так не хочется и так не можется. Не доползая до кухни, сел на пол, расслабился, готовый снова чувствовать со всех сторон сознания невыносимую боль. Но боль целиком больше не шла.
Пятая. К.
Если бы Кит и хотел забыть о том, что сегодня понедельник, он бы не смог. Два дня его никто не трогал, но с утра воскресенья посыпались сообщения от Лены. Девушка взялась опекать его, а всё, что ему было нужно – это одиночество и возможность упиваться своим горем до тех пор, пока горе не выпьет его.
И всё же он заставил себя встать в восемь утра, заварить кипятком пакетик с безвкусным геркулесом (с десяток таких Лена притащила ему из магазина вместе с другой «быстрой» едой, в расчёте, видимо, на то, что готовить он себе ничего не будет – в совершенно верном расчёте), принять душ и одеться. После этого понадобилось полчаса перерыва, полчаса одной-за-одной сигарет, потому что притворяться нормальным человеком невыносимо сложно, когда в тебе от человека осталась только смертная тоска.
Кит мог бы уговаривать себя фразами в стиле: «мама хотела бы, чтобы я продолжал жить дальше» и «мама не простила бы, если бы я из-за неё от голода сдох» – но это была не очень-то правда. Конечно, мама его любила, любила больше всех на свете – ни для кого это не тайна. Но мама не собиралась умирать, вообще никогда о смерти не думала, мама – она живее всех живых, живее самого Кита, она – олицетворение «carpe diem»1. Так что она не могла строить предположения о том, что будет с ним, если вдруг её не станет.
Мама должна была быть всегда.
И в глубине души Кит до сих пор верил в то, что не «должна была», а «есть». Ему ведь не сказали, что её больше нет. И гроб хоронили пустым. А вот это вот их «человекоподобных останков нет»… мало ли, какую чудовищную ошибку они могли допустить. Они просто не нашли маму. Мама просто встала и ушла, совершенно живая, и однажды она придёт домой.
«Не придёт», – жестоко одёрнул себя Кит, до чёрных хлопьев вдавливая пальцами глаза внутрь черепной коробки. Только бы ничего не видеть.
Мама не верила в бога, но верила в ангелов-хранителей. И хотя сам Кит отрицал любую религиозную чушь, он подумал: что, если съездить в церковь, задобрить свечкой, или как там принято, её духа-хранителя, передать через него просьбу о прощении? Если мама в это верила, может, ради неё такое чудо и случилось бы.
«Бред, бред, бред», – металось в голове у человека, который совсем коньками ехал от горя и от спёртого воздуха, насквозь пропитанного никотином. Уходя, он открыл на кухне окно, чтобы потом проверить: пожелтел потолок? Что-нибудь вообще изменилось, был в этом какой-то смысл?
Кит сел в метро. К первой паре он совсем уже опаздывал, ко второй было ещё слишком рано, и он промотался несколько лишних кругов по кольцу, заткнув уши, надвинув низко-низко шапку. Присутствие людей, да ещё в таком количестве, приводило его в паническое состояние; уйти от людей тоже было страшно – своими сердитыми от спешки, противными рожами они напоминали о том, что в мире есть что-то кроме смерти мамы.
(Хотя какая разница, что есть в мире, когда её больше нет?)
Не глядя ни на кого, Кит чувствовал, как люди избегают его. Место рядом неизменно оставалось пустым, вокруг не было толпы, хотя на часах десять с небольшим: обычно в это время в метро всё ещё полно народу.
Даже почувствовал облегчение, когда кто-то занял соседнее сидение, с трудом, наверное, поместился, потому что всем телом прижался, и если бы только можно было втиснуться в поручни сильнее, Кит обязательно втиснулся бы. На какое-то время ненавистное и в то же время такое необходимое незнакомое, чужое человеческое существо отвлекло его обозлённые до предела мысли, и от этого паника накатила с новой силой. Он почувствовал, что начал задыхаться, и на следующей станции вскочил с места, чтобы выбежать наверх, на морозный воздух, к солнцу, которое в подземелье метро вдруг снова оказалось нужным.
Уже на эскалаторе кто-то, кто стоял на ступеньку ниже, одёрнул Кита за край пальто. Оглянулся, и какая-то девчонка с вдохновенным выражением лица протараторила, торопясь:
– Она тебя обязательно простит! – и отвернулась в смущении, делая вид, что ничего не говорила сейчас. Кит отвернулся тоже, прогоняя девчонку из своей головы и одновременно пытаясь успокоить дыхание. Соседство с ней было почему-то невыносимым, и, если бы у него на это хватило воздуха, он бы спешно поднялся по левой стороне эскалатора; но ему приходилось просто игнорировать её присутствие.
Уже на улице девчонка снова его догнала. Чокнутая какая-то, нашла, к кому привязаться:
– Ты с девушкой поссорился, да? Ничего, обязательно всё наладится. Выше…
– Отвяжись.
– Что?
– Пожалуйста, отвяжись!
– Да ладно тебе, ну у меня что, такого не было? Ты хороший, я вижу. Она тебя обязательно простит. Просто позвони ей вот прямо сейчас, ну или хоть напиши, – не унималась девчонка. Кит попытался ускорить шаг, но она резво бежала за ним следом, продолжая нести свою псевдожизнеутверждающую чепуху. Тогда он остановился, развернулся – она на него едва не налетела – и очень, очень сурово потребовал заткнуться.
– Я знаю, о чём говорю, – не слушая его и даже не обижаясь на грубый ответ отвечала девчонка.
– Ты не знаешь.
– Спорим?
– Нет у меня никакой девушки. У меня умерла мама.
Кит от себя не ожидал, что может вот так вот запросто это сказать, ещё и незнакомому человеку на улице, но теперь он снова шёл вперёд, и за ним больше никто не бежал. Он почувствовал какой-то извращённый триумф, злую радость от того, что своей бедой смог осадить человека. И что теперь он наконец-то один.
Впрочем, ненадолго: противно вибрируя, в кармане зазвонил телефон. Лена, конечно, кто же ещё?
– Алло?
– Никита, ты где?! Проспал? Или не пытался даже прийти?
– Я вышел из дома.
– И где ты?
– Какая тебе разница, а? Я вышел из дома, ты не этого разве хотела? – огрызнулся Кит, идя в наступление.
– Я хотела, чтобы ты явился в университет.
– Зачем? Никому нет дела до того, есть ли я в университете. Никто меня там не ждёт, да и было бы глупо ждать: расхотел получать образование – моё дело. Поэтому отвяжись и дай мне спокойно…