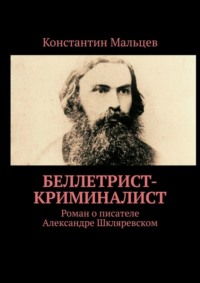Полная версия
Мимишка
– Мимишка, представляешь! – воскликнул он. – Написал-таки! Льховский-то наш – очерк о Сан-Франциско написал: лиха беда начало!
Хозяин, не присаживаясь, пробежал глазами оглавление, отыскивая, видимо, номер страницы, где начинался очерк Льховского, затем открыл журнал на ней. Так и не садясь, – хотя я подвинулась на диване, освобождая место рядом с собой, – он принялся за чтение.
С каждой прочитанной строчкой он менялся в лице. Улыбка медленно сползала с его уст, в глазах затухал блеск, на большом ровном лбу бороздой проступала хмурь, даже нос, как мне почудилось, разочарованно поник. Моему хозяину явно не по душе пришлась писанина Льховского, – я позволяю такое пренебрежительное словечко: писанина, – исходя как раз из огорченного выражения лица хозяина. Хотя сам он так не сказал, даже наедине с собой оставаясь мягкосердечным к своему молодому другу. Он высказался в снисходительном тоне:
– Что ж, неплохо: есть краски, есть слог. Но не этого я ждал, не этого. Он просто перепевает мою «Палладу», а местами и буквально повторяет. Эх, Иван Иваныч! Эпигон Эпигоныч ты, а не Иван Иваныч! – и столько грусти было в его словах.
Если бы я могла смеяться, я бы, несомненно, посмеялась над новым именем, что дал мой хозяин Льховскому. А потом мне, как и хозяину, стало невесело, но по иной причине. Если Льховский повторяет «Фрегат «Паллада», подумалось мне, то дело может дойти до того, что он и меня повторит: вставит в текст что-нибудь про собачку с живыми умными глазами, утащившую сапог. И природа, поддавшись силе вымысла, воспроизведет меня во второй раз, а следовательно, я потеряю свою исключительность. Вышеупомянутый внутренний свет, освещавший мою жизнь, на короткий срок подернулся тенью.
По счастью, мои опасения оказались напрасны. Льховский написал всего-навсего еще один очерк о своем кругосветном плавании – на этот раз о Сандвичевых островах. О собаках там не было ни слова. После этого он замолк и никаких других наблюдений о своем путешествии не оставил. А еще через несколько лет умер, но тут уж о счастье говорить не приходится: я уже обронила, что скорбела по Льховскому вместе с моим хозяином. Хороший это был человек, хотя и ленивый.
Глава вторая
Как мне купили ошейник
I
Имя моего хозяина – Иван Александрович Гончаров. Он – известный писатель, автор трех замечательных романов, ставших значительным явлением в русской литературе. Это не мои слова – это отзывы читающей публики. Первые два романа – «Обыкновенная история» и «Обломов» – писались до моего появления, и я об их содержании, об их достоинствах знаю только понаслышке, из уст друзей хозяина, а что касается третьего – «Обрыва», который в первоначальном замысле назывался «Художник», – то мне посчастливилось стать прямой свидетельницей процесса его создания.
Но, конечно, не это главное. Как для существа, зависимого от чужой воли, – а все комнатные собачки, хочешь не хочешь, именно таковы, – для меня важно было, что хозяин мой всегда был добр ко мне и души во мне не чаял. Да и как еще могло бы быть, если я, как выяснилось, – плод его вымысла, воплощенный в материальную действительность, то есть, в некотором роде – его чадо.
Сам Гончаров подобными выражениями не изъяснялся и ни словом не обмолвился, даже в шутку, что относится ко мне по-отечески, но после его откровенной беседы со Льховским, где выяснилась удивительная правда обо мне, ничто не мешало угадать в нем такой ход мыслей. К тому же это подтверждалось и его поступками.
Чего стоит – в прямом и переносном смысле – мой ошейник, который и сейчас на мне.
Чуть погодя после того, как я стала питомицей Гончарова, он однажды поднял меня в воздух и, весело мне подмигнув, сказал:
– Да ты разве собака?
Я к той поре уже освоилась у него, обжилась, стала понимать человеческую речь и познала значения всех обиходных слов, но к чувству юмора своего хозяина привыкнуть еще не успела, поэтому посмотрела на него с удивлением. Но через миг все стало ясно.
– Да какая же ты собака, – молвил он, – если на тебе ошейника нет?
Ну да, мысленно согласилась я, ошейника на мне действительно нет, тогда как собакам, как я уже была осведомлена на этот счет благодаря людским разговорам, он полагается. Если угодно, он придает нашей, собачьей, сущности завершенность: с ним собака окончательно становится собакой, это как последний штрих портрета. Впрочем, это уже ненужные философские дебри, куда нет никаких оснований залезать, благо хозяин отпустил свое замечание просто в шутку.
Имелась еще и самая обыденная причина, безо всякой метафизики заставившая его завести разговор об ошейнике: он не решался выводить меня гулять без такового, опасаясь, что я без привязи могу убежать, если он вдруг зазевается на улице, отвлекшись, допустим, на то, чтобы обменяться приветствиями со встретившимся на пути знакомым.
Он так и сказал однажды нашей прислуге – женщине по имени Елена:
– Мимишка, бедная, совсем измаялась, сидя в четырех стенах.
– Я могу с ней погулять! – предложила Елена.
Он замахал на нее руками.
– Что ты! Еще не доглядишь: сбежит от тебя. Я даже себе не доверяю.
Опасения эти, разумеется, не имели под собой совершенно никакой почвы, да и вовсе, позволю себе заметить, были противны здравому смыслу: ну, куда бы я сбежала? На тот дурно пахнущий, доступный всем ветрам пустырь, где я обрела физическую жизнь? Так, во-первых, я бы и дороги туда не нашла, а во-вторых, тут главный вопрос не куда, а откуда: я хотя и бессловесное животное, но благоразумием вполне обладаю, посему ни за что на свете я бы от Гончарова не сбежала! Ради чего мне добровольно бросать кров, где мне дарованы сытость, забота и ласка?
Но, увы, сказать об этом хозяину я не могла и из-за этого какое-то первоначальное время сидела безвылазно в квартире. Мое сообщение с внешним миром ограничивалось видом из окна: я тогда была юна, резва и легко взбиралась на подоконник, сначала прыгнув на кресло, что стояло подле окна, а потом вскарабкавшись по его спинке. Хозяин сквозь пальцы смотрел на эти мои шалости, даже подбадривал, заливаясь смехом:
– Ну-ка, ну-ка, экая плутовка: на пейзаж вздумала полюбоваться.
Любоваться, правда, было особенно нечем. Открывавшаяся картина ограничивалась рамкой двора, куда, собственно, и выходили окна квартиры Гончарова. Сараи, флигельки, там и сям – несколько чахлых деревцев. Иногда вид оживляла толстая баба в кацавейке, удивительно быстро для своего веса пересекавшая пространство двора, или степенный дворник в картузе выходил с метлой и размашистыми движениями разметал мусор в разные стороны. Еще воробьи, обязательные для городского пейзажа – повторю это громкое название следом за хозяином, тоже в ироническом ключе, – сновали в уныло-сером воздухе, летая по своим птичьим делам.
Но ни баба, ни дворник, ни воробьи не спасали положения: картина оставалась скучна. Ранняя весна мало балует глаз красками.
Да и к тому же я, сама того не желая, начинала задумываться, является ли тот, кто созерцает пейзаж, – в данном случае, разумеется, я, – невидимой частью пейзажа; будучи молода и неопытна в мудрствованиях, я не могла прийти к однозначному ответу. От этой неразрешимости у меня начинала болеть голова, и долго глядеть в окно из-за этой причины было невозможно. Я поспешно спрыгивала на кресло, а затем – на пол, при этом даже, кажется, поскуливая.
Гончаров же думал, что я, насмотревшись на двор, начинала тосковать по свежему воздуху, по тому, в конце концов, чтобы стать видимой частью дворового пейзажа. Так или иначе, а посмотрев на мои страдания, он решил приобрести для меня ошейник.
II
Мой хозяин тщательнейшим образом нарядился – он всегда уделял много внимания своей одежде – и сказал мне:
– Ну, пойдем.
Посадил меня за пазуху пальто, так, чтобы только мордочка выглядывала, и мы вышли на улицу.
– Елена, к вечеру буду! – крикнул он, захлопывая дверь.
И мы пошли вдоль нашей Моховой улицы, где снимали жилье в особняке Устинова. Я долго не была на открытом пространстве, и голова у меня слегка кружилась. Нос мерз, потому что по случаю затяжной весны воздух был сырой, холодный. Но все же мне было покойно на груди у моего хозяина, и я, перетерпев головокружение, с любопытством принялась озираться вокруг.
Я смотрела, как по мостовой проносятся лихие извозчики на дышащих паром грустных лошадях, как навстречу нам по тротуару идут степенные господа: перед некоторыми – знакомыми – Гончаров вежливо приподнимал шляпу; задирая голову, оглядывала здания.
Впрочем, больше мое внимание привлекали мои собратья – бродячие собаки. Хотя и разномастные все, в большинстве своем они были тощими, со впалыми животами, дрожали от холода и общей неустроенности и выглядели печально. Я взирала на них сверху вниз, с высоты своего тогдашнего положения, но вовсе не надменно, а с жалостью.
Хозяин моих чувств не разделял: он раздраженно чертыхался, если какой-нибудь пес пробегал слишком близко от нас. Заметно было, что такое соседство доставляет ему неудовольствие. Потом, как мне стало известно, он написал статью в газету «Голос», где поделился этим неудовольствием с читателями. Не самая благодарная, стоит признать, тема для приложения его дарования.
Наконец хозяин остановился у одного из зданий, сказал:
– Это здесь, – и открыл массивную дверь.
Мы очутились в какой-то лавке. Названия я ее так никогда и не узнала, хотя вывеска над ней была: читать собаки, как общеизвестно, не умеют. А что до того, что я способна связно мыслить и знакома со многими литературными произведениями, так на то я и писательская собака: присутствовала при многих литературных разговорах, чтениях и мотала на ус; а чего стоит чтение Гончаровым вслух отрывков романа «Художник» во время работы над ним.
(Тут я вынуждена осечься. Как же! Связно я мыслю! А сама тут же, в том же предложении, отвлеклась от хода повествования.)
Едва мы зашли в лавку, в нос мне ударил спертый запах, возвещавший о скученности многих жизней на одном малом месте. Так и было. Всюду там висели и стояли клетки с канарейками, щеглами и попугаями. В стеклянных аквариумах плавали золотые рыбки, – я сразу вспомнила сказку Пушкина, – еще были клетки с крысами, которых я, как и кошек, не любила. Невольно я зарычала.
– Тише, тише, Мимишка, – успокоил меня хозяин.
К нам подскочил приказчик с зализанными на пробор волосами и с угодливой улыбкой на лице. Странно, если в какой-нибудь книге, читанной при мне, и мелькала фигура приказчика, то он был непременно с зализанными волосами и с угодливой улыбкой. Я прежде думала, что это такая литературная традиция, но увидев приказчика вживую, убедилась, что выводимый литераторами образ соответствует действительности. Хотя – в свете того, что я узнала о своем происхождении из вымысла – тут же меня посетили и сомнения: а что если наоборот, и на деле действительность соответствует образу? Что-то часто меня стали мучить вопросы без ответов…
– Чего изволите-с, милостивый государь? – вывел меня из раздумий голос приказчика. От его волос пахло маслом.
– Вот на эту прекрасную даму хочу подобрать ошейник с поводком, – ответил Гончаров, имея в виду, разумеется, меня. Если бы это было возможно физически, я бы зарделась от удовольствия. Поэтому выражусь так: внутренне я зарделась от удовольствия.
– Сию минуту, милостивый государь, не угодно ли сюда пожаловать-с? – Приказчик подвел нас к прилавку, где лежали ошейники всех видов и размеров. – Все, что душе угодно-с!
Гончаров бережно вытянул меня из-за пазухи, поднес к ошейникам, чтобы я их разглядела.
– Какой тебе нравится? Выбирай!
Понятно, что это опять была игра, шутка. Каким бы жестом я могла выразить свое предпочтение? Вдобавок мне было решительно безразлично, какой ошейник обрел бы место на моей шее: этот кожаный, украшенный бисером, или тот серебряный, с блестящим колокольчиком.
Но хозяин уже указывал на приглянувшийся ему ошейник.
– Вот этот, – сказал он. – Золотой, с бархатом.
Угодливая улыбка приказчика тут же стала радостной. Видимо, это был дорогой товар.
Гончаров расплатился, с готовностью выложив названную сумму. На меня надели ошейник, прикрепили поводок, и лавку я покинула уже своим ходом, на своих четырех лапах, семеня рядом с хозяином, державшим поводок в руке и легкими, но твердыми движениями направлявшим меня.
Таким вот образом я окончательно, если так позволительно выразиться, стала настоящей собакой. Если же не позволительно и выглядит преувеличением, то чистая правда – это то, что с ошейником я стала чувствовать себя увереннее и даже выше, хотя с непривычки он тер мне шею.
Конечно, моему ошейнику далеко было до того, что носил некий Филу, любимый спаниель французского короля Луи XV: у Филу золотой ошейник был инкрустирован алмазами и стоил баснословно дорого. Но дело не в дороговизне или дешевизне, а в самом факте ошейника. Благодаря ему я с того момента была совершенно отлична от бродячих собак и ощущала это отличие всей душой.
III
На деле не такой уж значимый этот эпизод с ошейником, и вспоминать о нем подробно, вероятно, вовсе не стоило, достаточно было бы короткого упоминания, если бы не одно обстоятельство, если бы не одна встреча, что случилась, когда мы возвращались из лавки домой.
Мы шли по Невскому, кажется, проспекту: в названиях улиц, как и в вывесках, я не разбираюсь, – когда навстречу нам показался высокий статный господин с седой бородой и седыми же кудрями. Он шел медленно, поигрывая тростью. Гончаров тоже замедлил шаг и прошептал:
– Тургенев идет… Здороваться еще с этим проходимцем…
«А! – подумала я. – Тот самый автор „Муму“. Вот он какой!»
Носом я почуяла, что хозяин мой заволновался, и волнение было неприятного толка. На лице, однако, он изобразил приветливую улыбку, едва ли не такую, что мы видели сейчас на устах зализанного приказчика.
– Иван Сергеевич! – приветственно воскликнул он.
Они обменялись рукопожатием.
– Какими судьбами? – спрашивал Гончаров. – Давно ли из Франции? Приехали – и не известили!
Тургенев был очень высок, так что не только я, но и мой хозяин был вынужден смотреть на него снизу вверх. А голос у него оказался тонкий, писклявый, совсем не подходящий его гренадерскому росту.
– Да вот, любезный Иван Александрович, – тоненько пропел он, – позавчера прибыл в нашу Северную Пальмиру. Но послезавтра уже отъезжаю в Москву, а там в свое родное Спасское, поэтому и не стал беспокоить ни вас, ни кого-либо еще из старых друзей. Все равно не успели бы наговориться.
– Ну, все же несколько слов о себе будьте добры сказать: как вы там в далекой Франции? Не женились еще?
– Вы же знаете, что женщина, которую я люблю, замужем, – по лицу Тургенева пробежала грусть. – Поэтому от женитьбы я далек так же, как думаю, и вы.
– Ну, я закоренелый холостяк и предпочитаю одиночество: я другое дело.
– Одиночество одиночеством, а друга, смотрю, вы себе завели, – он кивнул на меня.
– Этот друг – всем друзьям друг. Никогда не предаст, ничего не сворует.
Тургенев нахмурился, нервно погладил свою красивую седую бороду.
– Вы опять за старое? Я полагал, мы выяснили все недоразумения между нами.
В воздухе запахло враждебностью, и в моем случае это являлось, разумеется, не аллегорией: если подыскать подобие, то этот запах был сродни запаху гари. Но Гончаров предпочел пойти на попятную: как выяснилось впоследствии, им двигало не миролюбие, а особый замысел.
– Что вы, Господь с вами: я ничего дурного не имею в виду. И не таю желания вас обидеть, даже и косвенно. А если и были у нас, как вы изволили выразиться, недоразумения, так они и в самом деле остались в прошлом. Что до воровства, то я вспомнил о нем безо всякого умысла. – И мой хозяин открыто и искренне посмотрел своими добрыми глазами, в ореоле морщинок, на высокого господина.
Тот примирительно сменил тему.
– Как поживает ваше золотое перо? Ходили слухи, что вы собирались было отложить его навеки в сторону и покончить с литературой…
– Мысли всякие порой нас посещают, – ответствовал Гончаров, – но бросить литературную деятельность я никогда не смогу. Я откровенно люблю литературу, и если бывал чем счастлив, так это своим призванием. Отказаться от него значило бы для меня добровольно отказаться от жизни, не больше и не меньше.
– Вы оказываете мне честь, так доверительно сообщая мне важные для вас вещи. Это убеждает, что все наши недоразумения и вправду позади.
– Не повторяйте так часто это слово, а то, не ровен час, накличете, – рассмеялся Гончаров.
Тургенев рассмеялся вслед за ним и даже подмигнул мне, что, как по мне, выглядело наигранно и неуместно. К тому же мне было противно то, как он пах: от него несло чужой кровью, кровью убитых животных. Потом я узнала, что это было неспроста: он страстно любил охоту.
– Это, – сказал Тургенев, – приятная новость, что вы остаетесь в литературе, приятная для всех почитателей вашего таланта, к коим я и себя, конечно, причисляю. Над чем же вы сейчас работаете?
Мой хозяин занервничал, на лице у него проступили пятна. Видно было, что вопрос, прозвучавший из уст его собеседника, оказался ему неприятен.
– Да так, – уклончиво пожал он плечами, – над незначительными пустяками. А роман мой стоит на месте.
Тургенев понял, что большего он не разузнает, и перевел разговор на другой предмет. Они еще побеседовали о сырой питерской погоде, о том, какова теперь погода за границей и в Орловской губернии, куда отправлялся на днях Тургенев, и какова она будет через месяц. Расстались они совершенными друзьями. По крайней мере, так казалось.
Но так не было на деле.
Распрощавшись с Тургеневым, Гончаров долго смотрел вслед его фигуре, возвышавшейся над другими прохожими, как будто он ехал верхом на лошади. А потом обратился ко мне:
– На вору и шапка горит. Ты заметила, Мимишка, как он переполошился, когда я ввернул про предательство и воровство. Я это нарочно сделал, чтобы посмотреть, как он себя поведет. А он и переполошился: шапка-то загорелась! Ну, а я посмотрел на него и отошел в сторону: что вы! я безо всякого умысла…
Он был страшно доволен собственной хитроумностью. Как будто он благодаря ей в чем-то, давно его терзавшем, бесповоротно убедился, что-то окончательно узнал. Но знание не принесло избавления от терзаний, а только усугубило их, разбередило душу; всю оставшуюся дорогу домой он бормотал о «проходимце» Тургеневе, а на лице его горели пятна, означавшие у него, как я уже успела понять, крайнюю степень взволнованности. Спрашивается, зачем нужна была эта его хитрость.
Иногда он что-то шептал одними губами, а иногда напрямую относился ко мне, словно прося участия. Я понимала, что с его стороны это риторический прием, и, говоря со мной, он говорил в действительности сам с собой. Но все же внимательно слушала, даже приподнимала уши, в особенности когда он называл мою кличку.
– Мимишка, – говорил он, – а ты обратила внимание, как он выпытывал у меня, над чем я сейчас тружусь. По-видимому, – да не по-видимому, а наверняка, – этот хитрый лис задумал опять нагреть руки на мне, на плодах моего умственного труда. С ним, Мимишка, ухо держать нужно востро. Как в другой раз его увидишь – куси! О проходимец! Грабитель!
Чтобы не напугать идущую впереди даму, мой хозяин на секундочку примолк; когда мы обогнали даму, он снова взялся за обличительный монолог, слушателями коего были только я и он сам. Многократно величал он Тургенева мошенником, татем в ночи, волком в овечьей шкуре и проч.
Долго Гончаров не мог успокоиться; придя в квартиру и отстегнув мой поводок, немедля лег на диван, даже не переодеваясь в домашнее, что было совсем не в его обыкновении. Когда вошла прислуга спросить, не угодно ли чего, он, обычно с ней вежливый, грубо и раздраженно сказал, чтобы не беспокоила его: у него-де голова разболелась.
Жалея хозяина, я вспрыгнула ему на живот и подластилась. Он тяжело вздохнул и погладил меня, рукавом задев за ошейник: ему он тоже был внове.
– Уж ты-то, милая моя Мимишка, меня не предашь, – сказал Гончаров.
И в этом не было никаких сомнений – ни у него, ни у меня, ни у самого Господа Бога, если таковой есть. Мой хозяин в него верует, собак же в излишней религиозности не заподозришь; но не об этом сейчас.
Глава третья
Как Гончарова обокрали
I
С тех самых пор Тургенев стал моим врагом: враг моего хозяина – мой враг. Я его и раньше, заочно не очень-то жаловала за то, что он утопил ни в чем не повинную собачку Муму, пусть и руками глухонемого дворника Герасима, а после того случайного свидания на улице и вовсе невзлюбила. Но кусить его при встрече, как в сердцах советовал Гончаров, я не собиралась: при моих незначительных размерах и незлобивой натуре я бы не смогла причинить ему большого вреда.
Мне оставалось только быть наблюдательницей, ежели Тургенев опять вдруг появится на горизонте. Но это, впрочем, было маловероятно: он, как я уразумела, жил за границей или в деревне, а в Петербурге бывал наездами и помалу.
Первоначально, кстати, имелась серьезная путаница в моем понимании причины, по которой Гончаров обвинял Тургенева в воровстве.
Из разговора Гончарова с Еленой, происходившего при мне: а все в квартире происходило при мне, – я выяснила, что задолго до меня и даже до Елены, при другом слуге, мужеского полу, в квартире Гончарова побывали воры.
Дело происходило на праздник. Гончаров ушел в гости и слугу тоже отпустил. Тот, не дурак выпить, – сразу в кабак. Там с Антоном – это было имя слуги – познакомились какие-то дюжие молодцы, так он их потом величал. Они опоили Антона водкой, вызнали у него, где он живет, вызвались проводить его, почти бессознательного, домой, то есть до Гончарова, там свалили его, как дрова, в угол и принялись обчищать квартиру. Вытащили все вещи из шкафчиков, ящичков и с полок, стали складывать все в принесенные ими чемоданы. Искали и деньги: они были надежно запрятаны меж листами рукописей романа «Обломов», – в ту пору Гончаров над «Обломовым» работал. Но денег разбойники не нашли, да и чемоданы свои, набитые имуществом Гончарова, бросили: были вспугнуты каким-то нежданным посетителем и сбежали через задний ход с пустыми руками.
– И что ты думаешь! – возмущался Гончаров, и Елена участливо покачивала головой. – Возвращаюсь я поздно вечером и обнаруживаю печальную картину. Антон лежит у себя на полу без чувств, с открытым ртом и открытыми глазами, видны только два белка, зрачки закатились под лоб. Прохожу в комнаты – и там вижу зрелище не менее унылое: полный разгром, все шкафы сдвинуты со своих мест, все ящики и дверцы раскрыты, в них пусто, а все вещи сложены в какие-то чемоданы, стоящие посредине комнаты. Хорошо хоть бумаги не тронули, а это самое ценное для меня.
Елена повздыхала.
– А все пьянство, пьянство, – сказала она.
Гончаров согласно кивнул.
– Князь Владимир Великий сказал: «Веселие Руси – есть пити!» – и это слово стало тяжкою вечною заповедью для русского народа! Зачем он не прибавил: «пити, но не упиватися!» Слава Богу, что ты не пьешь.
По дальнейшему рассказу моего хозяина, Антон, проспавшись, каялся и все время говорил: дюжие молодцы, здоровенные лбы… споили меня, барин… Хотя все и обошлось без убытка, Гончаров его, разумеется, выгнал.
К чему вся эта история? А к тому, что после той встречи с Тургеневым, увидев его рост и косую сажень в плечах и услышав от моего хозяина, что он – тать в ночи, я вспомнила о случае с Антоном. Сопоставив все факты и обстоятельства, я решила, что Тургенев – один из тех молодцов, что едва не ограбили квартиру Гончарова. А тот каким-то образом проведал об этом, отсюда и весь сыр-бор и вся вражда.
Теперь я осознаю, сколь нелеп был тот мой вывод, но нужно учесть, что я была тогда совсем молода и не знала жизни, особенно писательской. А именно в писательской, литературной плоскости лежала причина вражды. Прислушавшись к диалогам Гончарова с его гостями-литераторами, я ее узнала. И затрагивала она, причина эта, имущество куда как более ценное, нежели посуда и одежда или чем там набили чемоданы, да не вынесли лихие люди.
II
Тому же Льховскому, коему более всего был расположен доверять, Гончаров говорил:
– Вот вы недоумеваете, почему я обвиняю Тургенева в том, что тот не чист на руку, а ведь основания у меня на то имеются веские.
– Не сомневаюсь, вы их сейчас мне предъявите, – иронически усмехнулся Льховский, но Гончаров иронии не заметил или не подал виду, что заметил: Льховскому он многое прощал, даже на слабые его и бледные очерки о кругосветном плавании, попеняв ему единожды и посетовав, что не удались, закрыл впоследствии глаза и больше к ним не возвращался.