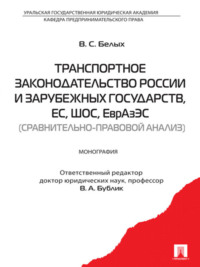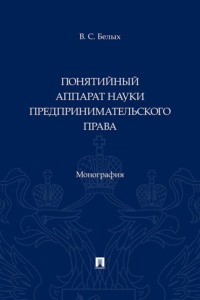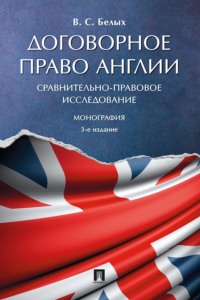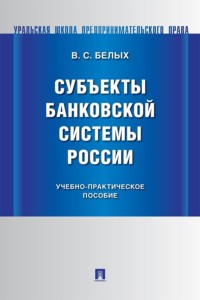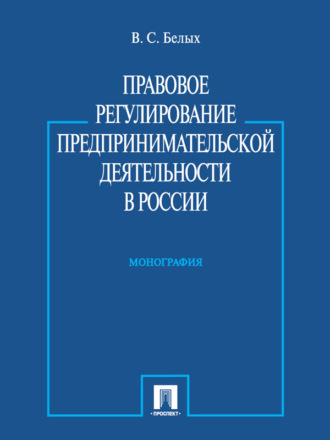
Полная версия
Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. Монография
Вторит ему и проф. Л. Б. Петражицкий, с точки зрения которого торговое право является идеалом практической жизни.
По мнению проф. Л. И. Каминки, торговое право – пионер новых идей; оно служит реформатором в сфере частно-правовых отношений, многие положения, рассчитанные на более развитые и энергичные классы населения, представляется возможным, по мере умственного и промышленного развития населения, распространить на всю область частно-правовых отношений. Отсюда, однако, далеко до уничтожения торгового права вообще[64]. Торговое право в значительной мере носит космополитический характер. Красиво сказано!
Известный русский ученый в области гражданского права проф. Г. Ф. Шершеневич писал: «В России не было исторических оснований к обособлению торгового права. В древней России не было разделения общества на сословия, которые во взаимной борьбе выдвинули бы свои привилегии. Напротив, русская история представляет единство всего гражданского общества. Поэтому не было почвы для появления феодального или купеческого права»[65]. Названный ученый – ярый противник дуализма частного права. Для него торговое право существует как составная часть гражданского права. Следует особо обратить внимание на последнее утверждение. Современные исследователи часто рассматривают коммерческое, предпринимательское право в качестве составной части гражданского права, но об этом несколько позже.
В своем учебнике проф. Г. Ф. Шершеневич, не претендуя на научную точность, определяет торговое право как совокупность норм частного права, имеющих ближайшее соприкосновение с торговым оборотом[66]. Что такое «ближайшее соприкосновение»? Данный вопрос остался без ответа.
Еще один дореволюционный ученый, проф. Л. Х. Гольмстен, соглашаясь с тем, что торговое право, в собственном смысле этого слова, есть отрасль (часть) права гражданского, считает, что критерии, используемые Г. Ф. Шершеневичем при определении понятия «торговое право», слитком шатки и произвольны, «…чтобы дать основание для выделения той или иной другой части юридического быта и норм его определяющих, в особую специальную область»[67]. Далее, профессор Военно-юридической академии не без основания пишет: «…сочинение проф. Шершеневича может быть названо не торговым правом, а гражданским правом, изложенным в связи с некоторыми особенностями его, вызванными условиями и потребностями торгового оборота…»[68].
Вполне возможно, что по этой причине произведения проф. Г. Ф. Шершеневича по вопросам торгового права с большей долей почтения восприняты и современными учеными-цивилистами. Мы наблюдаем односторонний подход в исследовании столь сложной проблемы, граничащий порой с преднамеренным избранием в качестве авторитетных источников научных трудов определенных авторов. Вместе с тем науке, перефразируя известное изречение В. И. Ленина, требуется не выхватывание отдельных взглядов ученых, не игра в примеры, а необходима целая палитра различных точек зрения, взятых в целом.
В историко-юридической литературе встречается утверждение о том, что прототипом торгового кодекса в России являлся Устав торговый[69]. По мнению Г. Ф. Шершеневича, анализ норм Устава показывает, что его содержание составляли не нормы частного права (параллельные гражданскому), а административно-финансовые постановления. В 1887 г. при новом издании этого отдела Свода законов из последнего выделили финансовые и полицейские положения, а также отделили уставы векселей, о несостоятельности, торгового судоустройства и судопроизводства. Таким образом, в Уставе торговом, кроме морского права, осталось лишь небольшое число норм, которые касаются приказчиков и товариществ[70]. Отсюда профессор Казанского университета делает принципиальный вывод: в России имеются лишь отдельные торговые законы, причем не соответствующие содержанию законов, применяемых к общегражданским правоотношениям.
В свою очередь, Л. И. Каминка и П. П. Цитович считали, что формально основным источником, регулирующим специально торговый оборот, являются Устав торговый и Устав судопроизводства торгового[71]. Однако в работах названных дореволюционных ученых отсутствуют конкретные предложения по разработке и изданию торгового кодекса. Справедливости ради отметим, что идея торгового кодекса по модели Запада не нашла своих активных и последовательных сторонников среди исследователей права в дореволюционной России.
Виднейшие специалисты по русской цивилистике, такие как, например, Ю. О. Гамбаров, С. Л. Муровцев, Д. Н. Мейер, Г. Ф. Шершеневич, выступили за единство гражданского права[72]. В своих научных трудах они подчеркивали, что единообразие законодательства есть идеал, к которому любое общество должно всегда стремиться. Напротив, совместное существование двух законодательств порождает практические затруднения при разграничении пределов действия гражданского и торгового кодексов. Дуализм законодательства, различие принципов частного права вредно отражаются на всем экономическом обороте.
Проф. Л. Х. Гольмстен риторически спрашивает: «Можем ли мы в настоящее время думать об издании приличного торгового кодекса?» И сам же отвечает: «История кодификации торгового права всех культурных народов показывает, что не только первые кодексы торговые были сборниками торговых обычаев, но что и дальнейшие изменения и улучшения этих кодексов выражались во внесении в них новых и новых торговых обычаев. Чем же мы хуже других? Неужели нашему торговому быту может быть навязан кодекс, представляющий собою или измышление кодификаторов, или конгломерат из положений разных иноземных кодексов? Уберечь нас от такого опасного предприятия может лишь собрание торговых обычаев и тщательная, строго научная их разработка. Л пока о кодификации и думать нечего»[73].
В историческом плане интерес вызывает проект торгового уложения, подготовленный под началом видного государственного деятеля и юриста XIX столетия М. М. Сперанского. Проект, который слепо копировал торговое законодательство Австрии, Пруссии, Англии и Гановера, разделил незавидную судьбу многих законопроектов – он был сдан обратно в комиссию и затем бесследно исчез. Вместо него было суждено появиться Уставу торговому одновременно со всем сводом законов.
История повторилась, но уже в советское время, когда, например, был разработан проект Хозяйственного (предпринимательского) кодекса. Отбросив идею издания такого кодекса, законодатель пошел по пути принятия правовых актов, комплексно регулирующих отношения в сфере хозяйствования. Поэтому мы считаем неосновательным сопоставление Устава торгового с современными торговыми кодексами. Устав в значительной степени напоминает федеральные законы «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О несостоятельности (банкротстве)» и др.
Насколько проницательными оказались суждения и взгляды русских ученых, в литературе судят иногда на основании того факта, что существование в западных странах дуализма частного права создало серьезную проблему разграничения сферы действия гражданского и торгового законодательства. В некоторых странах (например, в Швейцарии, Италии) была проведена работа по объединению гражданского и торгового кодексов. В ряде стран ликвидированы торговые суды (Нидерланды) или ограничена их компетенция (ФРГ). В Японии торговые суды вообще никогда не создавались[74]. И все-таки, насколько показательны эти примеры из нормотворческой и судебной практики промышленно развитых стран для того, чтобы прийти к столь неутешительному выводу?
В отечественной литературе сторонники и противники дуализма в праве приводят их (примеры) с целью подтверждения своих взглядов либо, наоборот, опровержения научных позиций своих оппонентов. Вот что по этому поводу писал проф. Л. И. Каминка в далеком 1911 г.: «Против практики всех государств выдвигают один пример Швейцарии, которая, как известно, в своем обязательственном праве сделала попытку нормировать весь гражданский оборот. Но единичное отступление, вообще, не может служить доказательством»[75]. При этом ученый считает, что в рассматриваемой ситуации менее убедительна ссылка на Швейцарию.
Акад. В. В. Лаптев, обосновывая теорию современного предпринимательского права, пишет: «…противники специального регулирования предпринимательских отношений ссылаются на то, что в такой крупной стране, как Италия, в 1942 г. торговый и гражданский кодексы были объединены. Однако при этом умалчивается, что такое объединение привело к ухудшению правового регулирования хозяйственной деятельности»[76]. На чем основано данное утверждение основателя послевоенной теории хозяйственного права и концепции предпринимательского права? В. В. Лаптев ссылается на учебник «Гражданское и торговое право капиталистических государств» под редакцией К. К. Яичкова.
Мы согласны с тем, что единичные ссылки на опыт Швейцарии и Италии не могут быть убедительными и показательными. Тем более что объединение гражданского и торгового кодексов в Италии произошло в годы Второй мировой войны, в период фашисткой диктатуры Муссолини, в условиях жесткой централизации управления экономикой.
Рыночная экономика имеет больше плюсов, чем административная. Вместе с тем следует особо подчеркнуть, что рыночная экономика (особенно в такой стране, как Россия) немыслима без элементов централизованного руководства. Там, где это разумно, необходимо активно внедрять методы государственного планирования и руководства экономической жизнью страны.
Государственное регулирование и рыночная экономика имеют тесную связь и взаимообусловленность. Они отражают реальное соотношение между публичным и частным правом. На Западе анализ этого процесса привел ряд ученых к необходимости по-иному взглянуть на проблему дуализма права. На стыке публичного и частного права была разработана теория хозяйственного права, основоположниками которой явились немецкие ученые[77]. В последующем идеи хозяйственного (экономического) права были восприняты юридической доктриной Бельгии, Италии, Нидерландов, Франции.
Идея о формировании хозяйственного (предпринимательского) права на стыке публичного и частного права является актуальной и плодотворной и в настоящее время. Однако эта идея не должна, на наш взгляд, строиться на отказе от деления права на публичное и частное, как иногда утверждают сторонники хозяйственного права[78]. Напротив, в реальной действительности между публичным и частным правом не существует китайской стены. Показательно в этом плане высказывание М. М. Агаркова о том, что социальный строй, основанный только на частно-правовых началах, не ведет к гуманному обществу. И в этом, и в другом случае благие намерения способствуют уничтожению личности»[79]. История нашего государства подтверждает справедливость этого прогноза, сделанного выдающимся ученым-юристом в начале нынешнего века.
Кто исповедует частно-правовое регулирование и внедряет его методы в экономику России, не должен забывать об этом. Иначе мы можем прийти в обозримом будущем к такому состоянию общества, в котором не окажется места «публично-правовому», а будет господствовать «частное». Прав проф. Ю. Л. Тихомиров, утверждая, что «…не следует искусственно абсолютизировать «личное начало» в обществе и органически противопоставлять право и интересы человека и гражданина интересам общества и государства»[80]. Становление и развитие теорий хозяйственного (равно и предпринимательского) права – это прежде всего своеобразная реакция ученых на объективные потребности общества, когда традиционные отрасли права (административное, гражданское и др.) не справляются в полной мере с поставленными перед ними задачами по комплексному правовому регулированию экономических отношений. Указанные явления в науке известны давно. Достаточно вновь вернуться к концепциям торгового права.
Однако если торговое (коммерческое) право рассматривается преимущественно в контексте дуализма частного права, то предпринимательское (хозяйственное) право представляет собой в нашем понимании комплексное образование, сочетающее публично-правовые и частно-правовые начала. Те исследователи проблем правового регулирования экономических отношений, которые не проводят разграничение между делением права на публичное и частное с одной стороны, и дуализмом частного права, с другой, допускают смешение разнопорядковых понятий, таких, как «предпринимательское право», «торговое право» («коммерческое право»). Обратимся к общественным отношениям, составляющим предмет правового регулирования соответственно коммерческого (торгового) и предпринимательского права.
§ 3. Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования
Предпринимательская деятельность (предпринимательство) – сложная категория. Ее можно рассматривать в разных аспектах: организационном, экономическом, юридическом и др.
Предпринимательство – это прежде всего вид человеческой деятельности. Причем предпринимательская деятельность не сводится к простой совокупности действий. Она состоит из связанных и последовательных предпринимательских мероприятий (действий), направленных к единой цели. Как писал Л. Н. Леонтьев, «деятельность – это не реакция и не совокупность реакций, а система, имеющая строение, свои внутренние переходы и превращения, свое развитие»[81]. Будучи видом человеческой деятельности, предпринимательство многообразно и состоит из различных действий, операций и поступков. Основная цель предпринимательской деятельности (активности) – производство и предложение рынку такого товара, на который имеется спрос и который приносит прибыль[82]. В конечном итоге – это получение прибыли (предпринимательского дохода). Однако ориентация на достижение коммерческого успеха не является самодовлеющей целью в современном бизнесе.
Предпринимательские структуры принимают участие в решении социальных проблем российского общества, жертвуют свои средства на развитие культуры, образования, здравоохранения, охрану окружающей среды. И не только. Одна из основных конституционных обязанностей предпринимателей – уплата законно установленных налогов и сборов.
Но вряд ли можно утверждать, что при создании предпринимательских структур преследуется цель – уплата налогов и сборов (равно и уплата штрафов за нарушение государственной дисциплины). В соответствии с Налоговым кодексом РФ (п. 1 ст. 3) каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. Здесь имеет место публичная обязанность налогоплательщиков, а не благородная цель – получение прибыли от предпринимательской деятельности.
Отметим сразу, что субъекты предпринимательской деятельности преследуют одновременно несколько основных целей. Наряду с извлечением прибыли для них принципиальное значение приобретает также вопрос о создании собственного дела (бизнеса), в рамках которого осуществляется производство товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Вместе с тем легальное определение предпринимательства на первый план выдвигает коммерческую цель – получение прибыли. И это понятно, поскольку нормативная формулировка предпринимательской деятельности предназначена для оценки той или иной экономической деятельности и отнесения ее к виду предпринимательства в конкретной ситуации. Поэтому доктринальное определение предпринимательства может содержать указания на любые признаки (свойства) данного вида деятельности. Иные требования должны предъявляться, на наш взгляд, к признакам легального определения предпринимательской деятельности. Здесь, как в математике: нужна система количественных и качественных показателей для оценки такого явления, как предпринимательство. Данный вывод относится не только к рассматриваемому понятию.
Основу практической деятельности человека составляет целенаправленное действие. В свою очередь, действие понимается как процесс, направленный на выполнение простой текущей задачи либо подчиненный достижению промежуточного результата целостной деятельности[83]. Операция – следующий элемент деятельности, представляющий собой «комплекс действий, ориентированных на решение определенной задачи»[84]. Операции являются элементами более высоких уровней поведения (например, управление производством). В реальной жизни существует тесная связь и взаимообусловленность между различными элементами человеческой деятельности. Так, одно и то же действие может входить в качестве элемента в разные операции. И наоборот, одна и та же операция может быть совершена разными действиями.
Особое место в структуре деятельности людей занимают поступки. Поступок – это не очередной уровень поведения, а социальная характеристика действий и операций при условии, что они имеют общественную значимость. Поступки, по мнению В. Н. Кудрявцева, относятся к таким актам поведения, которые приобретают положительную или отрицательную социальную характеристику[85]. Сказанное в равной степени касается и предпринимательства (предпринимательской деятельности).
В экономической науке не существует общепринятого определения предпринимательства. Ученые-экономисты выделяют такие основные признаки предпринимательской деятельности, как предприимчивость, самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, их активность. Некоторые исследователи указывают на поиск в качестве характерного свойства предпринимательства.
C исторической точки зрения можно назвать несколько экономических теорий предпринимательства[86]. Первая возникла еще в XVIII в. и была во многом связана с такой категорией, как риск. Французский экономист Р. Кантильон первым выдвинул положение о риске в качестве основной функциональной характеристики предпринимательства. Он также обратил внимание на новое явление и ввел в оборот само понятие «предприниматель». Фигура предпринимателя рассматривается уже несколько обособленно от статуса собственника.
Вторая теория связана с выделением инновационности как основной отличительной черты предпринимательства. Основоположник данного направления – один из крупнейших представителей мировой экономической мысли Йозеф Шумпетер, который рассматривал предпринимателя в качестве центрального элемента экономического развития. Используя целую комбинацию факторов производства, предприниматель, по его мнению, призван «…делать не то, что делают другие» и «…делать не так, как делают другие»[87]. Отметим, что право собственности на имущество не является для ученого признаком предпринимательства.
Разрушение монофигуры собственника и предпринимателя стало происходить в период появления кредита. Так, любой коммерческий банк не является собственником всего капитала, который он запускает в экономический оборот. Его собственность, как правило, ограничивается уставным фондом и собственным капиталом[88].
И, наконец, третья теория отличается сосредоточением внимания ученых-экономистов (Л. Мизеса, Ф. Хаека, И. Карцнера) на особых личностных качествах предпринимателя (например, способность реагировать на изменения экономической и общественной ситуации, самостоятельность в выборе и принятии решений и т. д.) и на роли предпринимательства как регулирующего начала в уравновешивающей экономической системе. Как пишут Л. Мизес и Ф. Хаек, «…делом предпринимателя является не просто экспериментировать с новыми технологическими методами, а отобрать из множества… возможных методов именно те, которые наиболее пригодны для снабжения самым дешевым способом людей тем, в чем они в настоящий момент больше всего нуждаются»[89]. При этом фигура предпринимателя характеризуется специфическими деловыми качествами, а также особой психологией и мотивацией поведения.
По мнению специалистов, современный этап развития теорий предпринимательства связан с появлением новой «четвертой волны», суть которой – перенос основного акцента на управленческую функцию предпринимательства. Таким образом, феномен предпринимателя еще в большей мере отдаляется от фигуры собственника; в бизнесе колоссально повышается самостоятельная роль управленцев.
В научной среде предпринимательство с точки зрения экономической определенности принято рассматривать в трех аспектах: как экономическую категорию; как метод хозяйствования; как тип экономического мышления[90]. Так, для характеристики предпринимательства в качестве экономической категории используется система отношений между субъектами и объектами предпринимательства. В свою очередь, рассматривая предпринимательство через призму метода ведения хозяйства, ученые-экономисты выделяют такие признаки предпринимательства, как самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов.
Предпринимательство – особый тип экономического мышления, характеризующийся совокупностью оригинальных взглядов и подходов к принятию решений. Главное место здесь принадлежит личности предпринимателя[91]. Его должны отличать особый склад ума, воля к победе, желание борьбы, творческий характер труда.
Не случайно один из крупных мыслителей нынешнего времени, О. Шпенглер, пишет: «… для нас организатор, изобретатель и предприниматель являются творящей силой, которая воздействует на другие, исполняющие силы, придавая им направление, намечая цели и средства для их действия. И те и другие принадлежат экономической жизни не как владельцы вещей, но как носители энергии»[92]. Действительно, красивые слова звучат в адрес предпринимателей и их благородного дела. Насколько они соответствуют общей оценке российского бизнеса, судить не только специалистам и аналитикам. Граждане многострадальной России нередко встречаются лицом к лицу с «носителями энергии и творящей силы». Но это уже характеристика субъектов предпринимательской деятельности, их личных и деловых качеств, что является самостоятельным предметом исследования.
И последнее замечание. В теоретических исследованиях большое внимание стало уделяться так называемому внутрифирменному предпринимательству, или интрапренерству. Термин «интрапренер» был введен в научный оборот американским ученым Г. Пиншо. Считается, что появление интрапренерства связано с тем фактором, что многое крупные производственные структуры переходят на предпринимательскую форму организации производства. Учитывая, что предпринимательство предполагает обязательное наличие свободы творчества, то и подразделения целостных производственных структур получают право на свободу действий, в том числе на получение интракапитала – капитала, необходимого для реализации идей, лежащих в основе внутрифирменного предпринимательства[93]. Весьма интересен, на наш взгляд, вывод сторонников теории внутрифирменного предпринимательства.
Вместе с тем надо отметить, что теоретические дискуссии об экономической сущности предпринимательства нельзя считать спором о терминах. Напротив, мы полагаем, что исходным пунктом для выработки единой категории предпринимательской деятельности является ее определение, сформулированное в экономической науке. К сожалению, приходится констатировать, мягко говоря, факт нестыковки между экономическими и правовыми исследованиями по проблемам предпринимательства. В научных работах нередко имеет место ничем не объяснимое игнорирование учеными результатов исследований в смежных и сопредельных областях знаний. Непонятно, что здесь преобладает больше – научный снобизм, или элементарное неуважение.
Категория «предпринимательство» имеет и большое практическое значение. Она широко используется в действующем законодательстве. Достаточно сказать, что в первой и второй частях ГК РФ термин «предпринимательская деятельность» применяется в 45 статьях.
Легальное определение понятия «предпринимательская деятельность» дано в п. 1 ст. 2 ГК РФ. Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Рассмотрим нормативные признаки предпринимательства. Предложенная законодателем формулировка предпринимательства не отличается достаточной определенностью и допускает различные толкования.
Кроме того, в учебной и научной литературе (особенно в экономической) в поисках новых признаков предпринимательства предлагается взять на «вооружение» чужеродные свойства феномена предпринимательской деятельности, что способствует созданию превратных представлений о предпринимательстве. На это справедливо обратил внимание С. Э. Жилинский, критикуя отдельные высказывания ученых-экономистов[94]. Например, чего стоит утверждение о том, что предпринимательство преследует цель не получение прибыли вообще, а извлечение сверхприбыли, предпринимательского дохода.
На некоторую неопределенность понятия «предпринимательская (коммерческая) деятельность» указывают и зарубежные исследователи. В английской литературе термин «коммерческая деятельность» иногда характеризуется как «этимологический хамелеон», поскольку не всегда легко установить, имеется ли коммерческая ответственность, например, в отношении университета или колледжа[95]. В соответствии со ст. 61 английского закона о купле-продаже товаров 1979 г. коммерческая деятельность означает деятельность любого профессионального лица, правительственного департамента или органа местного управления или публичной корпорации. Причем сюда относятся не только торговые, коммерческие и промышленные предприятия, но и организации, основная деятельность которых не связана с получением прибыли (благотворительные учреждения, университеты и т. п.). В реальности мнение судьи служит последней инстанцией по вопросу, что следует понимать под словом «коммерческая деятельность» в каждой конкретной ситуации.