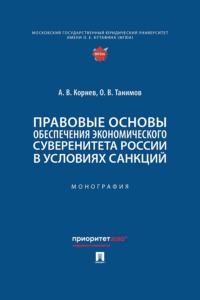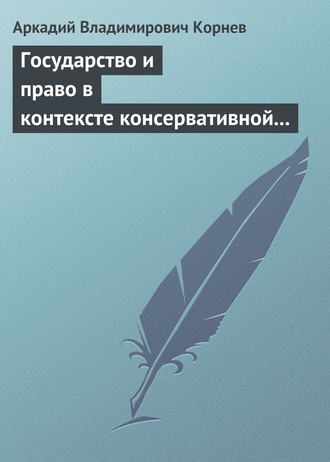
Полная версия
Государство и право в контексте консервативной и либеральной идеологии: опыт ретроспективного анализа
В самостоятельности человека сомневается и Константин Леонтьев. «Если бы идею личной свободы, – рассуждает он, – довести до всех крайних выводов, то она могла бы, через посредство крайней анархии, довести до крайне деспотического коммунизма, до юридического постоянного насилия всех над каждым или, с другой стороны, до личного рабства. Дайте право людям везде продавать себя в вечный пожизненный наем из-за спокойствия, пропитания, за долги и т. п., и вы увидите, сколько и в наше время нашлось бы крепостных рабов или полурабов, по воле».[48]
Не заигрывает с человеком и К. П. Победоносцев: «Всякий человек есть ложь, и всякое слово его, от себя сказанное, есть праздное слово самообольщения».[49]
Если либералы исходили из совершенной природы человека, то консерваторы, наоборот, с этим всячески не соглашались. Надо менять не общественные институты, тем более если они прошли проверку временем, а природу самого человека, прежде всего воспитывать в нем совестливость, нравственность, чувство долга.
В самом общем виде консерватизм характеризуется защитой устоявшихся ценностей. В силу своей психологии консерваторы категорически против любых заимствований, особенно из-за рубежа.
Порой позиции русских консерваторов принимают гротескный характер. И. Солоневич, например, писал: «И если Европа “была проклятием России”, точка зрения, на которой стою я, – то путь нашего спасения лежит прежде всего в нашем спасении и от того, что она нам с собой принесла».[50]
Н. Я. Данилевский о представителях западнического крыла русской интеллигенции писал, что все они одинаково черпают свои идеи не внутри русской жизни, а вне ее; не стараются отыскать сохранившееся еще зерно истинно русской жизни и развить его в самобытное самостоятельное целое. У всех этих направлений один идеал – Европа. Этот идеал одни видят, правда, в отживших уже или отживающих формах: в английской аристократии или даже в мекленбургском юнкерстве. Другие, так сказать, нормальные либералы и западники – в том, что составляет современную жизнь Европы, в ее конституционализме, промышленном движении, крайнем развитии личности и т. д. Третьи, наконец, видят этот идеал в явлениях, продуктах и деятелях начавшегося разложения европейской жизни: в разных социальных системах или в революционной организации и пропаганде. Как ни различны эти три категории предметов поклонения, они все-таки явления одной и той же цивилизации, одного и того же культурного типа, который всеми ими принимается за единственно возможный, общечеловеческий, и потому все эти несамостоятельные направления мысли и жизни в России одинаково подводятся под общее родовое определение западничества, или европейничанья.[51]
Консерваторы всегда выступали против унификации – государств, законодательств, культур, образов жизни и т. д. «Всеми своими побуждениями, – писал Н. Я. Данилевский, – я придерживаюсь этого последнего учения, потому что самобытность политическая, культурная, промышленная составляет тот идеал, к которому должен стремиться каждый исторический народ, а где недостижима самобытность, там, по крайней мере, должно охранять независимость».[52]
В подобном русле рассуждает и К. П. Победоносцев. Он полагает, что с водворением новых начал (либерализм. – А. К.) мир превратится в царство пустоты и скуки. На все и на порок наравне с добродетелью ляжет бледная, бесцветная краска, всякое глубокое чувство и радости и печали утратит живость и силу, и полноту звука в общей гармонии. Не будет контрастов, не будет разнообразия, не найдется возвышенной мысли для философа, сатирик лишится юмора и остроумия, у всех и у каждого утратится то, что давало силу всему, возбуждающее начало.[53]
Всякая история доказывает, – отмечает Данилевский, – что цивилизация не передается от одного культурно-исторического типа другому. Те, кто мечтает об одной общечеловеческой цивилизации, объективно должны прийти к мысли об уничтожении других народов, которые служат этому препятствием. Н. Я. Данилевский без всякой дипломатии заявляет, что потаенной мечтой романо-германской цивилизации является уничтожение России как оплота славянства на пути к военной, политической, культурной гегемонии Запада. Отечественные либералы только помогают этому делу, вольно или невольно прикрывая свои дела рассуждениями об общечеловеческих интересах, которые на самом деле являются всего лишь средством унификации, а следовательно, порабощения романо-германским миром других культурно-исторических типов.
Консерватор, в противовес либерализму с его правами и свободами, отдает приоритет обществу, государству, религии, семье, нравственности, обязанности. Недаром Н. А. Бердяев писал о консерватизме не как о политическом направлении и политической партии, а как об одном из вечных религиозных и онтологических начал человеческого общества. Консервативно мыслящие люди, как правило, религиозны, среди них практически нет атеистов. Более того, безбожие они считают опасным для общества и государства. Консервативно мыслящий писатель устами своего героя спрашивает: «Если Бога нет, значит, все дозволено». Князь Мещерский, видный российский консерватор, редактор «Гражданина», в своих дневниках писал: «Я не видел на своем веку более полного консерватора, не видел более убежденного и преданного своему знамени монархиста, не видел более фанатичного приверженца самодержавия, чем Достоевский».[54] К. Леонтьев вопрошает: «Семья? Но что ж такое семья без религии? Что такое русская семья без христианства?»[55] Сам характер вопросов предполагает определенный вариант ответа. Как говорил Победоносцев, «жизнь есть великий долг, налагаемый Богом на человека».
Жозеф де Местр поучал: «Людям должно быть ясно: именно то, что безбожники ненавидят, то, что приводит их в исступление, то, на что они всегда и везде яростно нападают, – и есть истина». А на что, собственно говоря, нападают безбожники (читай, либералы. – А. К.)? К. Леонтьев дал совершенно прямой ответ – на государство, на церковь, на семью, на нравственность, на общество, т. е. на все то, что пока не дает развернуться человеческому эгоизму.
Ну что ж, семьи на Западе уже практически не осталось, церковь настолько модернизировали, что она уже никому не мешает. Как совсем недавно заявил один очень известный американский журналист, «Бог – это хороший парень, с которым всегда можно договориться». О нравственности и говорить не приходится. Одним словом, консерваторы в каком-то смысле оказались пророками.
С легкой руки английского короля Георга III консерватизм называют «философией джентльменов». В этом есть изрядная доля правды, поскольку консерватизм имеет серьезные претензии на аристократичность, прежде всего аристократичность Духа. Недаром Сократ и Цицерон, а еще раньше Конфуций говорили, что «править государством должны знающие».
Консерваторам всех времен и народов всегда был близок идеал древнегреческих мудрецов – мера, золотая середина, отсутствие крайностей. Вообще, консерватор не мыслит себе мира без ограничений. Именно ограничения и могут противостоять миру хаоса, беспорядка, всяким радикальным новациям. В этом смысле консерватор проявляет себя как последовательный законник, сторонник правового подхода, ибо право для него и есть система ограничений, запретов, сдерживающих необузданные порывы эгоистичных индивидуумов. Источник права для консерватора кроется не в неких отвлеченных принципах или естественных правах, а в обычаях, традициях предков, веками доказавших свою жизненность. Эти обычаи, традиции определенным правовым образом сформулированы культурной элитой нации в качестве универсального регулятора общественных отношений. «Законность и порядок» выступают юридическим лозунгом консервативного направления.[56]
Консерваторы выступают за законность, но сами законы и право они не выводят из общественного договора или естественного состояния человека. И здесь, т. е. при подходе к праву у консерваторов, проявляется иррационализм. Любая власть, считает Ж. де Местр, основанная на определенных законах, исходит из узурпации законодательных прерогатив всевышнего. Следовательно, всякая конституция как таковая плоха. По его мнению, у истоков веры в демократию стоит заблуждение жалких, обмороченных, исполненных самомнения существ. Обманчивое чувство собственной мудрости и силы, слепое нежелание признать превосходство одних людей над другими ведет к смехотворным декларациям о правах человека и трескучей болтовне о свободе.
Константин Леонтьев выдвинул тезис, к которому трудно найти адекватное отношение. «Я осмелюсь, даже не колеблясь сказать, – написал он в своей знаменитой работе «Византизм и славянство», – что никакое польское восстание и никакая пугачевщина не могут повредить России так, как могла бы ей повредить очень мирная, очень законная демократическая конституция»[57]. Так и хочется произнести: «Ведь предупреждали же!»
В своих мемуарах К. Леонтьев приводит один разговор с очень образованным и влиятельным турком. «Верьте мне, говорит турок, Россия будет сильна до тех пор, пока у вас не будет Конституции. Я боюсь России, и от всего сердца желал бы, что в России все-таки сделали Конституцию, но опасаюсь, что у вас государственные люди всегда как-то очень умны».
В противовес либералам консерваторы чаще всего говорят об обязанностях человека, чем о его правах. Только тогда, когда человек следует своим обязанностям перед обществом, государством, церковью, семьей, можно говорить о его правах. Консерваторы не принимают лозунга о равенстве всех людей, начертанном на знамени Великой французской революции, хотя, впрочем, для них она не более чем «зигзаг истории». Поэтому консерваторы выступают за четкую социальную стратификацию и индивидуальные социальные статусы. Им непонятен термин «средний класс», для них существуют пахари, ученые, воины, торговцы и т. д. Консерваторы, как правило, выступают и за четкое половозрастное различие. Гегель, например, считал, что сфера мужчин – это наука, а также общественная и государственная жизнь, в то время как женщины должны посвящать себя семье и церкви. Так же считал и Ф. М. Достоевский.
Если не брать современный период консервативной идеологии, то мы увидим, что консерватор отдает предпочтение общественному и государственному интересу. В политической сфере он выступает за сильное централизованное государство или уж, во всяком случае, за последовательное унитарное начало. Именно такую доктрину отстаивал один из отцов-основателей США А. Гамильтон. В то же время консерватор отметает всякие покушения на частную собственность даже со стороны государства. Семья, основа общества, должна иметь сферу индивидуальной свободы, которую трудно себе представить без обособленного имущества.
В отличие от других теорий консерватизм сложно политически идентифицировать с каким-либо классом или с социальной группой. Консерватором в одинаковой степени могут быть и банкир, и крестьянин. Другим отличительным признаком консервативной идеологии является отсутствие сколько-нибудь очерченного политического идеала. Если подвести под общий знаменатель, то консерватизм выражается в том, что:
– признается существование некоего универсального порядка, объективированного в религии;
– защищается гибельность радикальных преобразований, недоверие к прогрессу, если он порывает с национальными корнями;
– отстаивается неравенство людей, прежде всего в умственном и физическом развитии;
– констатируется ограниченность человеческого разума, следовательно, отдается предпочтение интуиции, традиции, ритуалам, символам;
– недвусмысленно выражается несовершенная природа человека, у которого под маской внешней благопристойности часто скрываются греховность и разрушительный потенциал;
– отстаивается незыблемость частной собственности как основы экономического благосостояния семьи и социального порядка;
– подтверждается приверженность социальной стратификации общества и резкое неприятие уравнять всех при помощи закона;
– обнаруживаются симпатии к элитизму (элитарности), к тому, чтобы «лучшие» управляли государством.
Российским консерваторам присущи все те черты, которые характерны для консерватизма вообще. Тем не менее, полагает В. Я. Гросул, русский консерватизм был ориентирован прежде всего на сохранение существующих социальной, политической и в меньшей степени экономической систем. Зарубежное влияние на русский консерватизм имело место, но «… в общем, отечественный политический консерватизм – это явление доморощенное, глубоко укорененное в России. У русского консерватизма существовало свое лицо; среди отстаиваемых им ценностей важнейшими были патриотизм, традиционная русская мораль и религия. Отечественный консерватизм декларировал свой путь, но он был, однако, лишь повторением того, что происходило в Европе столетием ранее».[58]
По образному выражению А. Н. Боханова, русские консерваторы были людьми «Веры, Традиции и Порядка».
На «круглом столе», посвященном русскому консерватизму, Д. М. Володихин высказал интересную мысль, а именно – интуитивно или по опыту многие сегодня признают мощь отечественного консерватизма. Его изучение может оказаться чрезвычайно перспективным, если принять во внимание и тот факт, что в западной науке распространятся концепция «сумерек Просвещения», т. е. ментального и политического «износа» просвещенческой идеологической парадигмы в постмодернистском обществе. В этом смысле консерватизм становится претендентом на роль стержнеобразующей идеологии современности. Изучение консервативного наследия уже переходит из области научных разработок в область прикладной политологии.[59]
Полагаю, что у консерватизма есть мощная юридическая составляющая. И вообще идеология русского консерватизма, как, впрочем, и либерализма, в основном выработана юристами.
Обоснованно считается, что либерализм является прямой противоположностью консерватизму, хотя в настоящее время оснований для таких мнений остается все меньше и меньше. Один умный человек, пожелавший остаться неизвестным, однажды сказал: «Никто не знает, что такое либерализм, зато все знают, как его надо ругать».
В самом общем виде либерализм – политический, экономический, юридический в качестве фундаментальной ценности почитает свободу, самую возвышенную и химерическую вещь одновременно. О свободе, а следовательно, о либерализме написано очень много литературы. В отличие от консерватизма либерализм имеет четкие социальные идеалы в различных сферах жизни общества и свою социальную основу. Либерализм – идейное кредо набиравшей политический вес буржуазии, которая написала на своем знамени удивительно красивый и одновременно алогичный лозунг – Свобода, Равенство, Братство. Категория «свобода» занимала воображение еще древних греков, но в условиях античной цивилизации она носила совершенно другой подтекст, чем в Новейшее время – время просвещения, науки, мануфактурного производства, юридического мировоззрения. Либерализм подготовил и стал символом новой эпохи, в которой на авансцену истории выходит творчески активная личность.
Либерализм, так же как и консерватизм, может быть охарактеризован как особый тип мышления, но если первый выделяется тем, что мир воспринимается человеком как некая система ограничений, то второй не представляет себе никаких рамок, за исключением тех, которые способны оградить индивида от вмешательства кого бы то ни было в его дела. Революционный либерализм понимал свободу как явление из экономической сферы, состоящее в освобождении индивидуума от средневековой зависимости от государства и цехов. В политической сфере свобода понималась как право личности поступать по собственной воле и прежде всего право в полной мере пользоваться неотъемлемыми правами человека. По этой концепции индивидуум встречает ограничение лишь тогда, когда вторгается в сферу свободы ближних. Равенство выступает, таким образом, логическим дополнением этого типа свободы – поскольку оно не имеет смысла без принципа политического равенства всех людей. В действительности революционный либерализм никогда не думал о равенстве иначе как о постулате. Он определенно никогда не трактовал равенство как эмпирический факт и на практике никогда не требовал равенства для всех людей, исключая периоды политической и экономической борьбы.[60]
Итак, либерализм, как следует из мнений авторитетных исследователей, отстаивает доктрину равенства только тогда, когда ему это выгодно. Проще сказать – представители либеральной идеологемы просто мимикрируют в зависимости от складывающихся политических и экономических факторов. Иными словами, о равенстве, как правило, говорят только тогда, когда нужно устранить роялистов с политического олимпа или под флагом борьбы с привилегиями оттеснить государствообразующую партию от управления страной. Либералы, как правило, захватив власть, начинают проповедовать совсем другую философию, т. е. люди никак не могут быть равными ни в каких смыслах этого слова, может быть, за исключением юридического.
Характеризуя либеральный тип мышления, К. Мангейм пришел к выводу, что в его основе лежит естественно-правовой подход к проблеме: общество – государство – человек.
А. Содержание мысли, основанной на естественном праве:
1) доктрина естественного состояния;
2) доктрина общественного договора;
3) доктрина суверенитета народа;
4) доктрина неотъемлемых прав человека (жизнь, свобода, собственность, право сопротивляться тирании и т. д.).
Б. Методологические черты мысли, основанной на естественном праве:
1) рационализм как метод решения проблем;
2) дедуктивное следование от одного общего принципа к конкретным случаям;
3) постулат всеобщей правомочности для каждого индивидуума;
4) постулат универсальной применимости всех законов для всех исторических и общественных общностей;
5) атомизм и механизм: составные целостности (государство, право и т. д.) конструируются из изолированных индивидуумов или факторов;
6) статическое мышление (правильное понимание считается самодостаточной, автономной сферой, независимой от влияния истории).[61]
Либерализм как идеология, практика, программа, стиль мышления имеет свои особенности как в историческом, так и в этнокультурном, а также в идейно-политических измерениях. В интерпретации фундаментальных вопросов, касающихся отношений общества, человека и государства, он представляет собой сложное социальное явление. Проявляется в самых разных своих оттенках, отличающихся как внутри отдельных стран, так и на межстрановом уровне.[62] Либерализм как система воззрений, тип сознания и комплекс установок при всей своей многовариантности имеет некие общие корни и исходные методологические позиции, свою систему принципов и идеалов, которые в сумме делают его особым типом общественной мысли.
В психологическом плане либерализм придерживается ярко выраженного индивидуализма, идеи о самодостаточности человеческой личности, которая сама по себе имеет право выбирать тот образ жизни, который более всего отвечает ее интересам. Кто-то из консерваторов упрекал либералов за то, что они рассматривают жизнь как служанку, наступив на горло которой, можно требовать от нее что угодно. Человек наделен сознанием и волей, и никто не имеет право диктовать ему, как жить, думать, поступать в тех или иных ситуациях. Как верно отмечает К. С. Гаджиев, в целом либеральное мировоззрение с самого начала тяготело к признанию идеала индивидуальной свободы в качестве универсальной цели. Более того, гносеологической предпосылкой либерального мировоззрения является вычленение человеческой индивидуальности, осознание ответственности отдельного человека за свои действия как перед самим собой, так и перед обществом, утверждения представления о равенстве всех людей в своем врожденном, естественном праве на самореализацию. Поэтому неудивительно, что на первоначальном этапе комплекс ценностей и идей, составляющих сущность либерализма, включал индивидуальную свободу, достоинство человеческой личности, терпимость.[63] Индивидуализм развивался, рука об руку с гуманизмом, идеями самоценности человека и человеческой свободы, плюрализма мнений и убеждений, он стимулировал их, стал как бы их основанием. По сути дела, индивидуализм превратился в источник творческих потенций Запада. Индивидуализм – тип мировоззрения, сутью которого является абсолютизация позиции отдельного человека по отношению к обществу и миру в целом.[64]
В политическом плане либерализм выступает за концепцию разделения властей, контроле общества за государством, выборности органов власти и ее ответственности перед народом. С формированием и утверждением идеи индивидуальной свободы все более отчетливо вычленялись проблема отношений государства и отдельного человека и собственно проблема пределов вмешательства государства в дела индивида.[65]
Юридическая составляющая либерализма выражается в естественно-правовой доктрине и концепции правового государства. С точки зрения либералов, человек в силу самого факта рождения имеет некие прирожденные права, которые никто не имеет права нарушать – ни другой человек, ни общество, ни государство. Эти права являются границей власти. Правовое государство представляет собой особый тип власти, которая реализуется на основе ее разделения в правовых формах и границах, определенных правом. Одна из основных обязанностей государства состоит в том, чтобы оно охраняло свободу и права человека. Следует согласиться с тем, что сфера индивидуальной активности человека, не подлежащей вмешательству со стороны внешних сил, рассматривалась как сфера реализации естественной свободы и, стало быть, естественного права. Поскольку это право призвано защищать отдельного человека от неправомочного вмешательства в его личную жизнь со стороны государства или церкви, оно является формой «юридического протестантизма». Адепты естественного права исходили из идеи, согласно которой человек появился на свет раньше общества и государства. Уже в дообщественном, догосударственном, «естественном» состоянии он был наделен некоторыми неотчуждаемыми правами, руководствуясь которым каждый получал то, что заслуживал.[66]
В гуманитарной, духовной сфере либерализм почитает человека как высшую, а где-то даже и абсолютную ценность. Либерализм постарался освободить сознание человека от многих догм, и религиозных в том числе. Он наделил его правом строить рай на земле, а не страдать, надеясь на компенсацию в загробной жизни. Гуманистическая (в другом варианте – эгоистическая) доктрина либерализма выражается в учении о самодостаточности человека.
В социальном плане либерализм находит свое воплощение в концепции гражданского общества, контуры которого были заложены английским экономистом А. Смитом, а затем развиты Гегелем. Гражданское общество – это юридический союз свободных граждан, в котором каждый имеет право преследовать свой экономический интерес. Гражданское общество состоит из граждан, свобода которых зиждется прежде всего на экономической самостоятельности, которая дает обладание собственностью. Государство в данном случае является слугой общества, содержится на его налоги и обязано охранять правопорядок, обеспечивать безопасность личности, устанавливать цивилизованные формы конкурентной борьбы. Классический либерализм объявил потерявшими силу все формы наследственной власти и сословных привилегий, поставив на первое место свободу и естественные надобности отдельного индивида как самостоятельного разумного существа.
В экономическом плане либерализм придерживался идей рыночной экономики, свободного производства и товарообмена, конкуренции между товаропроизводителями, свободы собственности.
Для либералов аксиомой является отсутствие фундаментального согласия о природе человека, о человеческой личности, а следовательно, и об общем благе, будь то личное, политическое или социальное благо. Поэтому они видят цель политической организации и власти не столько в реализации в сфере политики одной какой-то концепции человеческого совершенства, а скорее, в задаче создания безопасных рамок, в которых люди могут стремиться к самостоятельно избранным вариантам блага, каким бы оно ни было, до тех пор, пока это не приходит в конфликт со стремлениями других людей. Таким образом, для определения фундаментальных целей политической жизни и институтов много зависит от аргументов в отношении природы человека.[67]
Либерализм породил колоссальные изменения во всех сферах жизни общества: политической, социальной, правовой, экономической. В нем заложен очень мощный юридический аспект. При помощи права он отвоевывал все новые и новые сферы своего приложения. Любопытно, но идея о том, что право является самым эффективным регулятором общественных отношений, утвердилась в Европе уже в XIII в. Старая немецкая поговорка, гласившая «Юристы – плохие христиане», не рекомендовала обращаться к судьям в случае спора, а идти к пастору, со временем перестала быть актуальной.
Либерализм делал основной упор на защиту и обоснование «гражданской свободы», понимаемой как свобода частной инициативы, предпринимательства; договоров, свободы совести, мнений и печати. Государство согласно этой концепции должно лишь обеспечивать безопасность личности, частной собственности, охранять общество, основанное на «гражданской свободе». Особенно настойчиво либерализм отстаивал невмешательство государства в экономическую жизнь. Распространение либерализма было обусловлено боязнью усиления государственного вмешательства в дела общества.[68]