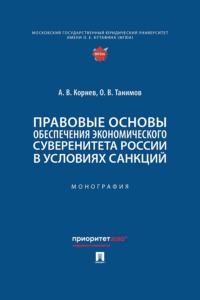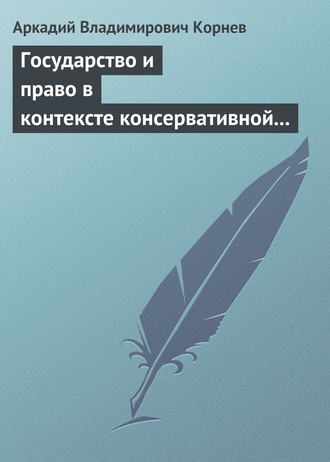
Полная версия
Государство и право в контексте консервативной и либеральной идеологии: опыт ретроспективного анализа
Сам термин «либерализм» – от латинского liberalis, французского liberte′, вошел в европейский политический лексикон в начале XIX в. Первоначально это слово использовалось в Испании, где в 1812 г. «либералами» называли одну из групп делегатов-националистов в испанском парламенте, заседавших в Кадиссе. Затем оно вошло во все крупные европейские языки и особенно активно стало использоваться во второй половине XIX столетия.
Своими корнями либеральное мировоззрение восходит к Ренессансу, Реформации, ньютоновской научной революции. У его истоков были идеи таких разных авторов, как Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, И. Кант, А. Смит, В. Гумбольдт, Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон, Б. Констан, А. де Токвиль и др. На протяжении всего XIX в. эти идеи были развиты И. Бентамом, Дж. С. Миллем, Т. Х. Грином, Л. Хобхаузом, Б. Бзанкетом и другими представителями западной политической мысли. Несомненный вклад в формирование либерального мировоззрения внесли деятели европейского и американского просвещения, французские физиократы, приверженцы манчестерской школы, представители немецкой классической философии, в частности И. Кант. Классический либерализм исходил из идеи индивидуальной свободы, и на этой основе выдвигалась проблема взаимоотношений государства и отдельного человека, а более широко – проблема вмешательства государства в дела индивида. Сфера индивидуальной свободы рассматривалась как реализация принципов естественного права и естественной свободы. В догосударственном состоянии каждый человек был наделен некоторыми естественными правами, руководствуясь которыми, люди определяли формы и принципы взаимоотношений друг с другом.
Исходя из этого постулата были сформулированы политэкономическая, государственно-политическая концепция и правовая система, в которых право было превращено в инструмент гарантирования отдельному индивиду свободы выбора моральных ценностей, форм деятельности и создания условий для претворения в жизнь этого выбора. Эти идеи воплотились в принципах free trade (свободного рынка), свободной, ничем не ограниченной конкуренции. В политической сфере они нашли выражение в идеях государства – «ночного сторожа» и правового государства, демократии и парламентаризма.[17]
Эволюция либерализма – это история учений о свободе. Так думает большинство исследователей, посвятивших себя изучению либерализма. Но есть и другие точки зрения. Р. Пайпс, например, считает, что история либеральных идей есть развитие взглядов общества на собственность. Не свобода, а собственность, вернее, свобода собственности является стволом древа либерализма, а права человека, законность в общественной и государственной жизни, выборность власти, ее ответственность перед обществом и т. д. являются ее ветвями. Надо сказать, что подобная точка зрения имеет все права на существование и достойна рассмотрения. Следовательно, привычная схема развития либерального мировоззрения должна быть скорректирована. Эрнест Ренан, например, считал, что все французские конституции имели один и тот же философский фундамент – «сделать каждого француза сторожем своего кармана».
Трудно категорично утверждать – индивидуалистическая психология породила собственность или, наоборот, собственность породила индивидуализм. В основе всех споров о собственности лежат моральный или прагматический подходы к делу. Древнегреческий реформатор Солон еще в VI в. до нашей эры провел свои знаменитые реформы, «силу с правом сочетав». Едва ли не главным итогом этой реформаторской деятельности является создание легитимного института собственности, над которым ни у кого нет власти, кроме ее владельца. Для западной культуры это было событием, которое трудно переоценить. Совсем не случайно сформировалось мнение, что западная и восточная цивилизации оформились как принципиально разные именно тогда. В этом и состоял прагматизм великого реформатора. Более того, согласно одному из законов, которые он провел, сын мог отказать престарелому отцу в содержании, если тот не научил его какому-нибудь ремеслу или не оставил какой-нибудь собственности. Так что у либерализма уже на ранних стадиях сформировались свои представления о добре и зле, нравственном и безнравственном и т. д.
Однако сразу после легитимации института собственности возник вопрос: обладание вещью относится к естественным правам или она все-таки результат договора между людьми? Во втором случае ее просто можно отменить. Начало этому спору положили Платон и Аристотель. Последний, как известно, выбрав истину, а не дружбу, отнес собственность к естественным и неотъемлемым правам человека. Более того, он полагал, что чувство собственности является врожденным. Трудно выразить словами, писал Аристотель, сколько наслаждения в сознании того, что нечто принадлежит тебе, ведь свойственное каждому чувство любви к самому себе не случайно, но внедрено в нас самой природой. Если это так, полагает Аристотель, то суть свободы состоит в том, чтобы жить в соответствии с законами природы. Иными словами, признавать собственность необходимо в контексте целостного восприятия действительности.
Древние греки дали философское обоснование собственности, но они не касались ее юридических аспектов, может быть, главным образом потому, что их культура была художественной, а не политической, как у римлян, и не религиозной, как у древних евреев.
Доказательства в пользу собственнической психологии идеологи либерализма искали и ищут в областях, которые, казалось бы, далеки от предмета исследования. В том, что дети являются еще большими собственниками, чем взрослые, убедительно доказал З. Фрейд. Этология, сравнительно новая наука о поведении диких животных, утверждает, что тяга к обладанию территорией присуща почти всем животным – от простейших одноклеточных до самых высокоорганизованных приматов. Последний оплот противников частной собственности – первобытное общество – либеральные ученые характеризуют по-своему. Первобытный коммунизм они объявляют мифом. Первобытное общество, по их мнению, знает две формы собственности: родовую (племенную или семейную) и личную. Если основу родовой собственности составляет земля, на которой они охотились, ловили рыбу, выращивали съедобные культуры, то основой личного имущества были одежда, оружие, орудия труда, равно как и невещественные объекты: песни, гимны, заклинания, мифы, молитвы, одним словом – все то, что сегодня называют интеллектуальной собственностью.
Римляне внесли свое представление о собственности, главным образом не в области философии, а права. Римские юристы впервые ввели в оборот отсутствовавшее у греков слово dominium, что означало понятие абсолютной частной собственности. Право частной собственности предполагало законность приобретения, исключительность, абсолютность и постоянство.
Может быть, основу либеральной политико-правовой мысли следовало бы осветить и без столь подробного анализа проблем собственности, но это только на первый взгляд. Наиболее последовательные либералы считают, что если собственность может существовать без свободы, то свобода без собственности – никогда. Эд. Берк писал, что свобода обитает в каком-нибудь конкретном предмете, и каждый народ находит для себя некий излюбленный предмет, который ввиду его важности становится для этого народа мерилом счастья. С древнейших времен в Англии великие сражения за свободу развертывались главным образом вокруг вопроса о налогообложении.
Ни одна страна и ни одна другая культура не сделали для становления либерализма столько, сколько сделала Англия. Здесь впервые в европейской истории возникло национальное государство. Англия – не только родной дом парламентской демократии, но и родина капитализма. Все свои революционные потрясения она перенесла легче всех, в том числе последствия «великой депрессии», только потому, что институт собственности никогда не подвергался опасным колебаниям. Недаром говорят, что конституционное развитие Англии шло под гром барабанов ее финансовой истории.
Англичане в буквальном смысле покупали себе свободу за деньги. Уже в Великой хартии вольностей (1215 г.) король Иоанн взял на себя обязательство не вводить дополнительных налогов без согласия страны, т. е. парламента. Следовательно, в Англии с XIII в. парламент контролировал исполнительную власть во главе с королем. С этого же момента английские крестьяне, обрабатывающие землю, смотрели на нее как на товар. В XV в. законодательный акт вступал в силу, если имелось согласие и Палаты лордов, и Палаты общин. Обычно буржуазные революции начинаются с выступления против короля. В Англии же все было наоборот. Карл I выступил против парламента, поскольку тот не давал ему денег, в том числе на содержание кораблей (так называемые корабельные деньги) и на подавление религиозного мятежа в Шотландии, который, кстати, поддерживал парламент. Последующие английские короли Карл II и Яков II приносили клятву «никогда не посягать на собственность своих подданных».
В становлении английского либерализма огромную роль сыграли юристы – сэр Джон Фортескью, главный судья Королевской скамьи, сэр Эдвард Кук, судья и член парламента, автор «Петиции о праве». Нигде эксперты-правоведы не оказывали такого воздействия на политику, как в Англии. Профессия светского законника появилась там в XIII в. К 1300 г. Англия обзавелась постоянными юридическими школами («inns of court»). Их выпускники становились не академическими теоретиками – эти оседали в университетах, где преподавали каноническое и римское гражданское право, – а юрисконсультами-практиками, разбиравшими дела на основе обычного права и имевшими ту же профессиональную подготовку, что и судьи, перед которыми они выступали. Поскольку обычное право, как и английская политика, коренилось в исторических прецедентах, юристы, признанные знатоки прошлого, приобрели видную роль в толковании конституции. Им приписывается заслуга в отмене крепостничества (виллендажа) и в утверждении принципа, согласно которому «никто не может быть заточен в тюрьму без законных на то оснований».
Чрезвычайно большая роль права и правоведов в Англии и во всем англоязычном мире в изрядной степени объясняется тем, что там рано образовалась собственность, ибо собственность предполагает, что притязания не должны принудительно поддерживаться законным порядком, право является ее непременным спутником.[18]
Принято считать, что английский мыслитель Джон Локк (1632–1704 гг.) впервые в истории разработал принципы либерализма – идейной платформы буржуазии. Действительно, Англия дала Европе не только примеры демократического строительства государства, которыми восторгались Вольтер и Монтескье, но и оригинальных, глубоких мыслителей, к которым, безусловно, относится Локк, родившийся в семье юриста, закончивший колледж Св. Петра в Лондоне, а затем продолживший свое образование в Оксфорде. Основное его философское учение «О человеческом разуме» стало Евангелием нового европейского эмпиризма и сенсуализма. Он написал два политических трактата: один – направленный против патриархальной теории монархической власти, учившей о ее происхождении от власти первого человека – Адама; другой – выступивший на защиту демократии и прирожденных прав человека. Исходной точкой политической теории Локка является учение о естественном праве. В «естественном состоянии» каждый обязан заботиться о собственной жизни, но в то же время, когда жизнь эта вне опасности, каждый должен стремиться к сохранению жизни всех других людей. В естественном состоянии люди, не прося не от кого разрешения и не завися от воли других людей, могут делать все, что им угодно, могут располагать всем, в чем у них нужда, могут располагать собой как хотят, предполагая, однако, что они не выходят за границы, поставленные им законами природы. Естественное состояние есть также состояние равенства, в котором нет никаких социальных и политических различий и нет никакого подчинения одного человека другому.
Естественное состояние в тех чертах, в каких оно изображается Локком, близко стоит к земному раю. Локк не считал естественное состояние продуктом фантазии, он верил, что оно некогда существовало и даже теперь существует там, где люди живут еще вне государственных связей. Законы, действующие в естественном состоянии, суть предписания разума, диктующие человеку, что никто не должен вредить другому, его жизни, здоровью, свободе и имуществу.[19]
При всей серьезности аргументации Дж. Локк не совсем ясно объясняет своим читателям, каким образом люди перешли от «земного рая», т. е. естественного состояния, к государству, указывал только причины этого перехода. Он полагал, что недостатки догосударственного общества выражались в том, что «в естественном состоянии каждый человек является судьей в своем собственном деле, что не гарантирует общественного порядка и может привести к хаосу и борьбе. Это первая причина. Вторая заключается в постепенной утрате способности понимать естественные законы существования, поскольку люди погружаются в свои житейские проблемы и им уже не до «высоких материй». Третья причина состоит в том, что в естественном состоянии права и свободы человека недостаточно защищены. Не ограждена частная собственность человека и его жизнь».
Наиболее глубоким моментом акта учреждения государства нужно считать то, что посредством него образуется, как говорил Локк, некоторое «новое тело» с присущими ему новыми правами, которые превосходят отдельные права, принадлежащие отдельным людям. Такое «тело» образуется добровольным согласием всех и каждого, однако, когда оно уже установлено, то все действия отдельных лиц считаются происходящими не из их частной воли, а из воли большинства. Политическое тело, говорит Локк, не установлено с той целью, с которой люди ходят в театр, т. е. с намерением в конце концов из него выйти. Раз люди согласились образовать такое новое «тело», то каждый отдельный человек становится обязанным сообразовывать свои действия с тем, чего хочет большая часть его членов.[20]
Дж. Локка почитают и за его обоснование категории собственности, хотя в XX в. отдельные либералы не вполне стали соглашаться с локковской позицией по поводу возникновения института собственности. Локк обосновал значение труда как основы неприкосновенности права собственности. Человек имеет право лишь на то, что он произвел своими собственными руками. Бог дал землю в собственность только людям трудолюбивым, прилежным и разумным, а не всяким лентяям и захватчикам. Размер земельной собственности определяется возможностями человека его обрабатывать. Если кто-либо не способен обработать больше, чем может, то на эту землю он не имеет никакого права. Одним словом, все, что не создается личным трудом, не может быть частной собственностью.
Сегодня, когда материализация собственности сильно изменилась (акции, облигации, паи и т. д.), эту локковскую посылку современные либералы весьма жестко критикуют.
Власть общества, пишет Локк, или созданного людьми законодательного ранга никогда не сможет простираться далее, нежели это необходимо для общего блага. И кто бы ни обладал законодательной или верховной властью в любом государстве, он обязан править согласно установленным постоянным законам, провозглашенным народом и известным народу, а не путем импровизированных указов; править при помощи беспристрастных и справедливых судей, которые должны разрешать споры посредством этих законов.[21]
Локк проводил в своих работах идею разделения власти на законодательную, исполнительную, судебную и федеративную, которая проявляется в отношениях с другими государствами. Первостепенное значение он отдавал законодательной власти. Она должна действовать при соблюдении следующих условий. Во-первых, она не может быть деспотической, и ограничена общим благом. Она не имеет иной цели, кроме сохранения общества. Во-вторых, законодательная, или высшая власть, не может повелевать посредством деспотических указов, наоборот, она обязана отправлять правосудие и определять права подданного посредством провозглашенных постоянных законов и известных уполномоченных на то судей. В-третьих, верховная власть не может лишить какого-либо человека какой-либо части его собственности без его согласия. Ибо сохранение собственности является целью правительства, и именно ради этого люди вступают в общество. В-четвертых, законодательный орган не может передавать право издавать законы в чьи-либо другие руки. Ведь это право, которое ему доверил народ.[22]
Политическим идеалом Локка, констатирует Н. Н. Алексеев, является тот вид демократии, который можно назвать либеральным. Охрана прирожденных естественных прав личности является главной его целью. В политической доктрине Локка нужно искать истоки тех законодательных актов, которые носят имя Деклараций прав человека и гражданина (американская Декларация независимости 1776 г. и французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г.).[23]
Идеи Дж. Локка получили распространение и в России благодаря В. Т. Золотницкому и А. Н. Радищеву, которые популяризовали его взгляды.
Видным деятелем английского либерализма являлся Джон Стюарт Милль. Свои взгляды он изложил в «Основах политической экономии» (1848 г.) и в своем самом известном труде «О свободе» (1859 г.). У современных бескомпромиссных либералов он все-таки находится под большим подозрением, поскольку частную собственность считал не гарантией свободы, а фактором, способствующим росту производительности труда. Его идеи стимулировали появление в Англии идеи «нового либерализма», сильно приправленные «социалистическими принципами».
Известным идеологом английского либерализма был Иеремия Бентам (1748–1832 гг.). В своих самых известных произведениях – «Принципы законодательства», «Деонтология», «Руководящие начала конституционного кодекса для всех государств» – он разработал так называемую теорию утилитаризма, краткая формула которой имеет следующий вид: «Наибольшее счастье для наибольшего количества людей». Цель человеческой жизни по Бентаму – искать удовольствия и избегать страданий, поэтому человек в его теории выступает как цель, а государство – как средство.
И. Бентам не побоялся выступить против концепции естественного права и Декларации прав человека и гражданина. Естественны в человеке его чувства, способности, дарования, а естественные права всего лишь фикция, опасное заблуждение, которое может быть использовано фанатиками и революционерами. С этой точки зрения, право есть установленная законом возможность и гарантия дозволенных поступков. Бентам – один из немногих, кто понимал диалектическую связь права и собственности. «Собственность и закон вместе родятся, – писал он, – вместе и умирают. Пока не было законов, не было и собственности. Уничтожьте законы, исчезнет и собственность».[24]
Бентам привнес в либерализм категорию пользы, и это очень важно для понимания его эволюции. Как совершенно беспристрастно замечает современный французский юрист Жан-Луи Бержель, «в сфере прав человека семантический и понятийный анализ текстов и споров, связанных с принятием Декларации 1789 г., порожденной, как известно, идеологией естественного права, показывает абсолютное преобладание идеи пользы над идеей справедливости».[25]
В конце XVIII в. эпицентр активной политической жизни Европы перемещается во Францию. Встать в один ряд с «передовыми» странами Европы ей мешает феодализм, который ассоциируется прежде всего с абсолютной монархией и католической церковью. Идеи французского либерализма развивали такие представители Просвещения, как Д. Дидро, П. А. Гольбах, Ж. К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ш. Л. Монтескье, Б. Констан.
Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) (1694–1778 гг.) может быть охарактеризован как олицетворение либерализма, помня о том, что его идеалом является свобода, а демократии – равенство. «Дирижер» Просвещения был довольно циничным, не совсем порядочным ученым и не очень удобным собеседником. Он прямо говорил, что свой разум и перо он посвящает служению высшим кругам общества. Удачливый предприниматель и талантливый публицист, сформулировавший правило «Я категорически не согласен с Вами, но я готов отдать жизнь только за то, чтобы Вы имели возможность это говорить», – на практике никогда не придерживался этой формулы. Единственным критерием всех существующих институтов он объявил разум. Последовательно отстаивал такой тип общественного устройства, в основе которого бы лежали принципы равенства, свободы и неограниченной частной собственности. Равенство уместно лишь в области частного права, а в политической оно вредно и не нужно, поскольку «власть всегда принадлежит тем, кто имеет деньги». Свобода, по его мнению, состоит в том, чтобы зависеть только от законов.
Шарль Луи Монтескье (1685–1755 гг.) был выдающимся политическим мыслителем и правоведом французского Просвещения. Во Франции он был первым, кто разрабатывал светскую систему правовых взглядов, отвечающих идеалам Просвещения. Мыслитель видел в праве общечеловеческую ценность, находя его цель в свободе, равенстве, безопасности и счастье всех людей. Придерживался теории общественного договора. Люди объединились в государство, по его мнению, для того, чтобы исключить вражду и соединить единичные силы и волю в одну общую волю государства. Главная цель государства, согласно теории Монтескье, примирить возникшие противоречия между людьми в обществе и направить их в правовое русло.
Ш. Л. Монтескье много взял у Дж. Локка относительно условий существования политической свободы. «В государстве, т. е. в обществе, – пишет он, – свобода может заключаться лишь в том, чтобы иметь возможность делать то, чего должно хотеть, и не быть принуждаемым делать то, чего не должно хотеть… Свобода есть право делать все, что дозволено законами».[26]
Разработка модели будущего государства – одна из основных тем Просвещения. По мнению французского просветителя, это государство должно базироваться на концепции разделения властей, цель которой – гарантировать безопасность граждан от произвола и злоупотребления власти, обеспечить их политическую свободу, сделать право подлинным регулятором отношений между правительством и гражданами.
Монтескье различал свободу естественную и политическую. Первая имеет место в догосударственном состоянии, вторая получает развитие в государственно организованном обществе. В государстве свобода защищается правом, которое выступает мерой свободы.
Законодательная власть есть не что иное, как выражение «общей воли». Ее основное назначение – формировать право в виде положительных законов. Исполнительная власть организует выполнение законов, принятых законодательной властью. Власть может осуществлять король или другие назначенные лица, но только не члены законодательного собрания. В противном случае политическая свобода будет утрачена.
Судебная власть «карает преступников и разрешает столкновения частных лиц». Судебную власть Монтескье предлагал передать народу, представители которого будут собираться по мере необходимости для отправления правосудия.
В рамках теории естественного права Монтескье различал право и закон, стремясь при помощи понятия «дух законов» объяснить их соотношение. Он создал историко-фактологическое направление в юридической науке, создав хороший фундамент для социологии права и сравнительного правоведения. Н. И. Кареев, видный русский социолог, вообще считал Монтескье основателем социологии.
«Закон, говоря вообще, – пишет Монтескье, – есть человеческий разум, поскольку он управляет всеми народами земли, а политические и гражданские законы каждого народа должны быть не более как частными случаями приложения этого разума. Эти законы должны находиться в таком тесном соответствии со свойствами народа, для которого они установлены, что только в чрезвычайно редких случаях законы одного народа могут оказаться пригодными и для другого народа».[27]
Видеть в законе воплощение разума есть одна из характерных черт европейского, либерального рационализма. Если консерваторы с большим подозрением относились к разуму человека, то либералы, наоборот, верили в его безграничные возможности. Монтескье объединяет с консерваторами неуверенность в создании законов, которыми могли бы пользоваться все народы.
Бенжамен Констан (1767–1830 гг.) был видным идеологом буржуазного либерализма во Франции первой половины XIX в. Получил образование в Эдинбургском университете. Его мировоззрение сформировалось под влиянием английских политических традиций и парламентаризма, французских мыслителей эпох Реформации и Просвещения. Отстаивал права и свободы, либеральный политический режим, невмешательство государства в экономику, разделение властей и конституционную монархию как политическую форму компромисса между буржуазией и дворянством.
Б. Констан, занимаясь проблемами свободы, отметил, что если у древних народов наличествовала политическая свобода, то у современных она имеет форму личной свободы. Он спрашивает, какой смысл в наши дни вкладывает в понятие свободы англичанин, француз или житель Соединенных Штатов Америки? (Избирательный подход говорит сам за себя. – А. К.). Это право каждого подчиняться одним только законам, не быть подвергнутым ни дурному обращению, ни аресту, ни заключению, ни смертной казни вследствие произвола одного или нескольких индивидов. Это право каждого: высказывать свое мнение; выбирать себе дело и заниматься им; распоряжаться своей собственностью, даже злоупотребляя ею; не испрашивать разрешения для своих передвижений и не отчитываться ни перед кем в мотивах своих поступков. Это право объединяться с другими индивидами либо для обсуждения своих интересов, либо для отправления культа, избранного им и его единомышленниками, и либо просто для того, чтобы заполнить свои часы соответственно своим склонностям и фантазиям. Наконец, это право каждого влиять на осуществление правления либо путем назначения всех или некоторых чиновников, либо посредством представительства, петиций, запросов, которые власть в той или иной мере принуждена учитывать.[28]