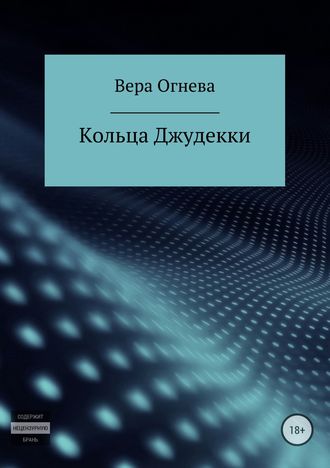
Полная версия
Кольца Джудекки
Парня принесли четверо, положили на топчан и удалились.
Лет двадцать пять, двадцать семь. Очень высокий. Голова свешивалась, с другого торца кушетки свешивалась здоровая нога.
– С общих работ, – сообщил Гаврила Петрович. – В яму, должно, упал. Егорка, тащи лубки.
Правая голень у парня укоротилась на треть. Кожу распирали осколки. Бледным студнем расползался отек.
Не обращая внимания на шипение Гаврилы, Илья пробежался пальцами по ноге. Парень застонал. А Егорка уже тащил две плоские дощечки и комок рогожных полос.
Парень открыл глаза.
– Я дома? – спросил одними губами.
– В больнице, – участливо отозвался Илья.
Больше вопросов пострадавший не задавал.
По остаткам одежды трудно было определить кто он и откуда. Лицо хоть и светлое, но неуловимо восточное: нос с горбинкой, крутой подбородок, большие светлые глаза чуть вытянуты к вискам.
– Тебя как зовут? – спросил Донкович.
– Руслан.
– Потерпи маленько. Сейчас постараюсь тебе помочь. Егорка, неси сонный отвар.
Кроме профессионального сострадания парень вызвал мгновенную симпатию. Егорка, однако, и не подумал выполнять распоряжение младшего помощника; стоял, переминаясь с ноги на ногу, да преданно смотрел на Гаврилу Петровича.
– Давай лубочки, Егорушка, – пропел тот елейно. – Приложим, да примотаем. Глядишь, дни три-четыре – уйдет.
– Ага, уйдет – ушкандыбает, на всю жизнь оставшись калекой, – возмутился Илья.
Парень будто почувствовал борение умов над своей сломанной ногой, открыл глаза и с надеждой посмотрел на доктора.
Такой слитной матерной тирады хирург высшей квалификационной категории И. Н. Донкович не выдавал давно, если вообще когда-либо ему случалось уложить десяток общеиспользуемых оборотов в витиеватый загиб. По смыслу оно сводилось к следующему: если сучий потрох Егорушка, не принесет требуемое, и, если собачий экскремент лейб-медикус императорской конюшни станет мешать, он, Илья, им моргалы выколет, рога поотшибает и яйца оторвет.
Гаврила Петрович даже отшатнулся, столь неожиданным оказался демарш тихого интеллигентного недоумка. И впрямь может зашибить, решил Ломахин и мигнул Егорке: неси.
Обоих, в конце концов, пришлось привлечь к делу. Они тянули, Илья вправлял. Руслан только сонно морщился. Потом на ногу намотали тряпье и аккуратно упаковали голень в лубочный корсет.
После неожиданного бунта, Донковича надолго выключили из общения. А ровнехонько сросшаяся нога вообще довела Ломахина до белого каления. Илья заподозрил, что г-н старший медикус постарается извести столь искусного помощника, как можно быстрее.
Прецедент не заставил себя ждать. Уже на следующее утро все пришло в движение. Оба старожила лекарни засуетились, как только в дверь сунулась чья-то патлатая голова и проорала: «Очистка». Гаврила начал спешно отдавать приказания. Егорка мел, таскал, стелил, вытряхивал, двигал топчаны. Немногих обитателей лекарни: кого отнесли в дальний угол, кого разогнали по домам. Помещение опустело.
Илья собрался выйти, поглядеть. Его остановили: неча, мол, шататься, скоро сюда болящие нагрянут – насмотрисси.
Их вносили по одному по двое. На носилках, на плечах, волоком под руки. Темный вестибюль вмиг переполнился. Забубнили голоса, дескать только начало, а тварюга вон уже скольких перекалечила. Потом в разговорах наступил краткий разрыв-ожидание. «Щас вдарит», – предположил кто-то. Опять загомонили. Общее возбуждение передалось Илье. Почти у всех пострадавших кровили жуткие раны. Гаврила прижигал их раскаленным железным прутом. Кровотечение почти всегда прекращалось, но пациенты как один впадали в беспамятство.
– Им бы отвара сначала дать. Половина от болевого шока умрет, – предложил Донкович.
– Декох дается один раз, на ночь, – не оборачиваясь, отозвался Гаврила Петрович, – Щас – белый день. Уф! умаялся. Не положено.
– Но им же больно!
– А потом ночью, когда проснутся да заголосят, ты их обносить будешь?
Показания к анестезии тут определялись соображениями ночного покоя Гаврилы и Егорушки.
– Я все сделаю сам. Вас беспокоить не буду.
– А расход?
Илья уже набрал в легкие воздуха, чтобы в очередной раз выдать залп словесной картечи, когда вестибюль взвыл:
– Вдарили, врубили… разряд…
Пол качнулся. Со стороны реки пришла волна глухого мощного звука. У Ильи на секунду заложило уши.
– Что это было, – спросил он, потрясенно.
– Небесное лектричество, – важно отозвался Гаврила Петрович. – По большой решетке ударяет, и тварям умерщвление причиняет.
Направленный электрический разряд в городе Дите?! Где средневековые нравы чуть разбавлены глухой древностью и помножены на примитивную, усредненную современную мораль. Ему, Илье, современную? Его веку? Эпохе? Цивилизации?
Вестибюль опустел. Людей вымело на улицу. В лекарне коновал Гаврила нещадно гонял Егорку, и на Илью напустился:
– Чего топчешься. Таскай, давай.
Настороженного подобострастия в поведении Гаврилы Петровича в последнее время изрядно поубавилось. За плачевное состояние лекарни с места не погнали. Ни одной даже массовой проверки за то время, пока тут обретался тихий, но настырный, длинный как жердь, чернявый проявленец не случилось. У, хитрован! Молчит, да по углам зыркает. Злоумышляет. Надо бы упредить. Вот ведь господин Хвостов, например, до чего въедлив. И понятливый – страсть. Ему только намекни на неблагонадежного проявленца… а может, и печать ту он украл?
После устройства больных, – кто так и валялся в беспамятстве, кто уже начал стонать, – лейб-медик подозвал Илью:
– Слышь? Громко стенают…
– Дайте им отвар.
– И другие средства есть. Егорка! – Сутулая фигура выскользнула из-за рогожи. – Пошарь под моим топчаном. Там горшочек широконький стоит. Принеси.
«Отрок» скоро вернулся с вместительной кривобокой посудиной, поставил ее у ног Ильи и, глядя в сторону, ушаркал.
– Желаешь, значит-ца, помочь? – раздумчиво пропел Гаврила Петрович.
– Это мазь?
– Мазь. А из чего, говорить не велено. Государственная тайна, – толстый палец лейб-коновала указал в потолок. – Иди, мажь.
– Раны, или вокруг?
– А? Чего? – понизил голос Гаврила Петрович. – Раны, раны.
Состав больше походил на студень, но, впрочем, под теплыми пальцами расползался, плавился. Илья на всякий случай тихонько мазнул себе тыл кисти – ничего. На язык пробовать по понятным причинам не стал.
Едва касаясь кончиками пальцев, он стал наносить мазь на поверхность ран, выбрав для начала самых тяжелых больных. Один, второй… Он уже пошел к третьему, когда первый пострадавший вдруг подскочил на своем топчане, выгнувшись дугой. Затылок и пятки деревянно застучали о топчан, тело свело до позвоночного хруста. Отставив горшок, Илья бросился к больному. Но когда подбежал, тот уже обмяк. Пульс? Нет! Дыхание? Нет! Сорвав со стены факел, Илья посветил. Зрачок пациента мертво расползался, лишая всякой надежды.
Второго подкинуло и согнуло под истошный визг Егорки.
Две смерти! Илья остолбенел, придавленный чудовищностью происшедшего. Сразу замутило, поплыло перед глазами. Что там дают за убийство? Отряды? Илья туда пойдет, вот только собственными руками удавит «коллегу».
Он уже пошел на Гаврилу, когда широко распахнулась дверь, и в помещение без спроса вошли люди. Впереди шагал Горимысл. Бас загрохотал под сводами палаты:
– Доложи, лекарь, скольких и с какой хворью держишь у себя под рукой?
– Дюжину принесли. Да двое сами доковыляли. Как видите, у всех обычные раны от присосок. Одного змееголов кусил несильно. А вот этих двоих, – Гаврила Петрович указал на трупы, – никто уже не спасет. Нерадивый помощник мне достался! Ох, нерадивый! Не слушая моих указаний, смазал их раны жиром капоглава.
– Как!? – охнул бас.
– Говорил я ему, – напевно, продолжал лейб-медик, – мажь вокруг. Но зело упрям. Всяко норовит, сделать по-своему. Теперь мертвы други наши, исправлявшие вину на очистных работах.
Горимысл, кликнув факельщика, пошел смотреть.
– Да, дела! А ты чего скажешь, Илюшка?
– Так велел старший лекарь, – коротко и зло отозвался Донкович.
– Я говорил, вокруг мазать! Вокруг! – опечалился Гаврила Петрович.
– Врет, – рявкнул Илья.
Горимысл осматривал пострадавших. Гавриил Петрович скорбно стоял рядом, сложив руки на животе. Илье светило, в следующую очистку идти на свидание к монстрице.
– Ну, эти двое и так бы преставились, – заключил Горимысл свой осмотр. Окружающие не спорили. На лице Гаврилы Петровича отразилось глубокое сожаление. Сегодня комиссия обошлась без Хвостова. Тот бы…
– Как же, как же. А может, Бог дал, и выжили бы, – зачастил лекарь скороговоркой, спасая интригу от развала.
– Что!!! – взревел бас.
–Ой! – медикус прикрыл рот ладошкой и присел даже. – Не подумал. По привычке вырвалось! Больше не п-п-овторится.
– Смотри, еще раз услышу, под трибунал пойдешь! – от басовитого напора дрожали стены.
Похоже, упоминание Высших Сил и спасло Илью.
На спрос позвали Егорку. Тот, разумеется, подтвердил, что новый медикус по самодурству людей извел. Другого и не ждали.
– Сколько дён ты тут? – спросил Горимысл Илью.
– Три недели.
– Седьмицы?
– Да.
– Твое везение! – И, к лейб-коновалу. – Что же ты, учитель нерадивый, не обсказал за те дни ученику про лекарства твои да про яды?
– Говорил, Горимысл Васильевич, говорил. Каженный день твердил. И про травы, и про декохты, и про мази. Про ту, что в корчаге, особо пояснял. Не слушает. Все норовит по-своему сладить. Взялся без дозволения увечья лечить. Едва потом человека отходили.
– Кого? Обзови.
– Запамятовал. Егорка, не помнишь?
– Неа. Ушел тот парень и сгинул. Убег, от нового медикуса спасаясь.
– Правду речет сирота, – опять сбился на блеяние Гаврила.
– А ты что скажешь в свое очищение, Илюшка Николаев сын Донков?
Мураш не ошибся: Горимысл был памятлив, умен и не склонен к поспешным решениям.
– Коллега, вероятно, вспомнил больного по имени Руслан со сложным переломом голени. – Илья успел несколько успокоиться. Руки уже не так чесались, свернуть лейб-душегубу шею.
– Из татаровей? – мимоходом спросил Горимысл.
– Не знаю. Не спрашивал.
– Много иноплеменных прозвищ у нас в слободе. Ладно. Говори дальше.
– Так складывать кости, как делает ваш медикус нельзя, – Илья начал с самого на его взгляд важного. – Кости сначала надо вправлять, только потом одевать лубки. Иначе человек останется калекой.
– Говорил я тебе! – взревел бас на медикуса. – Продолжай, Илюшка.
– Тот парень полностью поправился. Если его разыскать, думаю, он подтвердит. Да и сами все увидите.
– Где ж его сыщешь? – плаксиво запричитал Гаврила Петрович, – Бежал больной от дохтура сего страхолюдного, только пятки сверкали.
– Бежал?
– Улепетывал.
– Значит, ногу ему правильно твой помощник сложил, – неожиданно припечатал Горимысл.
Гавриле Петровичу осталось, прикусить язык.
– Приговариваю: Илюшку из лекарни забрать. Друг дружку потравите – ладно. Людей последних ведь изведете. Знамо, медикус за свою правоту ни здорового, ни больного не пожалеет. Ни старого, ни…
Малого, – закончил про себя Илья, – по тому что не было детей в благословенном городе Дите. Отсутствовали. Если и проявлялись, исчезали тотчас. А свои? Женщины не родют, – поведал, забежавший в гости Мураш. И дальше на расспросы любопытного проявленца отвечать не стал. Не знает в чем дело, или не велено говорить? Разносить, так сказать, вредные слухи? Низь-зь-зья!
Все как дома. Там тоже долго было низь-зья. А когда стало зя, голодный желудок и больная совесть заставляли пахать, а не заниматься трепом.
Навалилась каменная усталость. Илья стоял, глядя в одну точку, и тупо мыслил: жизнь в городе Дите и не жизнь вовсе. Сбил его тогда пьяный грузовик. И попал-таки грешный доктор в Ад, где нудно, пыльно, волгло, муторно… и вечно. Однако вон же – умирают. Ну, это те, кому особо повезло.
– Очнись, Илюшка, – прогремело над ухом. – Ступай за мной.
А на улице, когда выбрались из влажной духоты:
– Пондравился ты мне. Будешь при комиссии сидеть, хвори определять.
Душа, ловившего каждое слово лейб-медикуса, явственно поползла в пятки, по пути освобождая от себя организм. Личико на глазах сморщилось, будто шарик сдули. Руки повисли. А там и весь он отстал.
В гору поднимались неспешно. Впереди, естественно, Горимысл. За ним – свита, в хвосте которой терялся Илья. Он быстро устал. Стало жарко. Пришлось снять куртку и нести в руках. Тошнило. Мысли объявлялись отрывочные и не вполне логически безупречные. Пондравился? – это как? Это что? Горимысл свет Васильевич, так, укрепляет свои позиции против Хвостова? Или честно болеет за дело? Правдоподобно и от того опаска пробирает. Видели, знаем, плавали. Как выручил-поднял проявленца, так и скормит его при случае. Не жалко. Кто Горимысл и, кто Илья? А если «пондравился» и есть главный аргумент, от которого все танцуется в городе Дите?
Ну, попросят тебя, присмотреть за Хвостовым: что сказал, что сделал; компромата накопать…
Какая же, хрень в голову лезет! Это – инхфекция, не иначе. Должно, от лейб-коновала заразился – подлючесть кудрявая, передается при словесном контакте, распространяется на не привитых. Привитые переносят в легкой форме, исключительно молча.
Так, о чем я думаю? О человеческих ценностях? Браво! Тащусь в мэрию города Дита, находящегося согласно описаниям, где-то в шестом круге Ада, и размышляю о подлости. Вы, г-н Донкович, рехнувшись? Или все же не Ад? Значит – выжить! Зубами прогрызть дорогу назад. А если придется – по трупам?
Илья остановился. Комиссия уходила. Следовало отдышаться. Предыдущая мысль канула. Он не стал ее догонять. Не захотел?
Или время не пришло?
Мэрия располагалась в здании из трех этажей – поверхов – как отрекомендовал Гороимысл. Новому эксперту показали его комнату. Казематик с узким оконцем под потолком даже умилил. Три недели в людной палате под стоны увечных и храп Гаврилы научили ценить одиночество.
Провожатый, объяснил насчет ужина: вечером на раздаче получишь свою порцию, день нынче не присутственный, так что, обеда не положено. Фиг с ним, решил Илья и, наконец, во исполнение своей первой в городе дите мечты, разделся и завалился спать в настоящую, хоть и жесткую постель.
Первые дни в мэрии прошли под непрерывные вопли Хвостова. Случись, комиссарской воле воплотится в материальную силу, от Ильи осталась бы куцая горка пепла. Но Горимысл веско укоротил сутягу, дескать, дохтур прошел большинством голосов. Решили: будет эксперт в комиссии. Не хочешь подписывать – твое дело. Крики поутихли. Хвостов, разумеется, не примирился, но на время оставил попытки выжить Илью.
Дело, к которому его определили, оказалось не пыльной, муторной, как утро рабочего дня синекурой. Илья быстро заскучал. А заскучав, приступил к расспросам. Устройство здешнего мира, /если оно – мир/ему так никто и не растолковал. Похоже, сие не очень интересовало здешних невольных поселенцев. Живут себе, и живут. Крыша над головой есть. Каша – два раза в день. Дома жены отдельные еще чего сготовят. Дело исправляют. Вон опять проявленец попался, а что на решетку кидается, так то от испуга. Погоди маленько, дни через три в себя придет. И приходили. Отвечали на положенные вопросы. Если Илья просил, раздевались, показывали раны или увечья. На дальнейшее его юрисдикция не распространялась. Илья как-то заметил на одном до посинения испуганном мужичке вшей.
– Не плохо бы санитарную обработку провести. Хоть помыть его.
– Ништо, – отозвался Горимысл. – Сами сдохнут. Заметил, аль нет? Ни тараканов тут, ни мышей. А какая и забежит, так то – проявленка. Ее велено ловить и Иосафат Петровичу сдавать. Он распорядится.
– Вы их убиваете?
– Придумал тоже. Зачем скотину губить? Господин Алмазов к себе тварь забирает. У него они живут, а кои и расплождаются.
На вопрос, кто такой г-н Алмазов, тот же Горимысл коротко бросил:
– Сам увидишь.
Потом Илья докопался до приходных книг – гордости Иосафата Петровича. Почерк председатель трибунала имел ровный и убористый. Но в тексте наличествовали элементы дореформенной письменности. Яти и ижицы страшно мешали при чтении. Илья не сразу приноровился. Зато через некоторое время уразумел: численность населения Алмазной слободы города Дита была практически постоянной. В месяц проявлялось от трех до пяти человек. Такое же количество погибало на очистных работах и в других передрягах. К тому же, периодически собирались этапы в отряды. Осужденные на такую суровую меру ждали отправки в тюрьме.
Илья спросил о летосчислении. Ему пояснили: ни к чему сие народу. Сколько же лет здешней истории? – не унимался Донкович. А бес его знает. Выяснилось, раньше счет нет-нет да вели. Но периодически наступало лихолетье: то моровое поветрие, то нашествие диких тварей с суши, то обрывался приток проявленцев. Слобода вымирала мало не вся. Народ начинал роптать. В воды реки, традиционно, летела городская верхушка. Ее место тут же занимали выборные. Они и начинали отсчет новой эры.
На другом берегу скучилась Игнатовка. Две слободы соединял монументальный мост. Его, как понял Илья, пытались однажды снести. Не получилось. Строили в древние времена города Дита основательно. После неудачной попытки разрушить единственную связующую коммуникацию, власти с той и с другой стороны постановили: держать на мосту приграничную стражу. Переход из одной слободы в другую оговаривался отдельно: если человеку, преследуемому толпой, удавалось вбежать на мост и там, отбившись от гонителей и стражи, добраться до середины, он принимался в сопредельную слободу. Дальнейшее его ждали непременный карантин, отдельное поднадзорное поселение, отказ в любой должности, кроме общих работ. Человек годами числился в подозрительных. На него частенько сваливали вину, и он с очередной партией уходил в отряды. Наверное, именно поэтому беглецы с Игнатовской стороны случались чрезвычайно редко. А из Крюковки и того реже. Однако тамошний режим считался менее враждебным, и такие перебежчика, как, например, Ивашка, могли претендовать на лояльное отношение властей.
Кроме того, существовала особая категория насельников – снулые. Илья заподозрил, что они-то как раз и составляют большинство. Многие люди вскоре после проявления начинали утрачивать яркую индивидуальность. Иногда в течение нескольких даже дней. Некоторые чуть дольше придерживались собственной культуры, но и они очень быстро превращались в неотличимых друг от друга обитателей дальних кварталов. На них, будто, ложился пыльный, серый налет. Метаморфозы, однако, на том не заканчивались. Со временем такие проявленцы превращались в подобие людей: ходили по улицам, исправно два раза в день являлись за пищей, но никогда, ни с кем не говорили и не работали. Они всегда поодиночке бродили среди каменных коробок, далеко, впрочем, от собственного жилища не удаляясь. Они не умирали, но и не жили. Снулые – одним словом.
Илья поинтересовался у Горимысла формами правления в соседних слободах-государствах.
– Соседи? – грозно переспросил тот. – Вороги! В Игнатовке анквизиция правит. Там все по струночке. Шаг в сторону – костер. В Крюковке паханы суд вершат. Ни закону, ни порядка. Одно татьство.
Может, и прав был Мураш, Илье действительно повезло с местом проявления. А с другой стороны, попади он на тот берег реки или на остров, про Алмазовку ему наговорили бы еще больше страстей.
Проверка лекарни прошла бурно. В комиссии кроме Ильи значился Лаврентий Палыч Хвостов. Илья подозревал, что тот назвался так уже здесь, после проявления. Вполне могло статься, дома он носил куда менее известное имя. Тогда почему, например, не Владимир Ильич, или Иосиф Виссарионович? Кишка тонка? А фамилию решил наследственную оставить…
Для начала Хвостов отказался от Ильи, который был ему придан в качестве эксперта. Бледные, посеченные вертикальными морщинами, щечки особиста затвердели. Лихорадочно заблестело единственным стеклышком пенсне.
– Не проверен в деле! – проорал Хвостов.
– Вот и проверишь, – меланхолично отозвался Горимысл.
– Ранний проявленец без твердой идеологической платформы не сможет разобраться и вынести политически верное решение. Я это заявляю вам как ответственное лицо, как член трибунала, как коммунист, в конце концов.
– Что?! – взревел Горимысл. – Опять про свою веру речи завел? Последний раз от тебя слышу. Меня и господин Алмазов упреждал: начнет Лаврюшка агитировать, докладай немедленно. На спрос пойдешь. Твое счастье, зловред, что обращенных нету, – да и кто за таким дураком пойдет?! – но хоть про одного узнаю, орудовать тебе тупым крюком на очистке.
Угроза подействовала. Хвостов не противился больше, присутствию Илья при проверке. За то потом, когда Донкович написал заключение, выводы и рекомендации, на отрез отказался подписывать. Документ он обозвал грязной, провокационной клеветой на организацию медицинской помощи во вверенной ему слободе. И опять, как оказалось, зарвался.
– Не тебе вверенной – господину Алмазову, – поправил Иосафат Петрович, что-то быстро строча в листочек.
Хвостов заткнулся. Но так ничего и не подписал. Горимысл с Иосафатом переглянулись, сочувственно покивали Илье и спрятали, исписанный мелким подчерком папир, под скатерть, покрывавшую стол заседаний.
Однажды Илье высыпали в горсть пригоршню монет: медяки, да одна бледная, похожая на рыбью чешуйку серебрушка. Жалованье, – пояснил Иосафат Петрович. Илья с чисто нумизматическим интересом перебрал денежки. Куда их девать, было решительно не понятно. В слободе, конечно, существовал торг. Но что там покупать? Грубую деревянную мебелишку? Старую одежду с чужого плеча? Продукты? Илья спрятал деньги подальше. На сегодняшний день у него и так был необходимый минимум.
Выдававшаяся два раза в день, казенная каша почти ничем не отличалась от больничной, разве была чуть сытнее. В ней больше попадалось вкусных сереньких кусочков. Илья уже не морщился как в первый раз, когда узнал, что сие не мясо, а щупальца все той же монстрицы, добытые во время очистных. Вся слобода ими питалась. Илье она представлялась гигантским осьминогом, точнее – многоногом, у которого отсеченное щупальце отрастало чуть ни на глазах.
Сама тварь обитала у решетки, запиравшей единственный выход за стену. Река, – с ума сойти! – как и везде впадала в море. Для чего нужны стена и решетка? – спросил Илья.
– Это что бы твари, которы больше Сторожихи, не заползли в город и не пожрали людей.
Со слов Иосафата, заплыть в реку и пролезть по отвесной стене парапета для морских гадов труда не составляло. Откуда знает? Знает! Но чувствовалось, говорит с чужих слов. Мелких деталей, которые так оживляют рассказ очевидца, ему как раз и не доставало. Монстры и монстры. Воображение Ильи, разумеется, дорисовало, недостающие крылья, ноги и хвосты, но разум осадил: может, и чудищ-то никаких нет. А есть страшилка, чтобы за стену не лазили.
Решетка периодически забивалась илом. Уровень воды в реке начинал подниматься, и тогда с обеих сторон из Алмазовки и Игнатовки на очистку ячеек выставлялось две команды. Воду выше по реке отводили в систему каналов и искусственных озер.
Когда обнажалось дно, людей спускали на платформах к самой решетке, и они длинными отточенными по загибу крюками выворачивали комья ила. Тут и вступала со своей партией монстрица, она же Сторожиха, она же Большая Дура. Ей совсем не обязательно было плавать. Она и ползала неплохо. Опираясь частью щупальцев на дно, тварь просовывала остальные в ячейки решетки и ловила присосками людей.
Отбивались, конечно, до определенного момента. Тут важно было, очистить решетку как можно быстрее. Как только работа была выполнена, платформы с людьми отводили от решетки, и на нее подавался чудовищной силы разряд. Откуда?! – допытывался Илья. Да кто его знает, – без всякого интереса отозвался Иосафат. Горимысл, отмолчался. Вообще быстро ушел.
Отсеченные у Сторожихи, щупальца потом ела вся слобода. И не одна.
С очистных возвращалась, едва ли, половина людей. Из отрядов – никто. Однако болталась же на веревке рубаха из мягкого папира в первый день его проявления.
Илье иногда казалось – все сон. Когда страшный, когда скучный, когда даже занимательный: бесконечные перепирательства Хвостова со своими оппонентами и со всем миром… а рядом пустоглазые, пустолицые снулые. И никому ни до кого нет дела. Не велись беседы, в смысле отвлеченных разговоров. Общение сводилось к обсуждению последних новостей, качеству еды, редким сделкам. Сегодня есть, завтра – нет. Город без роду, без племени, без истории, без корней, без будущего. И сон без конца, который, возможно и есть смерть.
За что? А ни за что. Так повернулось. Никто, ни Тот что Сверху, ни тот что снизу, – если исходить из банальной теологической леммы, – участия в его судьбе не принимали. Так повернулось, – сказал Мураш. Ему легче. Там была простая как мычание жизнь. Здесь – то же самое. И все это надолго. На очень долго. Может быть, навсегда. Своей смертью тут почти не помирали. При известной доле везения, можно прожить века, – кто те века считал? – можно, наверное, и тысячелетия.







