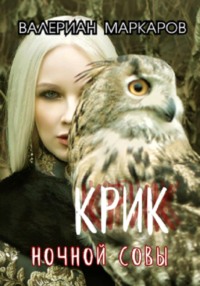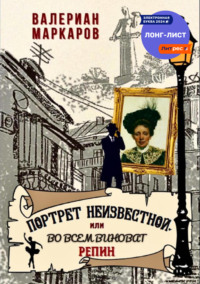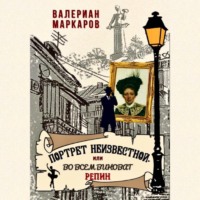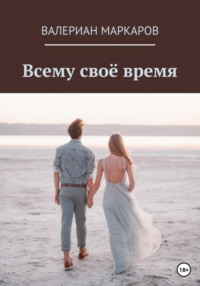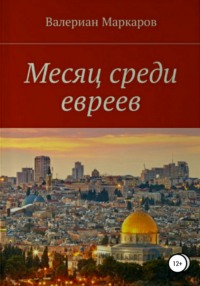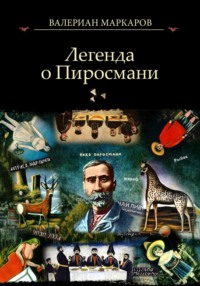Полная версия
Гении тоже люди… Леонардо да Винчи
Жизнь – это тайна, смерть – это тайна, красота – тайна, и любовь – тайна. Я был причастен к миру через тайну, и ухожу легко, без страха, ибо меня любили, и я любил. Цени каждое мгновение своей жизни, Франческо, и верь в ту силу, что делает нас бессмертными – это есть любовь, что движет нами и вершит судьбы.
Я жил ради любви, пел, творил, писал ради неё – и вот теперь умираю ради любви.
Предчувствуя близость Смерти, Леонардо тихо попросил Франческо Мельци позвать священника. Вскоре в комнату вошёл священнослужитель с Святыми Дарами – символом вечной благодати и утешения для умирающего. Все, кто не был необходим, покинули помещение, оставив лишь тишину и тяжесть приближающегося часа.
В своей исповеди художник искренне просил прощения у Бога и людей – за то, что «не сделал для искусства всего, что мог и должен был сделать».
Доминиканец, стоявший неподалёку, уловил эти слова и с довольной, почти удовлетворённой улыбкой на блестящем лице кивнул – не было тайной, что Леонардо за свою жизнь не отличался набожностью и вёл образ жизни, далёкий от монашеского строгого. Но именно этот строгий страж церковных канонов обратил внимание на то, что, несмотря на покаяние, в сердце Леонардо вновь и вновь звучала одна и та же тема – искусство.
– Что бы люди ни говорили о нём, сын мой, – торжественно произнёс священник, словно обращаясь к Франческо, но глядя прямо в глаза доминиканцу, – он оправдается по слову Господа: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
Приняв Святое Причастие, Леонардо, с трудом взяв за руку своего преданного друга Франческо, прошептал последние слова, полные философской глубины и мира:
– Как хорошо проведённый день приносит счастливый сон, так плодотворно прожитая жизнь дарует глубокое удовлетворение. Я – словно вода в реке… Меня уносит течение Смерти…
Зловещая ночь принесла с собой невыносимые приступы удушья. Франческо Мельци, сжимая холодные пальцы Мастера, боялся самого страшного – что Леонардо умрет у него на руках. Как ужасно это равенство перед непреклонной Смертью, что не щадит ни гениев, ни ничтожных, стирая все грани между драгоценной жизнью и бренным прахом!
К утру 24 апреля, на Светлое Христово Воскресенье, Мастеру, казалось, стало легче. Но, так как он все еще задыхался, а в комнате было жарко, Франческо осторожно распахнул окно.
Над ним раскинулось нежно-голубое небо, по которому медленно парили белоснежные голуби – словно живые облака, что плавно скользили сквозь свет пасхального утра. С их крыльев нежно доносился шелест – подобный тайному шепоту, сливаясь с мелодичным звоном колоколов, возносящихся издалека, призывающих к Воскресению и надежде.
Но умирающий уже не слышал ни звон колоколов, ни нежных крыльев. Его сознание погрузилось в тёмные видения: каменные глыбы, огромные и холодные, падали с небес, грозя раздавить его. Он пытался подняться, оттолкнуть их, освободиться – но тщетно. Эта нескончаемая борьба длилась бесконечно, словно тягучий кошмар без надежды.
И вдруг – с последним неимоверным усилием – Леонардо, как птица на исполинских крыльях, взмыл ввысь. В первый раз в жизни он ощущал эту высоту, этот безграничный полёт – взлет бесконечности, где время и пространство теряли всякий смысл. Сердце его наполняло блаженство, которое нельзя было ни описать, ни понять иначе как высшее наслаждение. Это была воплощённая мечта всей его жизни – стремление к бесконечности, к свету, к свободе.
Сердце Леонардо билось еще несколько дней – слабым, но неугасимым пульсом, словно последним отблеском закатного света. Он не приходил в сознание, и тело его пребывалo в полусне – между жизнью и бездной. Но вот, ранним утром 2 мая, Франческо заметил, что грудь великого Мастера больше не поднимается с прежней силой, а дыхание стало едва уловимым шепотом. В нем еще тлела искра жизни, тонкая свеча, быстро догоравшая на ветру, который вот-вот задул последний огонь.
Монах, стоявший неподалеку, начал тихо читать молитву отходную – слова, словно ласковые перья, омывали и обволакивали умирающую душу. Франческо, приглушая рыдания, приложил руку к груди учителя и ощутил – сердце перестало биться. Смерть, равнодушная к титулу и заслугам, забрала у мира этого гения, уравняв его с каждым смертным.
Душа Леонардо, словно освобожденная птица, отлетела ввысь, показывая пример немощному телу, которое всю жизнь тщетно стремилось к полету, но так и не могло взмыть выше земных оков.
С рыданиями Франческо прикрыл глаза Мастера, а затем, с болью, что рвалась наружу, бросился к кухарке Матурине:
– Это Салаи… Салаи погубил его!
Та, нежно обнимая и утешая, тихо шептала, а затем закрыла лицо руками, утирая слезы. Лицо Леонардо сохранило то же выражение, что и при жизни – глубокое, сосредоточенное, полное тихого внимания и непостижимой мудрости.
За темно-красным бархатным занавесом комнаты засияло раннее майское солнце. Его свет, теплый и живой, наполнил зелёные поляны и свежую листву платанов парка, где птицы пели свои первые песни, а цветы раскрывали нежные лепестки. Он так и не смог понять тайны той необъяснимой радости, которую приносит природа людям – радости, несмотря на всю бренность бытия.
Дубовые доски пола спальни, пропитанные многовековой историей, казались сейчас покрытыми золотом солнечных лучей. Из окна весело развевались в воздухе узкие флажки над башнями замка – символы жизни, продолжающейся без конца.
Радостная волна вечного обновления медленно разливалась по земле, и эта необъяснимая несправедливость – конец великой драмы, разыгранной на маленькой сцене его постели – казалась вопиющей и жестокой.
В это самое мгновение, снизу, из затенённой мастерской, где маэстро Леонардо проводил дни и ночи в трудах и размышлениях, влетел маленький воробушек – птица, которую он приучил хлебными крошками. Серое создание, словно тайный посланник судьбы, кружилось над телом великого Мастера, окружённым мерцающим светом погребальных свечей, пламя которых танцевало мутными бликами в нарастающем сиянии первого утреннего солнца. Воробей плавно опустился по привычке на сложенные руки покойника – как будто желая проститься, прикоснуться к душе, а потом внезапно встрепенулся, взвился к потолку и через открытое окно взмыл в светлое небо, весело чирикая.
Франческо, глядя вслед маленькому крылатому страннику, подумал: в последний раз учитель сделал то, что так любил – отпустил на волю пленницу, даря ей свободу. В памяти вдруг всплыла старая сказка, которую рассказывал ему когда-то сам Леонардо – сказка о завещании Орла.
Старый орел, что давно потерял счет годам, жил в гордом одиночестве среди неприступных скал. Но силы ему стали изменять, и он почувствовал, что конец его близок. Мощным призывным клекотом орел созвал своих сыновей, живших на склонах соседних гор. Когда все были в сборе, он оглядел каждого и молвил:
— Все вы вскормлены, взращены мной и с малых лет приучены смело смотреть солнцу в глаза. Вот отчего вы по праву летаете выше всех остальных птиц. И горе тому, кто посмеет приблизиться к вашему гнезду! Все живое трепещет перед вами. Но будьте великодушны и не чините зла слабым и беззащитным. Не забывайте старую добрую истину: бояться себя заставишь, а уважать не принудишь.
Молодые орлы с почтением внимали речам родителя.
— Дни мои сочтены, – продолжал тот. – Но в гнезде я не хочу умирать. Нет! В последний раз устремлюсь в заоблачную высь, куда смогут поднять меня крылья. Я полечу навстречу солнцу, чтобы в его лучах сжечь старые перья, и тотчас рухну в морскую пучину…
При этих словах воцарилась такая тишина, что даже горное эхо не осмелилось ее нарушить.
— Но знайте! – сказал отец сыновьям напоследок. – В этот самый миг должно свершиться чудо: из воды я вновь выйду молодым и сильным, чтобы прожить новую жизнь. И вас ждет та же участь. Таков наш орлиный жребий!
И вот, расправив крылья, старый орел поднялся в свой последний полет. Гордый и величавый, он сделал прощальный круг над скалой, где взрастил многочисленное потомство и прожил долгие годы.
Храня глубокое молчание, его сыновья наблюдали, как орел смело устремился навстречу солнцу…
Навстречу солнцу! – эхом прозвучало в сердце Франческо, когда вдруг издалека донеслось ржание лошадей и топот копыт – король Франциск и его рыцари из свиты стремглав гнали коней, надеясь успеть к замку и застать умирающего живым. Солнце уже стояло в зените, когда всадники ворвались во двор. Но тщетной оказалась их спешка: переступив порог, Франциск не смог сдержать слёз. Звонко и тяжело стуча каблуками по каменному полу, он бросился к постели Леонардо, опустился на колено и нежно приподнял голову своего великого друга, человека, что был ему ближе родных. Припав к холодной, безжизненной руке Мастера, его тело вздрагивало от рыдания.
В присутствии монарха монахи, наконец, прекратили бессмысленные споры, что казались неуместными в эти священные часы. Их взгляды были прикованы к королю – к мужчине, чья любовь и скорбь сильнее всяких слов. Лишь смерть могла положить конец их бесконечным дебатам о вечной истине.
Верная служанка Матурина, вместе с опытной помощницей из соседней деревушки, взялись за омовение тела. Вторая не скрывала удивления: несмотря на паралич и иссохшие конечности, кожа Леонардо была удивительно гладкой, а мускулатура – крепкой, словно до последнего он сохранял связь с жизнью. Какая жестокая и властная была смерть, демонстрируя сейчас своё полное верховенство над жизнью, ликуя над поверженным гигантом!
По последней воле маэстро, тело пролежало в той же комнате ещё три дня – месте его последней, величайшей битвы с природой. Франческо Мельци позаботился о том, чтобы похороны прошли с честью, и чтобы никто не сомневался: Леонардо умер как истинный сын католической церкви. Однако народная молва, как два спорящих монаха, не унималась, обсуждая жизнь и смерть великого человека.
Вечный покой Леонардо был обретён в монастыре Сен-Флорентен. По пути на кладбище шли шестидесятники, неся шестьдесят свечей, и шестидесят нищих, которым Леонардо завещал милостыню. В четырёх церквах Амбуаза отслужили три больших и тридцать малых обедов, а семьдесят туренских су были розданы бедным и больным в городской больнице Сен-Лазар. На могильном камне вырезали слова, которые навсегда будут звучать как молитва:
«В стенах этого монастыря покоится прах Леонардо из Винчи, величайшего художника, инженера и зодчего Французского королевства».
Спустя месяц, немного оправившись от отчаяния, Франческо Мельци писал во Флоренцию, сообщая о смерти учителя его братьям по отцу:
«Сер Джулиано и братьям, с почтением. Я полагаю, вы получили известие о смерти мессера Леонардо да Винчи, вашего брата. Горя, причиненного мне смертью того, кто был для меня больше, чем отец, выразить я не могу. Но, пока жив, буду скорбеть о нем, потому что он любил меня великой и нежной любовью. Да и всякий, полагаю, должен скорбеть об утрате такого человека, ибо другого подобного природа не может создать. Ныне, всемогущий Боже, даруй ему вечный покой».
Горе угнетало Мельци так сильно, что он едва не сломался под его тяжестью. Но ему выпала великая ответственность – стать хранителем огромного наследия Учителя. Он стал обладателем бесчисленных томов, насыщенных рисунками и записями Леонардо. Забрав их с собой в Милан, Франческо с трепетом хранил их словно священные реликвии, пытаясь из этого необъятного и беспорядочного собрания собрать хотя бы одну книгу – «Трактат о живописи», над которым Мастер трудился последние двадцать пять лет своей жизни, но так и не довел до конца.
К сожалению, для последующих поколений судьба распорядилась иначе: Мельци не оставил ни воспоминаний о Леонардо, ни комментариев к его трудам, хотя бережно хранил их в течение полувека. Умирая, он завещал рукописи своему приёмному сыну Орацио, будучи уверен, что тот продолжит заботиться о них с такой же любовью.
Увы, судьба распорядилась иначе. Спустя годы Орацио распорядился отправить древние манускрипты на чердак, называя их «какими-то бумагами некоего Леонардо, скончавшегося пятьдесят лет назад». Так началась безжалостная утрата наследия Гения. Часть манускриптов была растерзана и похищена, другая часть передана скульптору Помпео Леони, обещавшему передать их королю Испании. Множество же рукописей было безжалостно уничтожено по глупости и невежству – страшной язве, которая пролегает между человеком и знанием. Невежество – упрямый отказ от познания; оно ненавидит всё непонятное и отвергает то, что требует напряжения мысли и готовности менять угол зрения.
Тем не менее, несмотря на варварские утраты, до наших дней дошли тысячи страниц рукописей Леонардо. Четырнадцать из них нашли своё место в Амброзианской библиотеке в Милане, а по приказу Наполеона тринадцать были вывезены во Францию – среди них знаменитый «Атлантический кодекс», который позднее вернулся в Милан. Многие другие манускрипты, претерпевшие испытания временем и дорогами, обрели убежище в Виндзорской королевской библиотеке, Британском музее, библиотеке наук и искусств Восточного Кингстона, библиотеке Холкан Холл Лорда Лестера.
Самый объёмный из них – «Атлантический кодекс» – состоит из 1222 переплетённых страниц, разбросанных без всякой логической системы, в соответствии с минутными порывами и настроениями их автора. На одних и тех же листах встречаются математические вычисления, эскизы, геометрические задачи, хозяйственные расчёты, анатомические рисунки, наблюдения о приливах и отливах, представления о работе глаза и испарении воды Средиземного моря, формулы и чертежи – многие из которых до сих пор остаются загадкой для учёных.
Но что несомненно – так это безграничный горизонт мысли Леонардо, его жажда постичь и исследовать мир до мельчайших деталей, его бесконечное стремление проникнуть в тайны бытия…
* * *
И вновь вознёсся колокольный звон – тот самый, что по приказу короля Франциска сопровождал похоронную процессию великого Мастера. Его завораживающая сила, невероятная мощь и благодатная красота поднимали дух, объединяли и исцеляли души скорбящих, оставляя в сердцах тихий свет надежды и памяти о человеке, чей гений навсегда вошёл в вечность.
Глава 3
Колокольный звон, казавшийся неумолчно звучащим с ночи, разбудил Марко. Он с трудом открыл глаза и только спустя несколько секунд понял, что это был не перезвон погребальных колоколов, а настойчивый сигнал будильника. Электронный циферблат показывал 7:30. Он лежал, не в силах сразу встать: тело ломило, и по нему разливалась тяжёлая, гнетущая вялость. Видения прошедшей ночи были слишком явственными, словно он сам держал за руку умирающего Леонардо.
Наконец, поднявшись с постели, Марко побрёл на кухню. Выпил стакан холодной воды, тщательно почистил зубы, умылся – все эти ритуалы словно возвращали его к реальности, но не развеивали внутреннюю смуту. Он машинально заварил себе кофе. Горячая, терпкая жидкость с лёгкой горчинкой согревала, но не пробуждала.
За окном, как и обещали синоптики, хмурилось. Плотный слой облаков висел над Флоренцией, и Марко, собираясь, надел лёгкий серый шарф – подарок матери на День Ангела. Изделие тончайшей работы от Tranini, сочетающее шерсть ягнёнка и шёлк, он любил не только за мягкость, но и за тепло, с которым оно было вручено. Эстет до мозга костей, он даже в будний, неприметный день не мог одеться иначе, чем утончённо и с вкусом.
Надев кожаные перчатки и прихватив подмышку старого спутника – зонт-трость, верного друга ещё с учёбы в Лондоне, – он проверил карманы и взял портфель с конспектами. Зонт был строг и элегантен, с безупречным лаком и никелированным кольцом у основания. Вот уже почти девять лет он сопровождал профессора и не подводил ни разу, служа одинаково преданно и в дождь, и под палящим тосканским солнцем.
Марко бросил взгляд на часы: 8:30. В прихожей, в специальном шкафчике, не было свежих газет.
– Джеронимо ещё не приходил… – пробормотал он и тут же одёрнул себя. – Ну конечно, он никогда и не приносит их так рано…
Он раскрыл зонт, вышел из дома и направился по знакомому маршруту в сторону университета. Мокрая брусчатка блестела под редким дождём, и, казалось, даже старинные стены Флоренции дышали тяжёлой, затуманенной тоской, отголоском тех снов, что не отпускали его сознание.
На ещё вчера безмятежном небе теперь вились тяжёлые, свинцово-серые тучи. Они не просто плыли – они давили на горизонт, нависая над городом, словно навязчивые мысли над утомлённым разумом. Солнце, утратив уверенность, сникло, как актёр, забывший роль, и теперь едва просвечивало сквозь неповоротливые, нахмуренные громады.
Сверкнула молния – быстрая, как пощёчина, как удар исподтишка. За ней, через несколько тягостных секунд, последовал глухой рокот грома, будто старый каменный собор заговорил из-под земли. Всё это напоминало приближение не столько весны, сколько суда. Вот-вот небо прорвётся, и его неумолимое горе обрушится на землю…
Марко съёжился, инстинктивно поправив шарф. Он чувствовал, как вкрадчивый холод забирается под воротник, как его тело замирает в предчувствии – не столько непогоды, сколько некоего судьбоносного поворота. Ветер рванул зонт, и всё вокруг содрогнулось в первом вздохе бури.
А тем временем деревья, трава, лепестки цветов будто оживали. Они дрожали от восторга – от той самой влаги, которая вгрызалась в кожу Марко и заставляла его ежиться. Капли дождя сначала робко падали, растворяясь в жадной земле. Потом – крупнее, настойчивее, шумнее. Они сталкивались, сбивались в струи, в шуршащие, нетерпеливые потоки, и вот уже небеса раскрылись во всю ширь, и вода хлынула с силой, как если бы само небо оплакивало то, что должно было произойти.
Весна вступала в свои законные права, но её торжество почему-то не радовало. В воздухе ощущалась тревога, и на душе у Марко было как-то муторно и беспричинно тяжело. Только мысль о том, что после дождя небо, возможно, одарит землю первой радугой – лёгкой, зыбкой, как надежда – приносила краткое утешение.
Когда дождь окончательно превратился в сплошной поток, Марко понял: дальше идти пешком – бессмысленно. Он остановил проезжавшее мимо такси. За рулём – типичный мигрант с Востока, словоохотливый и предприимчивый. Он с ходу назвал завышенную цену – ловкий приём, чтобы получить как можно больше с первого утреннего пассажира.
Таксист говорил без умолку, яростно жестикулируя, как будто пытался не убедить, а буквально вколотить свои жалобы в сознание собеседника. Сквозь акцент и обрывки слов Марко уловил суть: правительство хочет ввести лицензирование, поднять тарифы, и – как всегда – никто не думает о маленьком человеке.
Чтобы отвлечься от назойливого потока жалоб, Марко прикрыл глаза. Машина мчалась вдоль набережной Арно, и его тело расслабилось, поддавшись лёгкой дремоте. В голове ещё кружились остатки сна о Леонардо, но всё больше уступали место странному, расплывчатому предчувствию. Он почти ощутил тепло, разлившееся по телу…
И вдруг – жуткий скрежет. Резкий толчок. Что-то ударило по голове. Мир вывернулся наизнанку. Всё исчезло: свет, звук, мысль. Только боль. Боль и ощущение, что он летит – вниз, в пустоту. Или вверх? Он не знал. Пространство исчезло. Осталась только тьма…
* * *
Спустя всего пять минут после трагедии на экранах итальянского телеканала TgCom 24 замелькали тревожные ленты:
«На набережной реки Арно, в самом сердце Флоренции, недалеко от знаменитых мостов Понте Веккьо и Понте алле Грацие – треснул асфальт!»
Камеры вертелись, ловя кадры, от которых перехватывало дыхание: расколовшаяся земля, зияющая провальная трещина длиной около двухсот метров, в которую с глухим грохотом провалились два десятка припаркованных автомобилей. Некоторые из них исчезли в бездне почти бесследно. Два других, ещё с находившимися внутри пассажирами, зависли над пустотой, словно в последнем, отчаянном попытке удержаться в этом мире.
Тревожные сообщения сменяли друг друга. Передавалось, что есть пострадавшие, а с экрана уже демонстрировались первые фотографии изувеченных машин и людей в шоковом состоянии. Другие телеканалы мгновенно подхватили тему. Новостная волна накрыла страну. Ведущие с озабоченными лицами цитировали представителей мэрии: «Существует реальная угроза повторного обрушения дорожного полотна. Территория оцеплена. Опасность сохраняется».
Правоохранительные органы в срочном порядке опубликовали первые предварительные версии: причиной катастрофы мог стать дефект в подземных инженерных сетях. Однако спустя считанные часы версия сменилась: якобы всему виной подземные воды, постепенно размывавшие почву под дорожным покрытием. Представители мэрии поторопились озвучить третью – самую «официальную» версию: «Произошёл прорыв трубы городской водопроводной системы. Ситуация – под контролем».
На месте трагедии работали пожарные бригады, сотрудники коммунальных служб, четыре кареты скорой помощи. Дорожная полиция спешно перекрыла движение вдоль набережной. В воздухе звенела сиренами паника, гулом стояло напряжение, и казалось, сама земля пыталась напомнить городу, построенному на арках и мостах, как зыбка и ненадёжна под ним плоть.
* * *
Через одно из самых живописных мест Флоренции – площадь Сан-Пьер-Маджоре, где в суматохе утреннего рынка зеленели пучки рукколы, поблёскивали боками груши и наливались соком апельсины, где звенели голоса продавцов и сновали нетерпеливые покупатели, – быстрым, решительным шагом шла высокая, стройная женщина. Казалось, её шаги знали точку назначения, будто она направлялась на давно ожидаемую встречу – важную, быть может, даже судьбоносную.
Она выделялась среди толпы не одеждой – хоть и была одета со вкусом, – а именно осанкой. Тончайшее искусство ходьбы – это было её. Носки её туфель чуть развернуты в стороны, а пятки касались одной линии – это не шаг, а танец. Подбородок поднят, плечи отведены назад, мягко и свободно опущены вниз. Она шла, словно шла к алтарю, с достоинством, которому можно было бы позавидовать герцогини эпохи Возрождения.
Миновав башню Донати и обдав лицо ароматами из ближайшей пиццерии, она грациозно скользнула в узкую арку, где её взгляд на краткий миг столкнулся с глазами двух нищих и их собакой. Они сидели у стены, безмолвные, как живописный натюрморт – часть неизменного, вечного пейзажа города. Здесь, в этой каменной глотке между старинными домами, днём будет людно, многолюдно: будут гудеть рестораны, дышать чесноком винные лавки и щёлкать зубами сэндвич-бары, чудом уместившиеся в этих покатых, вечных арках. Сейчас же – утро, тишина, и её шаги звучали особенно ясно.
Пройдя сквозь арку, она вышла на улицу Сант-Эджидио и, как призрак времени, приблизилась к древней больнице – Санта-Мария-Нуова, старейшей из ныне действующих во всей Флоренции. Фасад её был заставлен бюстами последних Медичи – каменные лики, словно наблюдатели из прошлого, встречали каждого, кто подходил к вратам этого храма милосердия.
Основанная в самом конце XIII века Фолько Портинари, отцом той самой Беатриче, которую возлюбил Данте, – больница с тех пор стала местом, где пересекались история, искусство и сострадание. Но душой и сердцем её была вовсе не знатная фигура покровителя, а женщина – Монна Тесса, бывшая гувернантка шестерых дочерей Фолько. Она, следуя заветам святого Франциска Ассизского, возложила на себя заботу о больных с той нежностью и смирением, которое не часто встретишь даже в церквях. Её благоговейная любовь к страдающим вписалась в стены госпиталя так же прочно, как и фрески, украшавшие его коридоры.
Эти стены дышали искусством. Благочестивые горожане, купцы, вельможи – все, кто мог, жертвовали на благоустройство этого священного места. Для его убранства приглашали лучших мастеров, и некоторые из них – величайшие имена эпохи. Время многое унесло: фрески были сняты со стен и перемещены в музеи, картины рассеялись по коллекциям, но дух места остался.
Перед фасадом госпиталя – портик, созданный Бернардо Буонталенти, тот же, кто спроектировал и причудливую лестницу, ведущую к алтарю. У её подножия покоится прах основателя. В устав, составленный его рукой, было внесено золотое правило, которое могло бы быть эпиграфом ко всей истории человечности: