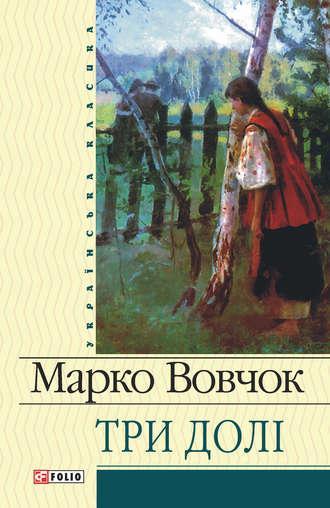
Полная версия
Три долі
– А как думаешь, любезный человек, коли у кого нет колдовской бандуры, так тому уж и не узнать, что ты ел колбасу, а? – с милостивою шутливостью спросил боярин.
– В Священном Писании сказано: «Нет такого тайного дела, чтобы оно, рано или поздно, не вышло на чистую воду», – отвечал бандурист, – а все-таки мы, грешники (я не про вас это, добродию, говорю), вдоволь настраиваем всяких тайных штук! Иной такой строитель весь свой век такие хоромы выводит, что бес от радости только за живот хватается, а все шито и крыто. Но, – прибавил бандурист докторальным, торжественным тоном, – коли не на этом, то на том свете всякому злому деянию воздается должная плата.
– Платят иному и на этом свете, – заметил боярин не столь докторальным, как значительным тоном.
– Платят, добродию, платят, – ответил бандурист ничуть не знаменательным, но просто тем довольным, торжествующим тоном, каким благочестивые люди предсказывают кару язычникам и грешникам.
– Платят, платят, – повторил боярин.
Казалось, боярина, праздного и скучающего, очень занял странствующий певец и беседа с ним забавляла капризного в своих благосклонности и презрении вельможу.
Пан гетман, сидя по-прежнему, с сложенными руками, однако, не представлял уже человека, унесшегося в мир горний – совершенно напротив: его, казалось, обуяла страшная тревога, и от времени до времени, пользуясь тем, что именитый гость стоял к нему спиною, он обращал, как бы взывая о помощи, испуганные глаза на пана братчика, тихо вышедшего тоже на рундук и спокойно, по-видимому, слушавшего беседу боярина с бандуристом, и своим спокойствием как бы говорившего пану гетману:
– Пока еще ничего, пока еще нечего пугаться. Увидим, что дальше будет.
Но еще чаще пан гетман обращал взывающие о помощи глаза на пани братчиху и, получая на свои десять растерянных взглядов один, приводящий его мгновенно в себя, тихонько вздыхал, потирал лоб рукою и старался принять вид, приличный мужу высокого сана.
Пани гетманша, видимо не разумеющая, но инстинктивно чувствующая, что все тайно заняты чем-то важным, что где-то кроется близкая опасность, некоторое время наблюдала за всеми, но потом, как бы сознав тщету своих наблюдений, снова погрузилась в смиренную задумчивость, представлявшую большое сходство с дремотой.
Неизвестно, долго ли еще продлилась бы беседа боярина с странствующим певцом, если бы пани братчиха не встала с своего места и, проходя в сад, не потревожила боярина, который как раз поместился на дороге.
– Позвольте пройти, – сказала пани братчиха с почтительным низким поклоном.
Боярин поспешно, даже стремительно дал ей дорогу, красивое лицо его заметно вспыхнуло, и он, как бы застигнутый врасплох чем-то неожиданным, долго смотрел вслед стройной фигуре, спокойно исчезавшей в густой зелени цветущего сада.
Затем он снова обратился было к бандуристу, но только взглянул на него, а уж не вымолвил ни слова.
Находчивым, сметливым, беспечным боярином вдруг овладела какая-то неотступная забота, но нельзя сказать, чтобы забота только тяжелая, потому что лицо его не раз вспыхивало и оживлялось чем-то радостным.
– А что, давно ты был в Чигирине? – спросил он бандуриста, обратив на его лицо тот неопределенный взгляд, которым смотрят люди, всецело занятые своими делами и только машинально произносящие какие-нибудь, утратившие для них интерес, слова.
– Э, в Чигирин теперь трудно пробраться, добродию, – отвечал бандурист, – повсюду войско, ляхи, татарва… По всему шляху так и зыгзают пули… Кому белый свет опостылел, тот пусть только туда двинется – его дело справлено. Я, признаться, и то перетрухнул порядком. Наслушался всяких таких рассказов про тамошнюю резню от одного земляка, Ивана Дудника, иду и раздумываю: «А что, коли на меня наскочит какой-нибудь нехрист?» И вдруг слышу, земля гудет. Глядь, прямо на меня несется что-то черное. А я шел степным шляхом, кругом только степь без краю. Вижу я, несется что-то черное, а за ним другое, за другим третье, пятое, десятое – мне померещилась целая орда. Ну, думаю, пришел мой конец! А все-таки, присяду в траву – может, пронесет их дидько [17]. И пластом, эдак, на землю растянулся и лежу – не дышу, а сам думаю: «А ну, как растопчут?» И вот слышу, храпит что-то около самого моего правого уха и траву рвет, и все ближе, и ближе, ближе. Я так и замер… Только что я выговариваю: «Господи! отпусти мои согрешения!», – как меня кто-то рванет за чуб. Я рявкнул на всю степь… Что ж вы думаете, добродию? Это какая-то проклятая телка такого страху мне задала и чуть чуб не откусила. Из погорелых хуторов весь скот загнали в степь, и скот этот тут одичал. Телки затеяли игру, побегали себе, да и стали пастись, и одна вот чуть не попаслась моим чубом… Перетрухнул я тогда! Вот уж правду-то говорят, что у страха очи по яблоку! Да как его не испугаться, коли страшно? И не хочешь, да испугаешься. И самые храбрые храбры только до поры, до времени. Вот был у меня земляк, он уж теперь умер, царство ему небесное, место покойное, пускай его душенька там прохлаждается между райскими цветами да сладкими медами! – и земляк этот ничего на свете не боялся. Только раз…
Тут боярин, слушавший всю предыдущую речь рассеянно, перебил старого бандуриста.
– Девочка твоя изморилась, – промолвил он.
– Изморилась, добродию, – ответил бандурист.
– На тебе грошик, купи себе пряник, – сказал боярин девочке.
Он протянул ей несколько монет.
– Что ж ты не берешь? Ты живая или каменная, а?
Девочка сидела все время так тихо и неподвижно, что ее в самом деле можно было принять за каменную, если бы не ее ясные глаза, да не живой, ярко вспыхнувший на загорелых щеках румянец.
– Благодари, Маруся, благодари пана, – сказал бандурист. – Она у меня застенчивая, добродию, глупая; вы ее простите… Благодари пана, благодари!
Маруся встала и поклонилась.
Но благосклонный вельможа, наградивший ее щедрым подаянием, уже не видал этого благодарственного поклона.
Как бы движимый какой-то непреодолимою силою, он направился к дверям во внутренние светлицы.
На пороге он, однако, остановился, оглянулся на пана гетмана, ясно увидел на его лице то выражение, какое бывает у человека, наконец освободившегося от душившей его петли, отлично уразумел это выражение, взялся рукой за притолку, как бы желая удержаться этим искусственным средством на своем посту, и на губах его появилась улыбка, выразительно говорившая:
– Эх, вы! вам ли обморочить меня?
Но в это время из глубины сада донеслось пение. Мягкий, низкий голос пел украинскую песню:
Тиха вода береги понімає,Великий пан до мене прибуваєА у мене думуЯк на морі шумуПри первых же звуках этого голоса боярские пальцы, сначала так крепко уцепившиеся за притолку, что совершенно побелели, вдруг ослабели, разжались, на боярском лице мелькнуло: «Пропадай все на свете, а я упьюсь этим хмелем!», и, тряхнув своими роскошными русыми кудрями, боярин скрылся.
XXI
– Что, далеко еще итти? – спросила Маруся.
– Утомилась, ясочка? – спросил сечевик.
– Нет, не утомилась. Я только хочу знать, далеко ли еще итти.
– Не далеко. Вон видишь впереди, направо, лес? В этом лесу мы и отдохнем. Да, может, утомилась, а?
– Нет, нет, право, нет!
Но он все-таки наклонился и заглянул нежно и заботливо в загорелое личико.
– Не утомилась? – повторил он. – Кто лукавит, знаешь, что тому бывает на том свете? Не доведется тебе горячую сковородку лизать, а?
– Не доведется, – ответила Маруся, и белые ее зубки сверкнули из-за свежих уст.
Подумав с минуту, она обратила свои темные сияющие глаза на спутника и прибавила:
– Да я лучше лизну, чем останавливаться!
– Я полагаю, лучше вот так сделать! – ответил он.
И, наклонившись, поднял юную софистку на руках и понес ее, как легкое перышко.
– Нет, нет… – вскрикнула она. – Я сама пойду, я сама…
Но могучие руки крепко ее придержали, и тихо сказанные слова: «Сиди смирно, моя ясочка!» – уничтожили всякое сопротивление. Она обняла смуглую, как темная, полированная бронза и, казалось, как бронза, крепкую шею и прилегла головой к богатырскому плечу.
День начинал клониться к вечеру, и не было уже полдневного палящего зноя; дорога или, правильнее говоря, тропинка, шла то по полю, по узеньким межам, между высоким, густым, как очерет, житом, то по небольшим дубравкам, преисполненным цветов, гнезд, благоуханий, разногласных и разноперых птиц, радужных бабочек, диких пчел, изумрудных кузнечиков, золотых игл солнечных лучей и прохлады. Время от времени, где-нибудь вдали показывалась колокольня сельской церкви, сверкало озерцо, речка или пруд, расстилался, как темный бархат, широкий луг, виднелась деревня, блистающая белыми хатами, пестреющая цветущими огородами, зеленеющая садиками, или белел из-за деревьев одинокий хутор.
– Видишь, сколько волошек и куколю в жите? – сказал сечевик.
И несказанно мягко было выражение его закаленного и непогодами и суровою жизнью лица, когда он приостановился и показывал уютившейся на его сильных руках девочке бархатистые чашечки синих васильков и малинового куколю, мелькающие между сплошными, прохваченными солнцем, бледно-зелеными колосьями ржи.
– Знаешь что, Маруся? Здесь стоит присесть да венок сплести! – продолжал он. – Славный венок будет! Такой славный, что и не сказать!
Говоря это, он бережно спустил девочку на землю, тихонько посадил ее на темную мураву межи и, протянув свою длинную, могучую руку в жито, начал рвать васильки и куколь, оглянувшись на нее с улыбкой и промолвив:
– Ты сиди смирно, Маруся!
Маруся сидела смирно и следила за каждым его движеньем, а он, время от времени, оборачивался к ней и, показывая цветок, вырванный с корнем непривычною к такому деликатному занятию рукой, смеялся и весело критиковал свое неуклюжество.
– Вот оно! – говорил он, – заставь дурня Богу молиться, так он и лоб расшибет! Ловкий я молодец! Другого такого ловкача и не найти! Пошли медведя гоняться за перепелками, так и медведю, пожалуй, до моей легкости и до моего проворства далеко…
– Довольно, довольно, – сказала Маруся, сбирая обсыпавшие ее со всех сторон цветы.
– А может, еще? – возразил сечевик. – Вот славный цветочек – пышный такой, что диво!
Он протянул ей василек, в самом деле отличающийся особою величиною и свежестью, а затем сел с нею рядом и с большим вниманием и интересом начал следить то за работой загорелых ручек, быстро и искусно сплетающих цветы в венок, то за изменениями личика, наклоненного над этою работой.
– О чем задумалась, Маруся? – спросил он. – Что вспомнила?
Или он был очень хороший чтец физиономий, или хорошо изучил эту физиономию, только он не ошибся.
– Я вспомнила, как мы плели венки дома, – ответила Маруся.
– Тоскуешь по своим?
– Нет, ничего…
Но плетенье венка внезапно приостановилось, потому что большие темные глаза застлались слезами.
– Очень тоскуешь, мое сердце?
Слезы крупные, обильные быстро покатились по щекам, ручки выпустили цветы и быстро закрыли личико, из груди вырвалось тихое рыданье.
Однако она скоро победила это, застигнувшее ее врасплох, волнение и, отирая рукавами слезы, обратила влажные глаза на спутника и повторила еще дрожащим голосом, но уже с улыбкой:
– Нет, ничего…
Чувствуя, однако, что слезы опять набегают, она, все-таки, улыбаясь, прибавила:
– А очень горяча сковорода, которую дают лизать на том свете?
Не получая ответа и видя, что лицо его омрачилось, она тихонько дотронулась до его плеча. Он сказал тогда:
– Тяжко тебе, Маруся?
– Ведь и тебе тяжко, – ответила она, – и всем?
– Да, всем.
– Пойдем.
– Пойдем.
Они взялись за руку и пошли дальше.
Скоро в стороне показалось селение, к которому вела узкая езженная дорога, пересекавшая межу, по которой шли наши путники.
– Видишь, Маруся, село?
– Вижу, – ответила Маруся.
– Большое село?
– Большое.
– Ну, чем больше село, тем больше в нем жен, матерей, сестер и невест, которые плачут, потому что по этой дороге много ушло мужьев, братьев, женихов и отцов на битву, и никто не знает, сколько из них воротится. Времена тяжкие, Маруся, понимаешь?
– Понимаю, – ответила Маруся. Несколько времени они шли молча.
Синевший лес, на который указал сечевик, как на место отдыха, по мере приближенья к нему переходил в зеленый цвет, затем обозначились темные листья дубов и кудрявая зелень берез на опушке.
– Вот мы и пришли, – сказал сечевик, разводя ветки и проникая в чащу.
– Какая тут прохлада! – продолжал он. – Сейчас отыщем уютное местечко и отдохнем.
Пришлось, однако, отыскивать такое местечко дольше, чем думалось; гущина была такая, что нельзя было ступить шагу свободно; кроме древесных ветвей, которые хлестали в лицо, кроме шиповников, которые вцепливались в волосы и в платье и царапали острыми шипами, кроме повалившихся деревьев, которые преграждали путь, перед ними еще расстилались повилики снизу и сети хмелю сверху.
Но сечевик, вероятно, знал, куда идет, потому что не раз приостанавливался, смотрел по сторонам, соображал и снова принимался раздвигать ветви и рвать плетеницы вьющейся зелени.
Наконец, они выбрались на такое место, где можно было свободно стать и сесть.
– Отдохни, Маруся, – сказал сечевик, – таких оксамитов и у самого вельможного пана гетмана не имеется, какие вырастают под этим дубом! Вот иди-ка сюда… И сам дуб ничего себе деревцо.
«Ничего себе деревцо» далеко раскидывало величественные ветки и образовало что-то вроде зеленого храма, где было тихо, темно и прохладно. Лучи солнца сюда не проникали, и только видно было, как они пронизывали листву окружающих деревьев или падали светлыми пятнами и полосами на их корни и стволы.
Неподалеку от дуба стоял высокий старый пень, совершенно потемневший, не являвший никаких признаков жизни, а между тем, на одном сгнившем его боку зеленело что-то.
Марусины глаза очень скоро усмотрели необычайное явление, но Маруся, по-видимому, сделала замечательные успехи в сдержанности после того, как вы видели ее в погорелой деревне, у колодца, где ее поразил вид свежей зелени, плавающей в засоренной кринице, потому что теперь она не только не вскрикнула, но даже слова не промолвила, даже недолго глядела на обративший ее внимание предмет.
Все это не укрылось от зоркого сечевика.
Взяв с верхушки сухого пня еще не завядшую ветку калины, он бросил ее Марусе на колени и сказал с улыбкой:
– С тобою, Маруся милая, можно дела вести. Э! кабы все-то такие дельцы были, как ты!
В эту самую минуту откуда-то из глубины леса донеслось что-то, похожее на крик пугача [18].
– Рано пугач закричал, так и голоса не выводит, – заметил сечевик. – Добрые пугачи вот как пугают!
Он приложил два пальца к губам, и из его уст раскатилось такое «пугу», которого бы не постыдился самый голосистый из кровных пугачей.
И это «пугу» подействовало: с трех сторон раздались ответные крики птенцов.
– Посиди тут, Маруся, – сказал сечевик, – я скоро ворочусь.
– Хорошо, – ответила Маруся.
Сечевик раздвинул ветви и тиснулся в чащу, но вдруг остановился, обернулся к Марусе и проговорил:
– Не скучай, Маруся!
– Не буду, – ответила Маруся.
Они обменялись улыбками, которые стоили всевозможных слов и ласк, и сечевик скрылся.
XXII
Маруся прислушивалась к тихому треску сучьев и шелесту веток до тех пор, пока они совершенно замерли, затем опустила голову и раздумалась.
Ей было о чем призадуматься: столько неожиданного и таинственного случилось с ней в последнее время, столько важных, всемогущих людей она перевидала!
А главное, столько во всем этом было для нее, все-таки, темного и непонятного!
Она все время точно ходила по краям каких-то невидимых, но живо чувствуемых пропастей.
– И отчего это люди бывают такие недобрые? – думала она.
И в детском, не развившемся еще уме возникал целый ряд тех общественных вопросов, от которых нередко ломит головы самых опытных мыслителей.
Время от времени, измученная этими тяжелыми мыслями, на которые не находилось у нее других ответов, кроме, «воля Божия», «попущенье Божие», она поднимала голову и оглядывалась кругом.
Удивительная лесная тишина и прохлада освежали и нежили ее донельзя измученное, усталое долгими странствованиями и беспрерывными душевными тревогами тело, но, в то же время, при ее смятенном состоянии духа, были для нее чем-то вроде пытки.
Никакого ответа не давала эта спокойная, равнодушная природа.
Если сравненье юной, свежей, терзаемой заботами души с цветущей розой, угнетаемой терниями, подходило к кому-нибудь, так это к спутнице бандуриста, которая сидела теперь под наметом старого дуба, чуть видная из-за зелени.
В лесу мало-помалу темнело, словно чья-то невидимая рука надвигала на него шапку. Светлые полосы и пятна, падавшие на древесные корни и стволы, исчезли; только пронизывались еще тонкие стрелки пурпурового заката.
Маруся вдруг вышла из-под дуба, живая тревога настоящей минуты поглотила все остальные тревоги, заботы и недоуменья.
– Сказал: скоро ворочусь! – проговорила она. – И ничего не слышно!
Да, ничего не было слышно, как она ни прислушивалась. Зеленый лес стоял кругом стеною; даже птичий крик не нарушал безмолвия этой чащи, даже ветер не шелестел листвою.
Вдруг раздался выстрел, один, другой…
Маруся выпрямилась, как под влиянием электричества.
Еще выстрел.
И все тихо и глухо. Напряженный слух ничего не улавливает.
Так прошло еще несколько времени, сколько именно – неизвестно, но Марусе оно стало за долгое.
Сначала она часто вставала, ходила, прислушивалась, потом, утомившись этими волненьями, осталась на старом месте, под дубом, неподвижно, как изваянная.
Она даже и тогда не поднялась, когда очень явственно послышался шорох, только щеки у нее вспыхнули и глаза тоскливо устремились в ту сторону.
На этот раз надежда была не напрасная; ветки раздвинулись, и знакомое лицо показалось между их заколебавшеюся зеленью.
Но это лицо было до того бледно, что радостный крик замер на устах девочки.
– Маруся, – сказал сечевик, – вот видишь ты, червоная хустка, видишь?
– Вижу, – ответила Маруся.
– Я выведу тебя на дорогу… иди по этой дороге все прямо… Прямо, через дубровку, пока дойдешь до мостика… За этим мостиком будет другая дубровка… и дорожка… ступай по дорожке в эту дубровку… Встретится тебе человек, скажет: «Помогай Боже, Маруся!» – Ты отдай ему эту хустку и скажи: «Бог помогает!»… Слышала?… Будешь помнить, Маруся?…
Он говорил все это внятно, но с чересчур уже большими расстановками; лицо его становилось все бледнее и бледнее, крупные капли пота капали со лба, и стоял он не так, как всегда, не прямо, а прилегая плечом к дереву.
– Иди, Маруся? Ты пойдешь?
– Пойду, – отвечала она. – Что у тебя болит?
– Ничего, Маруся, заживет, мое сердце! Иди… Он взял ее за руку.
– Какая у тебя холодная рука! – вскрикнула она.
– Не до моей теперь руки, моя ясочка. Спеши скорее… Отдай хустку… Сюда… Иди… – сказал он так убедительно и серьезно, что она уже больше не посмела спрашивать.
Он хотел раздвинуть ветки, но не мог. Вид такой слабости в человеке, на которого она привыкла смотреть, как на олицетворение всех сил физических и нравственных, поразил Марусю. Она сама страшно побледнела, но, свято исполняя выраженное им желание, ничего не сказала.
Чьи-то другие руки – мускулистые и грубые – свои, рабочие, как тотчас же признала Маруся, вдруг вытянулись и раздвинули сучья.
– Не бойся, Маруся, – проговорил сечевик, – это мой товарищ… Он только чужих кусает… Правда, Иване?
– Разумеется, правда, – ответил густой бас, судя по которому было легко поверить, что обладатель его, коли захочет, то укусить может.
Вслед за этим ответом Маруся увидала сначала, высоко между листьями, небольшую голову, смуглое лицо с светлыми усами и пару блестящих глаз, а потом длинную мужскую фигуру, которая быстро двинулась вперед, прокладывая перед ними путь.
– Вот это и есть товарищ мой, Иван, – сказал сечевик Марусе. – Видишь, какой: дубы в лесу перерос.
Иван, двигаясь вперед, несколько раз приостанавливался и оглядывался на товарища, как бы ожидая, не понадобится ли ему какая помощь, но в таких случаях сечевик каждый раз говорил ему:
– Иди, иди, Иване… Чего ж ты стал? Может, ты задумал собирать цветки в траве или грибов поискать хочешь?
И Иван опять двигался дальше.
Гораздо скорее, чем ожидала Маруся, выбрались они на опушку леса.
С этой стороны у самой опушки начались поля, и узенькая межа между цветущей гречихой, над которой жужжал рой пчел, сводила на черную проселочную дорогу, которая правильными, как издали представлялось, вавилонами вилась к обозначавшемуся на горизонте селению, пересекая по пути две небольшие дубровки.
– Видишь, Маруся, вот дубровка… та, последняя… Иди, моя ясочка, иди… Вот хустка…
Он показал ей точно такую же хустку, какую она раз подняла на церковном крыльце и подала гетманской пани братчихе.
Маруся взяла хустку, хотела итти, но тихо вскрикнула и остановилась.
Сечевик, который положил ей ласкающую руку на голову, вдруг зашатался и, не будь товарища Ивана, наверное бы упал.
– Кровь! кровь! – вскрикнула Маруся в ужасе.
Кровь, точно, свежая, теплая кровь просачивалась сквозь ветхую свитку старого бандуриста.
– Ничего, Маруся, ничего, – проговорил сечевик. – Помнишь, что мы с тобой говорили? Не тот козак, что за водой плывет… а тот, что против воды… Это заживет… Мы ведь с тобой пустились не ягоду малину рвать… сладкого и ждать нечего… Иди, моя ясочка… иди… Надень хустку на голову…
– А ты? – спросила Маруся, дрожащими ручками повязываясь по его совету червоною хусткою.
– Я приду, мое сердце, приду… Раздались, один за другим, три выстрела. Товарищ Иван прислушался и проговорил:
– Они!
– Иди, Маруся, иди… – повторил сечевик.
Он хотел, по своему обычаю, погладить ее по голове, но рука не поднялась. Он только проговорил:
– Иди, Маруся: надо! Она пошла.
– Оглядываться можно? – проговорила она, как бы обращаясь к отсутствующему руководителю.
И оглянулась.
На опушке уже никого не было. Лес казался сплошной зеленою стеною.
Это не помешало ей еще раз оглянуться.
Впрочем, уступая сердцу, она не забывала вверенного ей дела и шла быстро, как могла.
Вот первая дубровка, вся насквозь прохваченная пурпуром заката. Сколько здесь цветов цветет и благоухает.
Вот опять поля, опять цветущая гречиха, жужжащий рой пчел. Близехонько прокричал перепел.
Вот и мостик за дубровкой.
Кто-то будто скачет, шибко скачет.
Надо поглядеть, откуда и кто.
Похоже, как будто, на татарина. Да, таких встречали они не раз по дорогам и всегда от них прятались или в ров, или в жито.
Не спрятаться ли теперь?
Он скачет прямо к мостику. Надо спрятаться в очерет.
Но она не успела сделать и шагу к густому очерету, росшему около мостика, у берега мелкого прозрачного ручья, в виде гигантской зеленой щетки: раздался выстрел, и червоная хустка заалела на черной дороге.
Хустка эта брала только своим цветом, доброта ж ее оказалась такая, что даже жадный татарин не польстился ее снять и снова ускакал, как бы обманутый в своих ожиданиях.
Когда все стихло, из дубровки, из той, что за мостиком, вышел какой-то поселянин с топором и вязанкой зеленых сучьев за плечами и, проходя мимо, наклонился, обернул к себе помертвевшее детское личико, приложил руку к груди, под которой образовалась уже лужица теплой крови, потом, проговорив: «Нет, уж не оживешь!» – пошел дальше своею дорогой.
Он, впрочем, снял червоную хустку и унес с собою.
Давным-давно все это случилось, но до сих еще пор небольшая могила, неподалеку от этих мест, называется «Дивоча».
Говорят тоже, что могилу эту насыпал сам, своими руками, какой-то запорожец.
Маша
(Из цикла «Рассказы из русского народного быта»)
I
Не родись ты пригож, а родись счастлив, говорят, и правду говорят истинную! Меня в молодости красавицею величали, а счастье-то мое какое? Ох, много я изведала на своем веку! Муж у меня был буйный, грозный. А вот сестра из себя невглядная была, и слабая такая, хилая, худенькая, да талан ей Бог послал: муж в ней души не чаял, и деточки росли. Бывало, как приедет мой хмельной да разбушуется, выгонит меня – хоть на дворе мороз трещи, хоть дождь лей: ему нипочем, не пожалеет, – я пойду к сестриному окошечку, постою, погляжу… Сидит она с мужем, говорят себе любовно, тихо у них да согласно. Слава Богу, подумаю, хоть сестре талан вышел! Бывало, и не зайду к ним, не покажусь: что их собою печалить! Ведь догадаются, с какой радости поздним вечером брожу.











