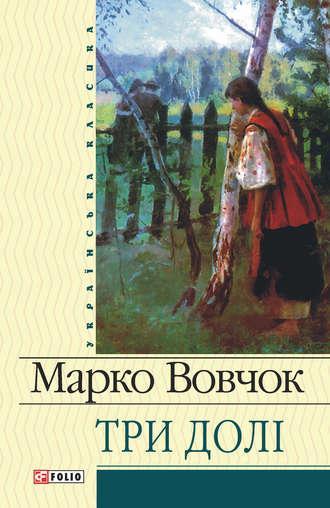
Полная версия
Три долі
– Тихонько спускайся, дивчино, – сказал Кныш. – Береги свои ножки!
XIII
Они начали спускаться вниз по ненадежной лесенке, которая гнулась и трепетала под ними, как живая.
Маруся не заметила, каким образом открылось подполье, и как оно закрылось, она заметила только потому, что они вдруг очутились в темноте.
Чем ниже они спускались по лесенке, тем воздух становился свежее и сырее, как бывает в погребах, куда не заглядывает отроду теплый и ясный луч солнца. Время от времени она чувствовала прикосновение надежной и уверенной руки, заботливо ее поддерживавшей.
Наконец, лестница окончилась и Маруся очутилась на дне глубокого погреба.
В то же мгновение проводник взял ее за руку и повел за собою.
Шли они не долго; едва сделали несколько шагов в темноте, как широкая полоса дневного света ярко пала сверху и осветила Марусе просторное подземелье, по которому спокойно прогуливался взад и вперед сечевик, погруженный в какие-то соображения, но не утративший ни крошки своей обычной чуткости и бдительности и в ту же секунду заслышавший и завидевший посетителей.
– А, Маруся малая, порадница верная! – промолвил он, встречая их с спокойною улыбкою, словно гостей на мирном и приятном празднике.
Он не выказал волнения, и только на мгновенье, не больше, его светящиеся очи потонули в устремленных на него с радостью и упованием глазах девочки.
Но существует какая-то тайная, непонятная сила, выдающая в иные минуты жизни даже глубоко сокровенное биение сердца, и пан Кныш отлично угадал и понял, что маленькая девочка уже стала для запорожца всем, что красит и освежает, что чарует и наполняет отрадою и нежностью трудную, суровую, одинокую жизнь, исполненную опасностей.
И, вместе с тем, как он угадал и порешил это дело, на лице его мелькнуло то особое выражение какого-то томления, какой-то жажды обрести предмет нежности, какое-то выражение горечи, что не встречают его глаза такого предмета, куда ни обращаются, то особое выражение промелькнуло, которое рано или поздно промелькает у всякого, даже самого сильного духом, самого твердого нравом одинокого человека.
– Пройдемте подальше, – сказал Кныш, – там удобнее будет присесть и потолковать: слышнее будет, в случае какого неожиданного посещенья…
Они прошли еще вперед по подземелью, которое то суживалось, то расширялось, то не пропускало ни искорки света, то свет его освещал, падая сверху, кругами, полосами, звездами, треугольниками и всевозможными фигурами, смотря по тому, какую лазейку устроила природа. Иногда этот свет падал сквозь трещину, словно сквозь круглое окно, иногда снопом лучей проникал через маленькие отдушники или узкою полосою дрожал на черной земляной стене.
Везде, где только свет проникал, были подмощены лесенки, и скрытый в подземелье мог, по своему желанию, не только наслаждаться светом дня, но даже и видеть, что творится во дворе, между тем, как сам оставался невидим.
Все помолчали, как часто бывает, когда за живое заденет и сильно повернет сердце человеческое какая мысль или какое чувство.
– А временем мы не богаты! – проговорил Кныш, обращаясь к сечевику.
– Зато не бедны вымыслом, – отвечал сечевик, – не побираемся ни отвагою, ни здоровьем!
– По-моему, коли в путь, то в путь!
– Авжеж! Выряжай меня, приятель, а я так охоч, как поповна замуж!
– Так за дело! – сказал Кныш.
Он отошел несколько шагов в бок и тотчас же вернулся с полною охапкою поношенных убогих сельских одежд, с накладною седою бородою, усами и бровями, с сумою и с бандурою, точно все это достал из-под земли.
– Так дивчина пойдет с тобою? – сказал Кныш, разбирая принесенную охапку.
– Маруся, пойдешь со мною? – спросил сечевик.
– Пойду, – отвечала Маруся.
– А знаешь, куда итти-то, дивчина? – спросил Кныш.
– Знаешь, куда? – повторил сечевик.
– Не знаю. Пойду, куда скажешь, – отвечала Маруся.
И радостно, и тепло, и бодро было у нее на сердце при мысли итти.
– Так вот убор дивчине, да пусть принаряжается, коли думает итти, – сказал Кныш, выбирая из охапки убогий девичий убор и подавая его Марусе, как подает из яйца букет цветов искусный отводчик глаз человеческих – фокусник.
– Славный бандурист из тебя выйдет, пане приятелю! – говорил Кныш, глядя, как сечевик прибирался в одежды странствующего певца. – Да и поводырь у тебя будет щирый! – прибавил он, перенося взгляд на Марусю и улыбаясь усердию, с каким она вся предалась переодеванью, далеко отбрасывая свои красивые одежды и жадно облекаясь в ветхие и плохие «дранки».
– Пойдем, Маруся, к самому пану гетману! – сказал сечевик.
Сияющий взгляд, ответивший ему, навел на него какую-то думу, но не надолго.
– Тем временем, как мы прибираемся в путь, пане приятелю, – сказал он Кнышу, – ты, будь ласков, поучи нас уму-разуму. Расскажи толком, что тут у вас деется. Вот я уже больше месяца никаю помеж людом, а до сего часу ничего не добился ни путного, ни верного: больше согласья у молодиц на великом торгу, чем у вас на славной Украйне!
Кныш все молча следил за переодеваньем и, как человек, больше знакомый с осмотрительностью, чем с откровенностью и отвагою, вместо знаков согласия или отрицания, только время от времени слабо проводил рукою по струнам бандуры, которую держал.
– У тебя каковы вести? Ты ведь на свободе толкуешь, без спеху, а мое дело такое, как вдогонку целоваться… ты, значит, лучше все разумеешь и разбираешь, чем я, – продолжал сечевик.
– Да что! – ответил Кныш, – ропщет народ… Тогобочному давно не верит и сегобочному верить перестает… [5] Времена незавидные. С одного боку москали, с другого – ляхи, с третьего – татары, а дома два гетмана друг на друга чеснок товчуть…
– Сказывали, что наш подался здоровьем; правда?
– Болен он не был, а с лица спал; да и не диво: горе только одного рака красит! – отвечал Кныш.
– А тот?
– Тот? О том, коли добрые слухи сбирать, то, исходивши всю Украйну, вернешься с пустыми руками, а коли сбирать худые, то оглохнуть можно всюду, куда ни приду.
– Кто там около него из наших?
– Антон еще держится, да и тот говорит, что уже невтерпеж: таким еще плюгавцем никогда, говорит, я не бывал. В случае чего, помни, что жинка у него добрая.
– Вправду? Та великая пани?
– Да, та великая пани. Бывает, что и между крапивою растет кийло [6].
– Она у него откуда?
– Не знаю.
– Коли с их поля ягода, так не верь: будет все тот сам зверь, только под другой приправой. Так наш крепко подался?
– Подался.
– Кто там у него в советчиках теперь?
– Никого. Сидит один, как подстреленный орел.
– Ему трудно.
– Трудно.
Сечевик был уже готов и принял бандуру из рук Кныша.
Маруся тоже была готова, и все вышли из подземелья.
Отряды, проезжавшие под вечер мимо хутора, видели почтенного бандуриста, сидящего на завалинке хаты пана Кныша, тихо перебирающего струны и протяжно поющего божественные псалмы, между тем как поводырь его, пользуясь отдыхом, спал на траве, а пан Кныш, склонив голову, смиренно и несколько трусливо слушал эти божественные гимны, как человек, смутно чувствующий, что он не всегда шествовал по стезе, указанной в псалмах.
XIV
В сумерки бандурист с своей поводыркой уже были около стана, расположившего свои походные палатки недалеко от реки, на пригорке, среди широких, благоухающих свежих полей.
Вечерние тени уже сгущались, и только на западе светила ярко-алая полоса вечерней зари.
В стане было очень тихо. Стража, позлащенная вечерними лучами, казалось, вылита из металла по своей неподвижности и блеску. Несколько фигур ходило быстро, суетливо, несколько других медленно бродило; в одной палатке, несмотря на еще не совсем погасший дневной свет, теплилась уже, сквозь белое полотно, зажженная свеча; время от времени звякало там или сям оружие, раздавался голос.
Появление бандуриста издалека было усмотрено и замечено, но он спокойно приблизился к самому стану и потому никакого сомненья, ни опасенья не возбудил.
Его появление многим даже доставило видимое удовольствие; когда он заиграл на бандуре и медленно, торжественно запел божественный псалм, все слушали, задумавшись.
Многие головы, перевязанные окровавленными повязками, приподнялись с очевидным намереньем кинуть приношение к ногам певца, и сознание слабости вырвало у иных восклицание досады, у иных грустную усмешку; один сделал знак проводнице подойти ближе, показывая ей издали грош.
Девочка, однако, стояла в нерешимости – бандурист ей ничего не говорил, вероятно, потому, что по крайней слабости старческого зрения не видал сделанного знака.
– Подойди, красная девушка, – проговорил раненый, – я тебя не укушу, а грошик дам!
Другие руки тоже протянулись с приношением, другие голоса тоже звали девочку, и она пошла кругом, кланяясь и сбирая дрожащею рукою приношения, встречая ласковые взгляды, выслушивая шутливые приветствия.
Но тут бандура так зазвучала у бандуриста, что все внимание обратила на себя.
Что это была за песня – разобрать было трудно; не то угрожающий гимн, не то мучительный стон.
Все притихло, слушая, поглощенное непонятною силою; робкая девочка с опущенною головкой и дрожащею ручкой была забыта. Все увлеклись бандуристом.
В прозрачном тихом воздухе, в светозарной мгле розового вечера гудело, дрожало и разливалось:
Ой ти ремезо, ой ти ремезонько,Да не мости гнізда, да понад Десною!Бо Десна – Десни щодня прибуває,Вона твоїх діток да позатопляє! [7]Какой-то молодой офицер, красивый, как картина, самодовольный, удалой, с военными ухватками и военным выражением лица, вышел из палатки.
Он вышел, очевидно, от скуки, от нечего делать, но, услыхав пенье бандуриста, приостановился, потом перестал пускать дым колечками, потом забыл курить трубку, потерял воинское выражение лица и фигуры.
Что-то давным-давно заглохшее, что-то давным-давно позабытое ему вспомнилось.
В иные минуты странно преображаешься ты, образ человеческий!
На лице офицера, всего за несколько секунд пред тем являвшем, так сказать, один воинский парад, теперь заиграло совсем иное.
Даже черты словно стали другие. На гладком, отлогом лбу собрались, может, отроду тут небывалые складки, губы, щеголявшие, как лучшим украшением, самодовольною и несколько наглою улыбкою, сжались, глаза, имевшие только способность глядеть по-военному, чудесно смягчились.
Грозное, зловещее пенье бандуриста перешло в другое, до того преисполненное отчаянной, бессильной тоски, что один раненый солдат проговорил:
– Ах, жилы из меня тянут!
Зажурилась Україна,Що нігде прожити,Витоптала орда кіньмиМаленькії дітиЩо малії витоптала,Старії побила,Молодую челядонькуУ полон забрала! [8]Слушая это незатейливое изложение фактов, офицер как бы спрашивал себя о многом таком, о чем прежде спрашивать не было помышления.
Можно было наверное сказать, что в этот момент он не крикнул бы с прежним удальством:
– Пли!
Какой-то усатый солдат, напоминавший цветом и изъянами израненного тела старую, поломанную медную статую грубой работы, могущую олицетворять собой представление грубой, свирепой жестокости, сначала мрачно, но неподвижно, слушал пение, потом отошел дальше, потом скрылся за палатку, лег на траву, прикрылся шинелью, и по его закаленному лицу потекли обильные теплые слезы – слезы, не выдавшие себя ни рыданьем, ни вздохом, совсем тихие, тише весеннего благодатного дождя в степи.
Вдруг пенье оборвалось, бандура зазвучала быстрее, быстрее, быстрее, и воинский стан огласился плясовыми звуками.
Ой продала дівчинонька юпку,Та купила козакові люльку,Люльку за юпку купила —Вона ж його вірно любила!Ой продала дівчинонька душу,Та купила тютюну папушу,Папушу за душу купила —Вона ж його вірно любила! [9]Раздался с разных сторон хохот; некоторые принялись подтягивать, качать в такт головою.
– Ай да бандурист! – слышались восклицания, – ай да бандура!
Много шутливых песен еще пел бандурист в потеху воинам, и не без сожаления они распрощались с ним, не без удовольствия приняли его обещание возвратиться снова и снова их потешить.
– Куда идешь? – говорили некоторые. – Ночь ведь на дворе, а дороги-то, известно, не надежные…
– Старцу разбой не страшен, – отвечал беспечный бандурист, уходя, и скоро скрылся с своею проводницею во мгле летнего вечера.
XV
Уже звезды загорелись в небе, а сечевик с Марусею все шли тихою, безбрежною, задремавшею степью.
Все вокруг них безмолвствовало, и сами они не промолвили слова.
Да и что говорить, когда рука с рукою идешь на доброе дело?
Да, хорошо было так итти рука с рукою по дремавшей степи, среди ночного безмолвия, чувствуя только биенье своего переполненного сердца!
Они не знали, долго ли шли, и мы не станем высчитывать того – часы эти были добрые, значит, нечего было знать их – сами пролетели птицею.
Перед ними мигающими точками мелькнули во мгле огни и скоро во мгле же очертились и темные очертания стен и зданий.
Угрюм и мрачен был вид этого города, черно рисовавшегося в ночной темноте, сверкавшего мелкими огненными точками. Обычного торопливого городского шуму не было слышно, обычной вертлявой городской суеты не было заметно; совсем иная жизнь здесь проявлялась: не те были отзвуки шагов, не те отклики голосов. Как в природе видно приближение наступающей грозы, так в этом городе все дышало готовностью к битве и отпору; чем это особо выражалось – нельзя определить точно, но выражалось на всем: и на убогих низких хатах среди садиков, и на высокой дзвонице [10], и на старых городских стенах, и на свежеподсыпанных валах. Все здесь приняло характер решительного отпора, хотя соловьи по-весеннему заливались и щебетали по садикам, и женские фигуры спокойно проходили по улицам.
Никто не окликнул их, когда они подошли к городским воротам, и они ступили в город без помехи и затрудненья; но всякая пара глаз, казалось, заметила их и следила за ними бдительно и зорко.
– Эй, братику! – сказал сечевик, обращаясь к молодому козаку, ждавшему чего-то, опершись на садовый плетень около хатки с светившимся окошечком. – Эй, братику! будь ласков, покажи старому бандуристу, как доступить до пана гетмана!
Молодой козак, приподняв шапку и указав во мглу улицы, усеянной, словно искорками, отблесками из окошечек, проговорил:
– Минувши эту улицу, направо будет гетманская хата.
Они, поблагодаривши козака, минули указанную улицу и угадали, которая направо гетманская хата, по более яркому освещению и по тому, что две дивчины, проходя мимо, приостановились, заглянули в окошко и сказали: «Пан гетман, должно быть, не спит».
В этом окошечке ярко обрисовывалась голова усатого козака, точно вырезанная из черного камня, склонившаяся на руку в глубокой думе. Прислушавшись, можно было слышать мужские шаги по светлице, шаги то медленные, то быстрые, удивительно-выразительные шаги.
Сечевик постучался.
Усатый козак покинул думать, встал и отворил двери. Шаги в светлице прекратились мгновенно, и наступила совершенная тишина.
– Пану гетману приятели поклон прислали, – промолвил сечевик, вступая в хату рука об руку с Марусею.
То была незатейливая светлица; в следующую двери были затворены.
– Спасибо за приятельскую ласку! – отвечал усатый козак равнодушно-приветливо, словно подобные посещения случались сплошь да рядом.
– А можно видеть гетманские ясные очи, братику? – спросил сечевик.
Но двери из следующей светлицы уже распахнулись, сам пан гетман стоял перед ними, и вся его фигура спрашивала без слов: откуда гости? каковы вести?
Свет огня освещал его не всего, а полосами и искрами: то сверху, то сбоку, то снизу. Он весь являлся в черных тенях и в трепетном узорном освещении. Черт лица невозможно было хорошо уловить, только очи, пронзительные и пытливые, сверкали в полутемноте, как уголья.
– Челом бью пану гетману! – сказал сечевик, увидя его, и низко поклонился.
Низко поклонилась и Маруся пану гетману.
– Спасибо, – ответил пан гетман. – А какую песню пропоешь нам, ласковый бандурист?
Самый звук голоса уже показал человека, привыкшего повелевать, а не слушать повеленья – человека, привыкшего без запинки высказывать свои желанья и мненья и без колебанья и страху их оспаривать и за них стоять.
– Разве свою, пане гетмане, потому что не сижу на чужом возу и не подтягиваю за хозяйскую ласку.
Пан гетман ничего не ответил на это, но никакие слова не передали бы лучше удивления, гнева и горести, чем это молчание.
– Откуда Бог несет? – спросил пан гетман.
– Из Запорожья, – отвечал сечевик. – Запорожцы приказали низко кланяться вельможному пану гетману.
– Спасибо, – промолвил гетман. – Милости просим до моей светлицы.
Сечевик последовал за гетманом во вторую светлицу, и Маруся, все еще державшаяся за его руку, вошла тоже в гетманский покой.
Убранства в этом покое не было никакого особенного; те же белые стены, те же липовые лавки, как и в простой козацкой хате, только много разного и дорогого оружия и по стенам висело и по углам стояло; на столе лежал бунчук и бумаги. Гетманские жупаны висели на колках и блестели шитьем. Кровать стояла какою-то неприступною для сна и успокоенья, и столкнутая с изголовья подушка ярко и несомненно выражала, в каком жару и муке была приклонявшаяся к ней не надолго голова.
– Прошу садиться, – промолвил пан гетман.
И сам сел и устремил огненные очи на сечевика. Все его члены видимо трепетали, точно он сдерживал себя и эта узда докучала ему и раздражала его.
– Извини, пане гетмане, – отвечал ему сечевик, – вот видишь, у меня поводырь маленький, утомился – аж привял, надо бы отдохнуть ей, бедняжке…
Пан гетман встал и, сдернув с ближайшего колышка великолепный жупан, кинул его сечевику. Потом глаза его пали на персидский ковер, покрывавший большую скамью; он сдернул его одним движением и тоже кинул сечевику, с нетерпением следя за его заботами о поводыре.
Ни одна нянька не перещеголяла бы сечевика в быстроте и ловкости, с какою он постлал персидский ковер на лавке, искусно устроив изголовье без подушки; да и какая же нянька могла бы бережнее и нежнее приподнять Марусю и заботливее, ласковее опустить ее на постель и прикрыть великолепным гетманским жупаном?
С каким наслажденьем усталые члены коснулись этого ложа, приготовленного верною и надежною рукою!
Но спать девочка не могла; сна у нее совсем не было. Она даже не дремала; из-под падавших складок гетманского жупана очи ее приковывались невольно и непобедимо к двум собеседникам и следили за их малейшим движением, ловили самое мимолетное выражение их лиц.
Они сидели у стола, друг против друга, и свет ярко пылавшей восковой свечи совершенно освещал их лица и фигуры.
Что за мощная фигура сечевика! Сила, краса его исполняли сердце девочки каким-то благоговением и упованием.
Но другая фигура!
Душа ее исполнилась жалостью и трепетом, когда она глядела на эти впалые очи, мрачно и тревожно сверкавшие из-под густых бровей, на несвоевременные морщины, избороздившие величавое и гордое чело, на все следы разрушения внутренним огнем – огнем, казалось, неугасаемым, палившим безостановочно и неотступно.
Они оба тихо говорили. Очень тихо и сдержанно.
Она долго вслушивалась в этот разговор, как вслушиваются в отдаленный шум моря.
Наконец, усталость взяла свое, глаза ее вдруг сомкнулись, и она уснула.
XVI
Маруся спала, как спят на берегу моря: и спишь, и чуешь, что вокруг тебя грозная пучина, и улавливаешь сквозь сон ее грозный ропот, и хотя грезится многое свое, но неотступно мерещатся безбрежно колыхающиеся волны.
Ей представлялся отцовский хутор, благоухающий вишневый садик, знакомые родные лица, но все это как-то странно, не то чтобы линяло, а лучше сказать, тонуло в тумане, отодвигалось на задний план; на первом плане ярко сияли новые образы.
Вдруг она мгновенно пробудилась и быстро приподнялась на своем ложе.
Сечевик сидел, по-прежнему облокотясь на стол и, по-прежнему, его очи горели, как две яркие звезды, ослепительно, спокойно и ровно, как настоящее светило.
Пан гетман стоял посреди хаты. Видно было, что он рванулся с места в ту самую минуту, когда его уязвила страшная боль, рванулся и остановился, как бы ошеломленный метко попавшим ударом.
У пана гетмана тоже горели очи, но горели иначе; мучительно замирало сердце, чувствуя, что из этих очей могут сейчас же хлынуть отчаянные, жгучие слезы. Гордое чело побелело от обуревавших мук и терзаний, и залегшие на нем морщины, казалось, видимо бороздились все глубже и глубже.
– Чи плакав би сліп, якби стежку бачив! [11] – проговорил он, наконец. – А время идет! Время идет! А согласья нет! Помощи нет! Я знаю, я сунулся в воду, не спросившись броду, знаю! Да и вы к доброму берегу не приплывете! Вижу я, какой конец будет!
Голос у него прервался.
Сечевик молчал и только пристально глядел на пана гетмана.
Пан гетман заговорил снова:
– Так вы так уж и посчитали, что я на Иудины гроши соблазнился, а? Добрые люди! Добрые люди! Вы…
– Пане гетмане! – почтительно прервал его сечевик, – позволите вашей милости притчу доложить?
– Говори!
– Жили-были два добрых пса…
– Знаю, знаю, знаю!
Пан гетман кинулся на скамью у стола, протянул руки на стол и припал на них головою.
Лица его не было видно, но по одному склоненью не умеющей гнуться шеи угадывалось, как тяжела бывает гетманская шапка.
Так оставался он несколько минут.
Сечевик, все так же пристально и внимательно глядевший на него своими звездоподобными глазами, казалось, не считал нужным обращаться к собеседнику с какими бы то ни было вопросами, объяснениями или речами.
Наконец, пан гетман поднял голову.
– Так что ж мне, по-вашему, нести вам повинную голову, а?
Голос его был сдержан, но в нем слышалась глубокая, едкая горечь; бледное лицо как-то медленно передергивалось.
– А мы же присягали, пане гетмане, эту голову нашу нести, куда надо, за родину. Не в нашей голове тут сила.
Пан гетман быстро встал, прошелся по светлице, как вдруг вскакивают и делают круг раненые звери, подошел к окну, поглядел во мглу благоухающей, тихой и теплой ночи, на сверкающие мириады звезд и опять сел у стола.
Наступило долгое молчание, и так стало тихо, что Маруся слышала биение своего сердца.
Наконец, пан гетман снова встал, подошел к полке в углу, взял оттуда чернильницу, перо и бумагу, перенес на стол, разложил как бы для письма и опять удалился к окну, опять глянул в благоухающую мглу теплой ночи, на искрометные звезды и оттуда проговорил глухо, как будто горло его сдавливала железная рука:
– Я ему напишу все, что требуется.
– Доброе дело, – ответил на это сечевик.
Еще на несколько минут наступило молчание. Между тем, глаза сечевика встретились с глазами Маруси и он ласковым знаком головы и улыбкой дал ей понять, чтобы она постаралась снова заснуть и отдохнуть.
Но она, в ответ, указала на пана гетмана.
Он понял, что ее мучит, и опять ответил ей успокаивающим знаком.
Пан гетман подошел к столу и начал писать.
Важное, надо полагать, было это письмо и трудно ему было писать.
Когда оно было окончено, пан гетман передал его сечевику.
– Прочти! – проговорил он.
Сечевик прочел исписанный листок, сложил и, взяв свою бандурскую шапку, бережно засунул его под шапочную подкладку.
– Когда ж доставишь? – спросил пан гетман.
– Как только донесет меня Бог и добрая доля, так и доставлю, – ответил сечевик.
И с этими словами он встал.
– Идешь? – спросил пан гетман.
– Иду, пане гетмане; счастливо вам оставаться. Маруся в одно мгновенье была тоже на ногах.
– Меня не покинешь? – спросила она.
– Нет, не покину, – ответил ей сечевик, слегка наклоняя над нею свое смуглое лицо. – А коли утомилась, так на руках понесу.
Маруся схватила его за руку.
– Бью челом пану гетману, – сказал сечевик, низко кланяясь.
– Он продаст нас! – глухо проговорил пан гетман.
– Милостивый Бог не выдаст, супоросная свинья не съест! – возразил сечевик.
– С ним нельзя правдою! – воскликнул пан гетман, – нельзя…
– Ничего, пане гетмане, ничего: де не хватає вовчої шкіри, там ми наставимо лиса [12], – проговорил сечевик, – будьте здоровы и нас поджидайте. Пойдем, Маруся малая.
Они вышли из гетманской светлицы и направились опять к городской заставе.
Все было тихо и темно по улицам; вишневые садики мягко белелись; где-то глухо журчала вода.
Отойдя несколько шагов, Маруся оглянулась на гетманскую хату.
В отворенных дверях, через которые они только что вышли, стоял пан гетман и глядел им вслед.











