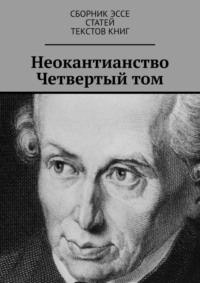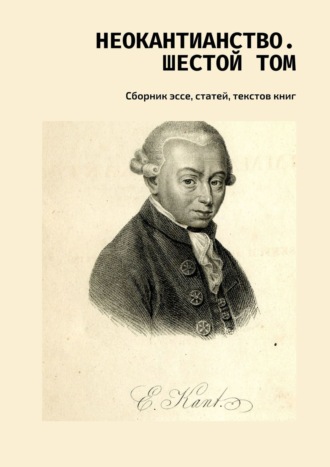
Полная версия
Неокантианство. Шестой том. Сборник эссе, статей, текстов книг
Однако таким образом мы не пришли к окончательному решению и даже не смогли предпринять попытку прийти к нему. Ведь мы остались в зависимости от метафизических предположений, которые, несмотря на их широкое распространение в кругах естествоиспытателей, бросают вызов метафизической критике. Однако здесь нет необходимости вступать в эту критику. Ведь как бы существенно ни пришлось переделать эти предположения, результат их рассмотрения должен был бы лишь подтвердить утверждение, что естественно-исторические типы не имеют самостоятельной реальности в вещах. Остается рассмотреть только следующее. Если ограничить научное знание его объектом – миром механически-материальных явлений, который мы конструируем на основе наших чувственных восприятий, то постулат о том, что оно должно объяснять все жизненные процессы в организмах из механически действующих причин, из механических энергий, является строгим следствием концепции этого знания. Конечно, это справедливо лишь постольку, поскольку задача проверяется индуктивно. Отсюда следует, что психические жизненные процессы нигде не могут непосредственно входить в ее сферу. Напротив, в своем психическом запасе они строятся не на данных чувственного восприятия, а, в конечном счете, даже исключительно на данных самовосприятия, самонаблюдения. Поэтому естествоиспытатель способен прийти лишь к механическим коррелятам психических процессов. Однако он вынужден принимать их для всех психических процессов на основании требования, которое менее определенно, чем эти общие постулаты. Тот факт, что через исследование этих коррелятов он уже в настоящее время может оказать праведную помощь обманчивому самонаблюдению и часто косвенную коррекцию и ценное подтверждение психологическим последствиям этого, не меняет необходимости этого разделения. Духовное неизбежно предстает перед ним в образе своего механически-материального коррелята как объект возможного, хотя и едва ли когда-либо реализуемого, чувственного восприятия.
Если это так, то из этого следует, что для естествоиспытателя телеологически действующие причины, как в организмах, так и в их происхождении, никогда не вызывают вопросов. Если он задает себе эти вопросы, то должен понимать, что он занимается не естествознанием, а духовной наукой и – если он также определяет общие материальные условия нашего познания – метафизикой. Для духовно-научного знания, с включением психологического и психофизиологического знания в соответствии с его единым корнем, признание и исследование телеологически действующих причин неизбежно, поскольку оно сталкивается с воображением и чувством и, соответственно, с желанием, которое действует из целей. Метафизика должна включать именно их в свою критику основных понятий нашего знания о мире, где бы это ни вело к гипотезе о целенаправленно взаимосвязанном мировом целом. Поэтому телеологические мысли, которые Агассиз открыто связывает со своим учением об «идеальности» естественно-исторических родов, имеют не большее значение естественнонаучных гипотез, чем те, которые скрыты в обосновании Брауном их реальности. В обоих случаях это даже предположения, заимствованные из невидимой метафизической традиции.
Поэтому выше нам было позволено ограничиться теми метафизическими предпосылками, которые механическая энергетика естественнонаучного знания бесконтрольно, но и без всякой обязанности проверять их, переняла у практического мировоззрения. Не их идеальность, а их характер типичных родов превращает естественно-исторические виды любой высоты в образования с размытым ограничением. Но нигде это ограничение не основано на «произволе». Решения научного такта, из которых, как мы видели, они проистекают, не произвольны по той самой причине, что наша воля, если они иначе научно обоснованы от материи, так же мало участвует в них, как и в наших научных суждениях вообще. Если бы, с другой стороны, наша воля была, как ошибочно утверждается в старых и новых теориях суждения, интегрирующим компонентом наших суждений, она не была бы таковой в большей степени в тех суждениях, которыми мы ограничиваем типичные роды, чем во всех остальных. Если бы сила воли в наших суждениях измерялась, как это, вероятно, было бы неизбежно, уверенностью утверждения, она была бы даже в меньшей степени активна в суждениях о типичных родах. Таким образом, мы приходим к определению естественно-исторического типа по отношению к Геккелю, как это уже отстаивал Агассиз, по вопросу о его реальности.
VIII Типы и языки
Морфолого-генеалогические и репрезентативные типы материального, исторического естествознания, рассмотренные в последних разделах, тесно связаны с делением человеческих рас. Они являются их ответвлением. Несколько более отдаленными от этих типов являются деления народов. Еще более отдаленными от этих типов являются деления на народы и языки.
Поэтому логические вариации, которые получает понятие типа в применении к языкам, требуют отдельного обсуждения.
Классификация типов была использована в лингвистике на четверть века раньше, чем в биологических дисциплинах, и таким образом, что уже Дарвин указал на кажущуюся тесную аналогию между естественной историей и жанрами языка. С тех пор как Шлейхер более подробно обосновал эту кажущуюся аналогию с лингвистической стороны, она стала использоваться как правило сторонниками дарвинизма и неоднократно более подробно обсуждалась лингвистами.
На первый взгляд может показаться, что аналогия действительно является такой основательной, как это обычно утверждается, в том числе и Спенсером, и Шпитцером в его философском вкладе в теорию происхождения.
Здесь, как и там, переходы плавные; в обоих случаях связь носит скорее генетический характер. «Ни один лингвистический организм» – этими словами Уитни-Джолли формулирует известный факт – «не остается неизменным; скорее, каждый находится в состоянии непрерывного изменения, как формального, так и материального. … Ни один живой или мертвый язык не является чем-то, что существовало всегда; каждый из них скорее является дочерью или внучкой более древнего языка, из которого могли прорасти другие живые или мертвые языки». Переходы между языком и диалектом особенно подвижны. Как и в царстве организмов, эти размытые переходы сопровождаются появлением изолированных языков, которые так же трудно определить, например, баскский, этрусский и кавказские языки. Даже такие разные языковые племена, как индоевропейские и семитские, имеют так много общего, что идея о родстве между ними может быть серьезно рассмотрена. Кроме того, как и в случае с организмами, языки продолжают погибать. Поэтому непонятно, почему среди лингвистов существуют «не менее серьезные разногласия, чем среди ботаников и зоологов» относительно логических родов языков. Вопросы о количестве известных языков, даже о количестве более крупных языковых групп, которые, однако, возникают скорее из любопытства, чем из инстинкта познания, соответственно находят совершенно разные ответы. В частности, переходы между формами грамматической структуры языков многообразны, так что Штейнталь мог прийти к выводу о недопустимости классификации языков на основе этих различий.
Поэтому неудивительно, что и лингвисты нашли удобным использовать образ родословного древа, который Шлейхер перенес из круга мысли Дарвина, везде, где можно с определенной уверенностью установить взаимоотношения членов лингвистического племени. Те же аналогии затем породили хромающее уподобление, введенное И. Шмидтом и, по его примеру, О. Шрейдером: образ наклонной плоскости, идущей непрерывной линией от санскрита к кельтскому, которая постепенно превратилась в лестницу «благодаря исчезновению посредствующих разновидностей» (!).
Все эти очевидные аналогии, очевидно, мало затронуты различием в современном состоянии лингвистики по сравнению с ботаникой и зоологией.
Лингвистические исследования, несмотря на всю работу, проделанную ими со времен Вильгельма фон Хамбольдта, а в последнее время особенно благодаря Штейнталю и Паулю, более чужды внутренним, психологическим условиям развития языка, чем теория развития организмов механическим энергиям. Однако не по их вине. Напротив, психология оказывает лингвистике меньшую помощь в этой области духовной жизни, которой она поразительно пренебрегает, чем физика и химия биологическим наукам. Более того, лингвистические исследования осваивают свою область более неравномерно, чем эти науки осваивают свои. Большой ряд сложных языков, многие азиатские, многие африканские и австронезийские, а также американские языки, не были достаточно изучены, чтобы отношения между ними и другими языками стали очевидными. Предположение, что все языки земли сходны в развитии, скажем, с индоевропейскими и семитскими языками, не является проверенной гипотезой, а лишь постулатом, обеспеченным на общих основаниях.
Если, однако, рассмотреть аналогию языковых типов с типами организмов более внимательно, становится очевидным, что она гораздо менее осуществима, чем обычно предполагают даже лингвисты. По всей видимости, вера в эту аналогию широко распространена только потому, что лингвисты в меньшей степени, чем ученые-естественники, ощущают необходимость прояснить логическое значение своих типов.
Чтобы решить эту задачу, мы сначала заменим популярный образ более четким терминологическим определением.
С начала нашего века лингвисты любят говорить о языках как об организмах. Эта аналогия была очевидна для эпохи нашей натурфилософии, уже для братьев Шлегель и для Боппа. Следует признать, что К. Ф. Беккер значительно углубил ее. Позже, когда гипотеза Дарвина возбудила все умы, она невольно навязывалась им повсюду. Но она, как и аналогия внимания с восприятием лица, основана лишь на соблазнительном образе, и было бы бесполезно пытаться втиснуть сущность организма в лаконичную форму определения. Несомненно, однако, что организмы в их истинном значении – это исключительно вещи с качествами, которые в большинстве своем противостоят нам только в чувственном восприятии и даны нам только в нашем собственном опыте, также в соответствии с их духовной стороной, в самовосприятии. Организм, таким образом, есть абстрактное общее живых объектов или вещей со свойствами жизни, которые являются объектами возможного восприятия. Мы можем сказать так, поскольку в нашу задачу не входит рассмотрение здесь загадки жизни, то есть избежание диаллеля [путаницы – wp] в понятиях организма и жизни.
Для нас достаточно ряда следствий, которых не касается этот вопрос. Пока что языки – это, несомненно, не вещи, не индивиды и не понятия вещей, а понятия процессов, происходящих в самых высокоразвитых организмах. Мы придем к более точному определению, если ограничим понятие языка тем, что для нас существенно. Соответственно, подуровень так называемых языков животных можно опустить без лишних слов. Точно так же можно не рассматривать все виды жестовых языков, включая искусно разработанные языки глухонемых. Не менее, наконец, вторичный продукт языкового развития – письменный язык с его оптическими понятиями слов, а также его тактильный коррелят у слепых. Таким образом, воплощения процессов, формирующих язык в более узком смысле, существуют в акустическом языке нормально чувствующего человека, не страдающего афатическими расстройствами.
Акустические речевые процессы протекают на двух уровнях.
На уровне, который в первую очередь волнует лингвиста, язык – это звуковой язык в подлинном смысле слова, воплощение осмысленных звуков, т.е. воплощение акустических перцептивных идей, ассоциативно связанных, переплетенных с их идеями смысла. В этом смысле язык реален лишь постольку, поскольку он произносится вслух, слышится и хотя бы у самого говорящего имеет идеи смысла как точку отправления или назначения репродуктивного возбуждения, т.е. понимается.
Психологически второй этап акустического языка – это внутренняя речь, так сказать, беззвучное мышление, то есть суждение, которое связано с языком, даже если оно беззвучно. Этот этап акустического языка, который еще недостаточно оценен лингвистами и психологами, является логически более значимым. Но не для тех, кто до сих пор умеет находить в языке только «обволакивающие и скрывающие формы» мысли, кто смиряется с имеющимися фактами по глубокомысленному замечанию, что «нельзя узнать строение человеческого тела, глядя на одетое тело». Мы вынуждены рассматривать его как вторую ступень акустического языка, взяв на себя право, на основании данных, которые здесь не будут обсуждаться, пренебречь воспоминаниями об оптических идеях слов, возникших в результате вторичных переплетающихся ассоциаций. Ведь даже в тех немногих случаях, когда они, по-видимому, преобладают, не они, а репродукции акустических перцептивных слов являются направляющими условиями безмолвного мышления. Поэтому мы можем утверждать, что язык на этом уровне реален только в том случае, если акустические слова-идеи восприятия воспроизводятся и понимаются в более или менее полном контексте предложений.
Таким образом, на обоих уровнях язык в более узком смысле является воплощением идей слов на акустико-перцептивной основе, которые ассоциативно связаны с соответствующими им идеями значения. Они способствуют формированию и закреплению ассоциативной связи их значений. Во многих случаях они способны представлять в памяти те значения, знаками которых они становятся. Для предикативного структурирования мысли необходимым условием является их контекст в предложении; более того, этот контекст беззвучной речи является необходимым компонентом мысли.
Язык является воплощением процессов на обоих уровнях, потому что наше лингвистически связанное, предикативно структурированное воображение всегда распадается на процесс воображения; даже когда суждения грамматически объединены в одно слово предложения, или даже когда в сознательном воспроизведении находится только мысленно выделенная часть предложения. Даже при этих обстоятельствах уже возникает образный процесс, поскольку психофизиологическая связь акустических представлений слова с иннервациями [нервными импульсами – wp] речевой мускулатуры эффективна для каждого элементарного звукового образа.
Более того, языки не живут в том смысле, в котором живут организмы. Они просто принадлежат к процессам, посредством которых происходит жизнь в наиболее высокоорганизованных живых существах. Более того, поскольку их словообразование физиологически определяется речевой мускулатурой и другими органами, участвующими в речи, они не обладают морфологическими характеристиками в подлинном смысле этого слова: разговорный язык, конечно, нельзя ни увидеть, ни почувствовать.
Тем не менее, развитие языков является органическим. Но только в том же смысле, что и развитие всех других физиопсихологических жизненных функций человека, а не человека как организма, не говоря уже об организмах вообще. Ибо тот факт, что он является средством всего человеческого культурного сообщества, не вырывает язык из этого естественного органического контекста. Против прямых аналогий его типов с морфологическими выступает, таким образом, его психологический характер. Ибо тот, кто, согласно состоянию наших нынешних знаний, хотел бы заранее думать об аналогиях морфологических субстратов для механических коррелятов их психического запаса с морфологическими субстратами других механических процессов жизни, занимался бы, согласно первому, не лингвистикой, а естествознанием.
Столь же очевидно, что намеренная и ненамеренная передача языка другим психически более или менее развитым особям, называемая размножением, не является аналогом ни одной из форм, обеспечивающих выживание растительных и животных организмов.
Эти рассуждения могут показаться педантичными. Такой вид неизбежно возникает там, где возникает необходимость подменить концептуальные определения популярным образом. То, что они были необходимы, ясно уже из того, что, согласно им, мы можем браться за возможные аналогии языковых типов с естественно-историческими только тогда, когда мы определили эти типы без подобных рассуждений из сущности языка.
Лингвисты учат, что сущность каждого языка состоит из двух рядов определений: субстанции языка или корней языка, т.е. конечных, этимологически неделимых фонетических компонентов слов, и формы языка, т.е. способа, которым эти компоненты соотносятся друг с другом как слова человеческой речи, как части речи.
Приведенные выше определения были выбраны таким образом, чтобы по возможности не затрагивать более конкретные вопросы лингвистических исследований, которые с ними связаны.
Поэтому пока что остается нерешенным вопрос: из каких звуков состоят корни; являются ли их фонетические запасы фиксированными или только типичными, и если последние, то в каком смысле их можно различать; какое количество слогов следует приписывать им в том или ином случае; какие виды следует отделять от них в соответствии с их лингвистическими функциями в контексте речи и возможно ли вообще такое деление; как следует понимать значения корней и т. д. Единственное предположение заключается в том, что корни языка в любом случае могут быть отделены от слов. Это, однако, кажется допустимым и в отношении так называемых корневых языков. Ведь даже там, где корень и слово совпадают в своих фонетических компонентах, последнее может быть отделено от первого абстрактным образом, а именно, путем изъятия из корня олицетворения детерминации, например, позиции или ударения, в мысли, которые свойственны словам как частям речи, то одним, то другим способом. Поэтому корни в любом случае более абстрактны, чем слова, которые к ним относятся. Эта предпосылка, однако, является спорной. По сути, она соответствует мнению Pотта о том, что корень – это «… единство генетически родственных слов и форм», т.е. мнению, которому противоречат не только Макс Мюллер, но и, например, Дельбрюк и фон дер Габеленц. Однако, согласно только что сказанному, вряд ли справедливо. Единственное, от чего следует отказаться, поскольку это психологически несостоятельно, это то, что добавляет Pотт к процитированным словам, а именно, что это единство «было прообразом в уме создателя языка, когда он создавал слова». Но это добавление, к счастью, осталось лишь бессмысленным украшением для лингвистов, принявших точку зрения Pотта.
Приведенное выше определение формы языка является столь же общим. Оно призвано соответствовать прозрению Вильгельма фон Гумбольдта, хотя и несколько мрачновато облеченному:
«Если более несовершенным языкам не хватает истинного единства принципа, равномерно излучающегося через них изнутри, то, несмотря на это, в описанном здесь процессе каждый из них обладает твердой связностью и единством, которое, хотя и не всегда вытекает из природы языка в целом, тем не менее, возникает из его конкретной индивидуальности. Без единства формы вообще немыслим никакой язык».
Со времен Вильгельма фон Гумбольдта форма языка делится на относительно четкий тип, внешнюю форму языка, и непропорционально нечеткий, внутреннюю форму языка. Внешняя форма речи – это воплощение грамматических отношений (порядок слов, сопоставление слов, склонение и т.д.), которые присущи словам как частям речи и поэтому характеризуют грамматическую структуру языка. Согласно процессу Вильгельма фон Гумбольдта, это, соответственно, также называется грамматической формой: «То, что характерно (так, что это всегда повторяется в одном и том же случае) обозначает грамматическое отношение в языке, является его грамматической формой». Внутренняя языковая форма, с другой стороны, возникает из рассмотрения психологических условий внешней, грамматической формы. Она включает в себя, как мы можем сказать, все психологические процессы, которые ведут к внешней форме. Говорить что-либо более определенное в настоящее время представляется сомнительным. Ведь, несмотря на глубокую работу, которую Штейнталь, в частности, посвятил изучению внутренней формы языка, мы все еще находимся в первых зачатках психологического знания об этих процессах. Психология только тогда обретет более прочную основу для решения этих принадлежащих ей проблем, когда попытается детально оценить новейшую технику психопатологической диагностики речевых нарушений, а также психофизиологические гипотезы, которые были разработаны на основе результатов этой техники. Единственное, что пока ясно, так это то, что нет никакой надежды на то, что когда-нибудь удастся чисто отделить внутренние формы речи от внешних. Ведь даже грамматические формы речи, несмотря на их физиологическую обусловленность, по сути своей психологичны. Причинно-следственная связь языковых форм, кроме того, повсюду взаимна, так что каждое эмпирически определяемое следствие является, с одной стороны, причиной, а каждая такая причина, с другой стороны, следствием.
Таким образом, мы получили фактические предпосылки для логического определения языковых типов.
Итак, в первую очередь, типы, используемые лингвистикой, являются формальными, то есть основанными на различиях в языковой форме. «Морфологическими», как их принято называть, они являются лишь в переносном смысле. И этот образ тоже черпает свою чувственную основу не конкретно из сходства языковых форм с органическими тканями, а в более широком смысле из аналогии языковых форм со структурой, которая, подобно этим тканям, а также тысячам других, строится из данного вещества. Сходство с органическими тканями в целом со структурами материально-механической природы проваливается еще быстрее, чем аналогия с искусно построенными материальными структурами. Ведь человеческая речь зависит не только от непроизвольных, но и от телеологически действующих причин, от целей внутреннего, рассудочного представления, а также общения нашей духовной жизни. Уже по одной этой причине интерпретация этих типов как «физиологических» у Pотта столь же неудачна.
Деление языков на формальные типы происходит частично от внешней, частично от внутренней лингвистической формы. Лингвисты предпочитают называть те формальные типы, которые основаны на внешней языковой форме, морфологическими. При этом возникло мнение, что деления по внешней и внутренней языковой форме правильнее разделять как «морфологические» и «психологические». Но очевидно, что в отношении второго члена, после того, что было сказано выше об обоих типах лингвистической формы, эта версия столь же непонятна, как и после того, что только что было сказано в отношении первого. Более того, Фридрих Мюллер, родоначальник этого различия, не мог назвать «непоследовательностью» то, что, начиная с внешней формы языка, «учитывается» уже отношение языка к мышлению. Скорее, такое рассмотрение неизбежно вытекает из контекста вопроса.
Из различий во внешней форме языка были выведены различные типы. Уитни думает о специфическом делении на изолирующие и инфлективные языки. Старое деление на бесфлективные, утвердительные (вместе взятые: неорганические) и инфлективные или органические языки, которое можно проследить до братьев Шлегель, основано на повторяющихся противоречивых дихотомиях. В ней явно прослеживается влияние спекулятивной натурфилософии. Фактически с ним связано троякое деление Уитни на изолирующие и флективные языки, последние – на агглютинативные и флективные языки (1) в более узком смысле. Это тоже производное трехчленное деление, т.е. построенное из дихотомий, но в нем более четкие конкретные двучлены заняли место неясных состязательных. Логически независимые трихотомии Боппа и Шлейхера обязаны своим происхождением этим производным трипартизмам. Первая, разделяя единые в остальном семитские и индоевропейские языки, делит их на моносиллабические, составные и модификационные; вторая дает широко распространенную схему изолирующих, агглютинативных и флективных языков. Из нормативного трехстороннего деления, четырехстороннее деление Pотт выводит на:
1) нормальное, т.е. собственно флективное;
2) изолирующие и
3) агглютинативные, т.е. коллективно интранормативные; и
4) транснормальные, т.е. инкорпорирующие или, как их еще называют, полисинтетические языки.
Логически эти формальные типы характеризуются прежде всего тем, что они должны указывать, как мы можем сказать, на наиболее общие «чертежи», которые могут быть взяты из грамматической структуры неравнозначных больших языковых групп в настоящее время. В этом отношении они родственны рассмотренным выше типам Кювье, но с самого начала с тем ограничением, что мы имеем дело здесь с грамматическими, а не морфологическими конструктивными формами, и в том преобразовании, что вместо фиксированных различий тех типов, здесь существует текучая связь, которая приводит к типам в нашем смысле. Это абстрактные, схематические представления об основных формах внешней, грамматической структуры языков, то есть о тех отношениях, которыми слова языков отличаются от своих гипотетических корней. Морфологические типы Кювье, кроме того, были задуманы их создателем без серийной связи; позднее такая связь была им приписана. Здесь, с другой стороны, возникает спор о том, связаны ли формальные типы, как предполагают некоторые из вышеприведенных делений, в серии, и если да, то как они должны быть упорядочены по возрастанию или убыванию. Вполне вероятно, как мы увидим, что такая связь отсутствует.