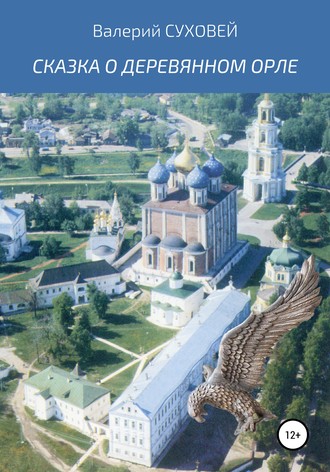 полная версия
полная версияСказка о деревянном орле
Как зерцало царским мыслям, все набычившись стоят. Только лишь у Техминистра чуть подобострастный взгляд:
– Государь, Егор Иваныч! Правда ваша: есть они, мастера, что могут за ночь сделать чудо для страны! – И рукой своей огромной из толпы он поманил кума своего, что скромно сверток под рукой таил. – Вот он – Александр Андреич! Ну, любезный, покажи, как работать ты умеешь и с умом, и от души!
Тот, кивнув главой седою, перво-наперво сказал, чтоб побольше чан с водою принесли немедля в зал. Чан доставили мгновенно (для царя проблемы нет), и механик наш степенно стал развертывать пакет. Наконец, явил на волю и на воду опустил… золотую утку, коей все собранье восхитил. Поплыла она по глади без усилья всякого, головою закрутила, разве что не крякала. Поразительное дело! Все глядели, не дыша, а царица зажалела (добрая она душа!):
– Что содеял, аспид-мастер? Тварь живую повредил! Ты почто златою краской птичке перышки залил?
– Никому я не вредил, разве что не упредил: эта птичка не живая. Ты получше погляди. Она вся хоть золота, да внутри не пустота, а занятный механизмик. Уточка-то не проста! Под хвостом у ней стоит, извиняюсь, гребной винт; завернет пружинку ключик, он усилье накопит и вращение начнет; утка поплывет вперед, а коль хвостиком покрутишь – то и в сторону свернет!
Царь смотрел и дивовался, а народ, что сзади был, через головы старался разглядеть, кто в чане плыл. Надавили – непременно затолкали б и царя. Хорошо, что здоровенный Техминистр рядом стоял.
– Ну, Андреич, дорогой мой, смог работой удивить! С этой уткой золотою как же нам не победить? Пусть она пока – игрушка, но размеры не важны. Те винты сильней, чем пушки кораблям будут нужны. Винт – не весла и не парус, это надо понимать… Разве что, еще осталось двигатель к нему создать. Эта утка золотая в будущее нас ведет! И молиться еще станет вся Европа на нее!
Как митрополит Игнатий свои очи округлил! И царю при всей палате гнев свой праведный излил:
– Господи Боже, спаситель наш! Что, государь, ты сказал? Вновь золотого кумира блажь этот мужик навязал? Разве молиться пристало нам утке (мамоне, сиречь)? Не славить этого малого, а в подземелье упечь!
Бородою царь подвигал и промолвил не спеша, чтобы у митрополита успокоилась душа:
– Мы вас поняли, владыко. Так и вы поймите нас. Может, я не точен шибко в выраженьях был сейчас. Я имел в виду, что утка нам успехи принесет – ведь Европа больно чутко на новинки все клюет. Так что, мастер, – обратился к сникшему механику, – труд твой очень пригодится, куш нам даст немаленький.
Наш механик оживился, Техминистр просиял, а царевич обратился к государю через зал:
– Батюшка, а что не спросишь мастера другого ты? У него чего-то тоже в узелке завернуто!
Александр-механик торкнул столяра легонько в бок (тот все от своей девчонки взгляда отвести не мог). А когда он вдруг увидел, что все на него глядят, с искренне смущенным видом отошел было назад. Царь тут кашлянул:
– Голубчик, что рассеянный такой? Ну-ка покажи нам лучше, что ты держишь под рукой?
Из холстяного мешочка начал мастер доставать свежеструганы досочки и друг с дружкой их скреплять. Зал наполнился чудесным, слышимым издалека, духом бересты древесной, юного березняка. Споро – досочка к досочке – он в конце концов собрал без единого гвоздочка деревянного орла! Ух, красавец, что там утка?! Весь затейливо-резной, под блестящим лаком грудка, крылья в сажень шириной. И в лучах несмелых солнца птица золотом горит!
– Государь, нельзя ль оконце в этой зале отворить?
Бровью царь повел – и просьба вмиг исполнена была. Перенес легко и просто Александр того орла, положил на подоконник, покрестился, шапку снял, вспрыгнул на орла, как конник, и толкнулся от окна… Челюсти у всех отвисли, вырвалось невольно: «Ах!» Кто такое мог помыслить, чтоб столяр сей сделал шаг?
А столяр манером чудным над землею полетел! Да, поверить в это трудно, и не каждый бы сумел… Только как же не поверить своим собственным глазам? Он летит, клюв птице вертит, и куда тот показал, туда птица устремляет свой невиданный полет! Александр ей управляет, и орел летит вперед, вверх и вниз… Лишь свежий ветер треплет полы сюртука, но его порывы эти не смущают седока. Покружил еще немного и влетел в окно назад.
От окна и до порога весь стоял безмолвным зал. Увидав эффект внезапный, наш столяр решился слезть. Наконец, царевич брякнул в тишине: «Вот это жесть!» – «Нет, не жесть, а деревяшка,» – свое темя почесав, уточнил кум-Алексашка те Еремы словеса.
Кто смутился, кто молился, а блажной митрополит вновь к Егору обратился, страстный обретая вид:
– О, государь православный! Вспомни, какой слух идет, как завершился бесславно прошлый похожий полет. Некий подьячий Крякутный, что под Рязанью служил, видимо, бесом попутан, – шар агромадный пошил. Дымом вонючим наполнил – и тут его понесло, стукнуло о колокольню и повредило зело. Не проявил Святый Боже к делу сему благодать. Ползать рожденный – не может по поднебесью летать!
Тут Министр культуры выдал во весь молодецкий пыл (часто он митрополита взглядов супротиву был):
– Нет, никакой там подьячий шар в небо не поднимал . Все это слух, не иначе, это б вам каждый сказал. Первыми шар запускали двое французских месье. В «Ведомостях» отыскали вы б это в давней статье.
Слыша это, от колонны Премьер сделал шаг вперед, хмыкнув удовлетворенно и скривив ехидно рот. Краем глаза царь заметил сей демонстративный шаг, но закончить пренья эти нужным посчитал вот так:
– Ну, летали, не летали – нам детали не важны. Что мы здесь сейчас видали, то и обсудить должны. Вас послушаешь, владыко: то не делай, так не строй – жил народ доныне б диким, был бы первобытный строй. Ваше дело: вера, души, нравственность моих людей, и не трогайте вы лучше новой техники идей. Богу – Богово, а кесарево – кесарю отдай! Мы с техническим прогрессом на земле построим рай. А народ наш еще может думать светлой головой, и в любых делах он тоже, раз не первый, так второй! Коль уж из поповской братии кто в небеса взлетел, поощрять изобретателей царю сам Бог велел!
Отповедь митрополиту дал изрядную Егор, и, сочтя тему закрытой, вперил в Александра взор:
– Александр… э…
– Федорович!
– Ну, ты, чего говоришь… стало быть, того… Захочешь – чудеса прямо творишь! Так сказать, явил уменье… И уж я не погрешу, что не только свое мненье, а и мненье всех скажу: твоя птица просто чудо! Молодец. Я сильно рад: за границей она будет продаваться «на ура». «Инновэйшн», одно слово. Техники рывок настал. Плавают давно и много, а никто так не летал! Решено: на кон поставим деревянного орла, а умельца мы представим к высшей изо всех наград. И, конечно, к поощренью с государевой казны, и, конечно, к повышенью в должности – ведь нам нужны умные и деловые. Только, братец, расскажи, как ты сказку сделал былью, претворил мечтанье в жизнь?
Сашка говорить не дока, зато рисовал хитро. Взял у писаря листок он, взял чернила, взял перо и неспешно и степенно сев за вычурным столом, стал чертить подробно схему управления орлом. И сейчас не все министры могут чертежи читать, а в тот век, что здесь описан, таких вовсе не сыскать. Но все дружно обступили стол, куда присел столяр, и умно глаза лупили в то, что он им рисовал.
Толком не успел наш мастер ничего и начертить, как истошный крик раздался, всех заставив обратить головы назад, к окошку, где пыталась тщетно мать, уцепившись за одежку, Еремея удержать. А царевич уже прыгнул потихоньку на орла, пока отвлеклись все, видно, бестолковясь у стола. И, рукою помахавши, он орла с окна столкнул, и рванул вперед отважно, даже глазом не моргнул!
Мать-царица вслед кричала: «Ой, держи его, держи!» А Ереме нет печали – по подворью покружил и, подхваченный ветрами, смело взрезал синь небес, а потом за куполами старой церкви – фюить – исчез.
Рухнула без чувств царица, царь вдогонку стражу шлет. Все кружится-колготится, себе места не найдет, ускользает от контроля. От бессилья в горечах раздраженный царь Егорий львом разгневанным рычал. Но устроено в природе, что правительственный круг – не абы какой народец, а царев родня иль друг. Всем хотя министры важны, но сейчас они при чем? Напустился царь на стражу, разгильдяйство им причел, и с дальнейшим возмущеньем налетел на столяра:
– Из каких соображений ты подсунул нам орла? Заговор плетешь, скотина? Кто тебя сюда пустил? Ты единственного сына цель поставил извести?
– Может, он сейчас вернется?..
– Замолчи, презренный раб! Да над нами он смеется! Что погиб царевич, рад? Стража! Негодяя – быстро в подземелье! Без еды! И попутал же нечистый похвалить его труды! Коль Ерему за неделю не найдем здорового, то получит твоя шея галстука пенькового! Хороша тебе награда? Век не будешь ты прощен! А что из казны потратил – все на твой запишут счет.
Парня тут и повязали. Знать, недаром говорят: пусть обходят вас подалее любовь и гнев царя…
Глава 4
Вольный ветер веселится, все свистит, шумит в ушах – на орле царевич мчится. А погодка хороша: солнце, неба синь, желтящая былой травой земля, паводковых вод блестящие безбрежные моря, кроны порыжевших ветел, тронутых весны теплом, журавлиный клин в полете над сиреневым холмом. Крепкий ветер кудри треплет, озорует в голове, но сидит Ерема цепко на невиданном орле. С высоты полета птицы, чьи крыла его несут, все глядит – не наглядится на земли родной красу. А в лазурной чистой выси над Еремой петли плел, все не отставал, кружился, наблюдал большой орел.
– Эй, почетный караульный, ну-тка, наперегонки! Перегоним ветер буйный, дующий повдоль реки?
Но орел проигнорировал Еремины слова, где-то в вышине лавировал и виден стал едва. И над бором зеленеющим пошел на разворот, будто бы зовя царевича назад, а не вперед.
Тут опомнился Ерема, что далёко залетел, и орла к родному дому повернуть он захотел. Но как только не крутил он деревянную главу, только над летящим дивом властвовал вихорь-ревун. Ветер хлестче, ветер злее пробивался под сюртук. Словно вновь зимой завеяло средь дней весенних вдруг. Смог Ерема оглянуться – тучи черною горой! Как же мог он обмануться переменчивой порой?
Он представил, что творится в им покинутом дворце. В мыслях маме повинился, загрустился об отце…
Да куда же приземлиться – всюду воды да леса? Но бояться не годится! Вон речная полоса с бережком сухим граничит… И, остатком своих сил правя головою птичьей, скорость резко погасил, вниз повел орла Ерема, хоть и сам не знал пока, что за место незнакомо и неведома река. «Только не разбиться как бы!» – мысль искрою пронеслась, и меж кочек и ухабов угодил Ерема в грязь.
Встал, кряхтя, орла приподнял – вроде цел и невредим. Взял его, пошел, но понял: здешний лес непроходим. Впрочем, надписи тут нету, ни столба, ни камня тож: «Коль пойдешь дорогой этой… Коль другою ты пойдешь…» Значит, есть одна дорога: вдоль по берегу реки, до чьего-нибудь порога, злому року вопреки. А река катила глади с запада и на восток. Еремей, на солнце глядя, в путь пошел искать исток. Слава Богу, что хоть тучи не дошли до этих мест: было тихо и получше видно местность всю окрест. Ясно солнышко блистало, но, хоть ноша тяжела – на плечах своих усталых Еремей тащил орла. Вот и час, другой и третий близ воды Ерема брел, только так и не приметил ни намека на жилье. И какой там холод – жаркий пар от потных плеч валил! Но орла-то бросить жалко – он его спасеньем был. Отдохнуть, за крылья взяться и как крест его взвалить. Так сказать, любил кататься, люби саночки возить. Спину, ноги, руки больно, и закат угас давно. Глядь – меж сосен гладкоствольных вроде светится окно.
Поспешил туда царевич… Впрочем, нет – поковылял. Силы-то ему взять где уж – почитай, полдня шагал. Не видение, не грезы: там, за просекой, стоят высоченная береза да домишек сонный ряд. Ближняя изба большая (на крылечко, на порог!), ветхая, но ведь жилая: из трубы идет дымок. Двери изнутри закрыты (ручку не найти во тьме): «Христа ради, отворите!» – принялся кольцом греметь.
Приоткрылась дверь наружу. На пороге – со свечой в сухонькой руке – старушка:
– Это кто ж такой еще?
– Да я, бабушка, Ерема, сын Егория-царя. Ты пусти меня до дому – утомился очень я.
Та промолвила, взирая из-под спутанных седин:
– И откуда в нашем крае очутился царский сын?
– Бабушка, я без утайки все тебе готов сказать, но, пожалуйста, мне дай-ка хоть горбушку покусать. Я не ворог, не грабитель, я крещеный, как и ты, только вот свою обитель не могу пока найти.
Мать седая повернулась и Ерему позвала. Тот забрал с собою с улицы летучего орла.
В горнице, под светом тусклым трех иль четырех свечей, скарба виделось не густо, ценных не было вещей. Чисто по углам, но балки перекошены слегка. Знать, одна живет хозяйка, нету в доме мужика.
– Грабить, как ты видишь, неча: злата нет, да не беда. Вот полати, щи из печи, да кусочек хлеба дам. И сними свою одежу. Ее надо постирать. Сыну царскому негоже в грязной свитке щеголять. А чтобы не застудиться, это вот одень пока, – и какие-то тряпицы подала из сундука. В другой раз Ерема вряд ли захотел надеть бы их. Но какие варианты? Вариантов никаких!
Щи простецкие, конечно, есть царевичу нельзя. Только он ведь, делом грешным, провиант с собой не взял! С молодецким аппетитом принялся их уплетать; через пять минут был сытым, и по телу благодать заструилась теплой гущей. Веки стали тяжелеть, и, чтобы пока грядущий сон ему преодолеть, он спросил:
– А как, бабуля, звать тебя и величать?
– Катериной. Так какую ты у нас забыл печаль?
Рассказал Ерема кратко, как то утро началось. Как он на орле украдкой улетел, и как пришлось, с ветром споря, опуститься у разлившейся реки, после берегом тащиться, как увидел огоньки и к ней в двери постучался.
Катерина, пряча взгляд, подивилась:
– Да, не часто к нам царевичи летят… Да еще на деревянном управляемом орле. Даже и не знаю прямо, стоит верить ли тебе? Впрочем, разве только птицей к нам и можно залететь. Ты не знаешь, что творится в нашем городе теперь…
– Что за город? Что тут скрыто? Что тут деется у вас?
Чавкая бельем в корыте, нехотя отозвалась тихая Катерина:
– Город наш зовут Грязань, за целительные глины, что кругом него, назван… Про житье-бытье про наше будем завтра толковать. Ты ложись, милок, пока что. Нечего сидеть, зевать.
Повторять пришлось бы вряд ли парню после всех дорог. На полатях, как в кровати, он уснул без задних ног, только лишь до них добрался, и до утра прохрапел. Не услышал, как старался, громогласно, бойко пел, во дворе туманно-синем ранний дерзостный петух; как взяла Екатерина яйца от его подруг; как зажгла дровишки в печи, от огнива запалив; как в котел поклала гречи, кашу гостю заварив. Но лишь запах духовитый стал дразнить Ереме нос, расторопно-деловито на пол наш царевич сполз.
Поприветствовал хозяйку, свою помощь предложил, чем лукавый, как у мамки, взгляд в свой адрес заслужил. От такого предложенья отказалася она: мол, привыкла к положенью, что все делает одна. За столом немногословна, но учтива и добра, потчевала его, словно, то не каша, а икра. И царевич без смущенья, в обе щеки уплетал, что, подумаешь, неделю без посадки пролетал. А закончивши с едою, вышел в светлый город он, чтоб понять, зачем судьбою был сюда он занесен.
Раз костюмчик, знамо дело, не просох тогда еще, в том, во что его одела она ночью, и пошел. В рассуждении известном – это на руку ему: будет выглядеть, как местный, что не местный – не поймут.
Глава 5
Городок, куда Ерема ненароком залетел, жил в какой-то полудреме, словно чем-то заболел. Колготятся молча люди, кони тащатся – топ-топ, но внимательно друг к другу не относится никто. Не шумят, играя, дети, рог почтовый не звучит, не смеются звонко девки, в кузне молот не стучит… Каждый делает чего-то, лишь бы ног не протянуть. Еле движется работа – шатко-валко, по чуть-чуть. У ворот молчащих храмов кучки нищих да больных тянут руки в грубых шрамах до монеток мелочных. Куры, свиньи – тоже дремлют, если не сказать, что спят. И как будто само время тихим шагом движет вспять. Устаревшие одежды, захудалые дворы, явно неплохие прежде, обветшали с той поры. Замощённые когда-то улицы теперь в грязи, а над мостовой щербатой ветер мусорный сквозит. Зато, когда крайне редко, пролетит под шум и гром распрекрасная карета – и исчезнет за углом, еще долго машут шапками простые мужики, словно бы холопы жалкие хозяям городским.
С трех сторон закрыт стеною, как во времена татар, незакрытой стороною город к речке подступал. Еремей весь день слонялся, все глядел да примечал, встречных расспросить пытался, да никто не отвечал. Видел рынок, видел пашню, подходил и ко дворцу (опознал его по башням, да узорному крыльцу). А под вечер, возвращаясь в дом хозяюшки своей, он решил принять участье в деле, где он был нужней: дедушка суровый правил покосившийся забор. Подсобил ему наш парень, дед же начал разговор:
– Редко здесь нездешних встретишь…
– Как определил, дедусь?
– Я давно живу на свете… Пантелеем я зовусь, – руку протянул.
– Ерема! Прибыл к вам издалека.
– Вижу: личность незнакома. Не обманешь старика!
Был дедок молодцеватый, только больно сухощав, с бородой седой, как вата, с грустью в выцветших очах.
– Уж давненько в нашем крае не видал такого я: как прохожий помогает старику убогому. Что там деду – и друг другу не помогут ни за что. Ты один на всю округу мимо деда не прошел.
– А что так?
– Да, было время… Жили дружно, как семья. Да с приходом Мультимера умерла земля моя. Дедов и отцов немало полегло на битве с ним, а не стало раз бывалых – малых быстро соблазнил. Стал учить он: коль есть силы, то работай, не плошай; а кто немощный и сирый – тот ложись и помирай. Стал учить он: каждый властен свое счастие ковать; да под счастьем лишь богатство стали подразумевать. Стал учить он: тот, кто беден – тот дурак или лентяй; так что страх и стыд не ведай, честь и совесть забывай! Раньше были все едины – будь ты пахарь или князь. А теперь прекрасно видно – барин ты иль раб сейчас. За работу не радеем, ведь какой в работе толк: отберет все, кто сильнее, ты же снова без порток. Дальше своего корыта всяк смотреть уже не мог. Совесть чистая забыта – значит, позабыт и Бог. Не желаем больше слушать в своих душах Божий глас – незавидна наша участь, отвернулся Он от нас. Свыклись люди с этой жизнью и меняться не хотят. От рождения до тризны только небеса коптят. Без мечты, без целей гордых перебиться норовят. Я смотрю, что с каждым годом бабы меньше все родят.
– А ваш вождь не замечает, сколь народа не у дел?
– Так ведь то глаз примечает, что увидеть ум хотел.
– Что ж вы не просили помощь хоть у самого царя?
– Неужели ты не помнишь: стены же кругом стоят! Мультимер велел их строить, только власть лишь захватил. И скажу тебе: не стоит тратить мужества и сил, чтобы через них прорваться: возле стен-то сторожа! Кто пройти сквозь них пытался – все в земле сырой лежат.
Налетел разгульный ветер, чуть что шапку не сорвал, а царевич так ответил на дедулины слова:
– Ты же сам заметил, старец, что тебе я не земляк. Значит, где-нибудь осталась тропка, коей прибыл я? Ну, а если ею прибыл, значит, ею и уйду. И управу на злодея я, клянусь тебе, найду!
И чтоб дед из любопытства не спросил еще чего, пошагал Ерема быстро в дом, что приютил его. Коротая вечер длинный хлебом-солью к ужину, он спросил Екатерину вроде про ненужное:
– Город ваш большой довольно: все базары да дворы. Видел реку, видел поле, ну, а нет ли где горы?
– Да горы у нас и нету… А зачем тебе гора?
– Ветер вольный шлет приветы: говорит, домой пора! Мой орел летать гораздый, лишь столкнувшись с высоты. А с горы-то мы с ним разом до столицы долетим!
– Нет горы!..
– Ну, нет, так нету. А есть башня у дворца. Может, ты про башню эту мне расскажешь два словца? Знаешь, многое смогу я. Я – бедовый парень, страсть! Подскажи-ка мне бабуля, как на башню ту попасть?
Катерина помрачнела и осунулась лицом. Вроде, чем-то захотела поделиться с молодцом… А потом вздохнула тяжко – рассказать, не рассказать – и заплакала, протяжно ставши плачу подвывать. Озадаченный царевич к Катерине подошел, бережно обнял за плечи, рядышком присел за стол. А она утерла слезы краем белого платка и печально и серьезно вдруг заговорила так:
– Ты меня вот все «бабулей» называешь, паренек. А ведь мне в июне будет сорок пятый лишь годок. Ну, а то, что похудела и совсем уже седа, – так состарить могут беды, а не только лишь года. Было мне когда-то, парень, столько, как тебе сейчас. Был красавец-муж, Захарий. Его другом был наш князь. И была Аленка – дочка, озорная колгота… Было ей лишь два годочка, когда в дом пришла беда… Мой Захарий – егерь княжий, на охоту с ним ходил. И медведь огромный, страшный князя как-то завалил. Князя стал спасать Захарий. Он к медведю подбежал и ножом его ударил, после ранил из ружья. Отпустил зверина князя, ринулся на муженька, навалился тушей грязной, да измял ему бока. Когда в дом вносили мужа, был он, сокол мой, живой. Видно, Богу было нужно, чтоб простился он со мной. И со мною, и с дочуркой попрощался, чуть дыша… Утром, как огонь в печурке, отошла его душа…
Катерина приумолкла: вновь туманные глаза видели тот час далекий, где любимый угасал. Время раны тела лечит – шрамы будут все равно. А душевным ранам легче сделаться не суждено…
– Князь был щедр. Похоронили мужа, словно ратника. Я же от его могилы не могла уйти никак. По любимому по мужу истомилась с горя вся. Да еще была к тому же я в то время на сносях. Месяц я не доходила и мальчонку родила. Нарекла его Данилой, окрестить его смогла. Но прожил он три недели – и прибрал его Господь. И что мне? Петлю на шею? А Аленку чего ждет? После этого несчастья стала быстро я седеть. Приходили люди часто, не давали помереть… Тут как раз сама княгиня в это время родила. Князь, мои печали видя, попросил, чтоб я была новорожденной их дочке первою кормилицей. Так я матерью молочной княжеской любимицы зажила в господском доме. И Аленушка со мной. А княжна-малютка Оля тоже стала мне родной. Мы с княгиней подружились, дав друг другу лишь добра. А Аленка относилась к Оле словно бы сестра. Как кормить я перестала, все равно княгиня-мать при себя меня оставила с девчушками гулять. Так росли, как две сестренки у душевного отца две девчонки, два ребенка, два создания Творца… Хоть Алена и постарше на два годика была, Оля не была отставшей, ни в учебе, ни в делах. Так мы справно и прожили шесть вполне счастливых лет. Радость годы возвратили, а вот цвет волос уж нет!
Вновь потух Екатеринин взгляд растеплившихся глаз. И огарочек лучины тоже щелкнул и погас.
– Что же дальше с вами сталось?
Катерина сникла чуть, от лучины, тлевшей малость, подожгла еще свечу и продолжила тяжелый в памяти ее рассказ. Огонек, в ночи зажженный, не повеселил сейчас.
– Той зимой меня просватал лучший княжеский стрелок. По весне хотели свадьбу справить, но опять злой рок не дал планам тем свершиться: Мультимер нас захватил. Не смогли тогда отбиться от его бесовских сил. Пал и мой стрелок отважный. Впрочем, я все не о том… Ты ж меня спросил про башню, что стоит перед дворцом.
…Убедившись, что не будет в битве славного конца, князь к любимым самым людям в дом свой отослал гонца. Передал, что путь к спасенью есть всего один – река. Лодки донесет теченье до другого городка! Только было уже поздно. Мы спустились на крыльцо – там уже бандитов грозных замыкалося кольцо. Не помог гонец – застрелен, принял пулю прямо в грудь! И спросить я не успела, как служивого зовут. Бородач чужой к княгине без смущенья подбежал, на глазах детей невинных в сердце ей вонзил кинжал. Я кричу: «Бегите дети, там, где лодки и река!» После слов осела этих от удара кулака. Брызнули мои дивчины и исчезли в воротах, я же снова получила сапогом тяжелым в пах. «Дурни, бросьте вы старушку! – старший бородач вскричал. – Девок догоните лучше!» И награду обещал, тем, кто приведет девчушек. Седина меня спасла, хоть, наверно, было б лучше, чтоб я сразу померла… Я едва доковыляла в дом, что мой построил муж. И с тех пор я не видала девочек сбежавших уж. Княжескую дочь догнали, говорил потом народ. А Аленушку искали – не смогли найти ее. Может, спрятаться смекнула у каких добрых людей. Но пятнадцать лет минуло – от Алены нет вестей. Я живу – сама не знаю, для чего теперь живу. Не живу, а умираю, словно грежу наяву… Мультимер построил башню, что ты видел у дворца. Там теперь тоскует наша Оленька-красавица. Ходит слух, хочет жениться только лишь на ней одной! Только кто же согласится стать захватчика женой? И попасть на эту башню, ты и думать не моги: под охраной стражи страшной в ней княжна наша сидит. Говорят, под самой крышей есть светелка у нее, чтоб не видеть и не слышать, что там на земле идет…

