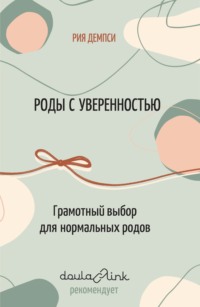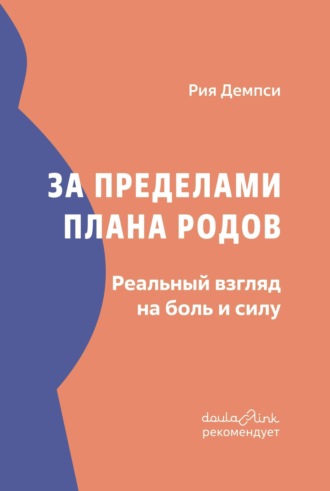
Полная версия
За пределами плана родов. Реальный взгляд на боль и силу
Роды Сары были затяжными, но ее внешний выбор и внутренняя подготовка сослужили ей хорошую службу. В конце концов она покорилась своему телу, и ее дочка родилась именно так, как Сара и хотела. Возникло уважение к своему телу, телу женщины, и это уважение стало еще одной опорой в материнстве.
Отношение к авторитетам
Даже если мы чувствуем себя уверенно в отношениях с окружающими, мы можем при этом страдать от низкой самооценки – обычно это следствие раннего опыта, в том числе полученного в детстве воспитания.
Уверенность в себе и сильное чувство собственной автономности – ключевые факторы в нормальных физиологических родах. Да, взять на себя ответственность информировать окружающих, выбирать, придерживаться своих ценностей, проявлять свою взрослость, свою зрелость – ведь сейчас родится маленький хрупкий малыш – все это важнейшие этапы нашего развития, если речь идет о родах и родительстве. Современная культура родов испытывает эти навыки на прочность. Потому что сегодня культура родов за редким исключением оказывается по отношению к женщине «в позиции сверху». А как вы взаимодействуете с авторитетами, когда сталкиваетесь с ними?
Беременная женщина «имеет точно такое же право принимать самостоятельные решения, как любой другой человек, и эти решения должны уважаться точно так же», пишет Ребекка Шиллер[171] («Почему права человека имеют значение в родах»). В теории – да. Но вот австралийское исследование, как на практике влияет отказ женщины от рекомендованных протоколов на происходящее в родильном отделении, говорит о другом. Обнаружилось, что хотя на словах признается и уважается автономность женщины, как только женщина переступает медицинскую «границу» (обычно это «граница» врача), это вызывает отнюдь некорректные реакции, например манипуляции, наказание, оценочные суждения, травлю, оскорбления[172].
Что происходит с вами при встрече с авторитетами? Кто тогда проявляется? Испуганная малышка или «непослушная девочка», всем удобная «отличница» или резкий колючий подросток? А может быть, женщина, осознающая свои ценности, понимающая свои возможности и готовая отстаивать их – как в случае попытки манипуляции, так и в ситуации уважительного партнерства, где в приоритете – потребности женщины?
История Кирстен показывает рост автономии, который я имею счастье видеть у многих женщин, готовящихся к родам.
Кирстен рассказала мне, что она пасует перед авторитетами. Она заметила, что ей сложно быть «здесь и сейчас», а не «просто раствориться, когда бросают вызов», либо она «старалась быть тихой и хорошей, потому что от конфронтации испытывала дискомфорт».
Кирстен думала, что домашние роды позволят ей укрепить свой собственный внутренний авторитет, одновременно обходя различные проблемные ситуации в родах. Да, она так думала. Ее малышка родилась дома: «Никто не говорил нам, что делать, никто за нас не поймал ее, никто не торопил нас. Все молчали, нам с уважением дали время просто быть, встретить друг друга. Это был очень важный момент для осознания своих возможностей, своей силы, себя как женщины». Однако плацента все не отделялась, и Кирстен перевели в госпиталь для оказания помощи. Вот это стало настоящим экзаменом. Как встретится она с авторитетом, которым является госпиталь? Получилось ли у нее укрепить свой внутренний авторитет?
«Госпиталь как учреждение обычно являлся для меня фигурой силы, но в тот день я приехала как равная», – говорит она. Роды сотворили чудо: «Мое восприятие себя как женщины и мое ощущение себя в этом мире – все изменилось навсегда», – продолжает Кирстен. В результате ее взаимодействие с медперсоналом было качественно другим. «Я чувствую, что перевод в госпиталь… служил важной цели: чтобы я увидела, как моя способность к действию сменила сомнения и неуверенность в себе».
Личное пространство и уверенность в своем теле
В родах задействованы элементы, характерные и для других телесных процессов – сексуальных реакций и функций, а также функций выделительных. Большинство ожидает (и предпочитает!) проживать такой опыт в местах, где можно быть уверенным, что нашему личному пространству, достоинству и автономии ничто не угрожает. Не в каждом родовспомогательном учреждении, однако, эти потребности удовлетворяются. И это влияет на гормоны родов и на родовой процесс.
Если говорить о личном пространстве, то хорошим стартом станут роды с заранее известными специалистами, а не с незнакомцами. Также многие женщины отмечают, что погружение в воду не только снижает боль и дает свободу движения, но и создает чувство безопасности и личного пространства. (Акушерка Анни Спраг исследовала эффекты погружения в воду во время родов; она объясняет, что в водных родах женщины «не чувствуют себя на виду, ощущают, что они одеты»[173].) Сегодня некоторые роженицы договариваются с госпиталем и приносят свои надувные бассейны. Но если в вашем госпитале погружение в воду невозможно, то отдельная палата с душем также создает необходимое уединение.
С нашей потребностью в личном пространстве и «сакральном месте родов» тесно связана уверенность в своем теле. Спасибо нашему обществу, маркетингу и существующей мизогинии – их влияние на женщин очень велико, и не то чтобы мы все были очень довольны своим телом. Вот история Даун, для которой личное пространство в родах было очень важным. Она описала себя как «очень стесняющуюся своего тела». «Мое тело совсем не такое, какое одобряют общество и СМИ; и мне сложно это игнорировать»[174]. Нагота, позы и звуки, обычные в родах, могут не совпадать с представлениями роженицы о приемлемом, женственном. И если женщина стыдится этого, то легко можно представить, как ее смущение повлияет на способность покориться инстинктам родов, вести себя в родах органично.
Без сомнения, сегодня все больше женщин вновь обретают уважение, благодарность и любовь к своему телу. Они восхищаются своим телом и его способностью выносить, родить и выкормить замечательного малыша. Насколько ваше отношение к своему телу здорово? Можете ли вы открыть в себе глубокое уважение и любовь к тем силам своего тела, которые проявлены во время беременности и родов?
Сексуальность
Полное открытие шейки матки не только выпускает ребенка в родовые пути. Оно также выпускает ребенка в зону, которая до этого момента для большинства была связана только с сексом. И для большинства это источник сложных эмоций. Роды у тех, кто пережил насилие, требуют от персонала травмаинформированного подхода и особенной деликатности. Мы будем подробно говорить об этом в следующих главах.
А типичные для любой женщины «слабые места» – страх возможных травм тазового дна и влияния этих травм на ощущения во время интимной близости – иногда становятся причиной сопротивления на потугах, «удерживания» малыша.
Многие исследователи родов признают ценность чувственности и сексуальности в родах, как, например, Элизабет Дэвис и Дебра Паскали-Бонаро в своей книге (и в фильме) «Оргазмические роды»[175]. «Секс дает нам опыт существования на пределе, на пике выброса гормонов, на высшей точке любви, наслаждения, чувств, волнения, нежности. И это те же самые гормоны, что в родах», – пишет врач и писательница Сара Бакли. Она считает, что «роды – это как по сути своей, так и с точки зрения гормонов есть страстный акт интимной близости»[176].
Можете ли вы принять роды как еще одно выражение своей сексуальности? Или вы придерживаетесь социально одобряемой установки, что роды – это просто обычное медицинское событие? Как ваше мнение повлияет на ваш выбор в родах, на вашу подготовку?
Помню одни прекрасные больничные роды – женщина чувствовала жжение в области клитора по мере того, как малыш появлялся на свет. Она прижала ладонь к клитору и кричала: «Только не клитор, что угодно, только не клитор!», а малыш продолжал выходить. Это несколько смутило медперсонал, но в родах сработало прекрасно. Потом она пришла на послеродовую встречу и сообщила, что «все работает еще лучше, чем раньше!»
Ролевой конфликт
От социальной нормы пятидесятых годов прошлого века («папа на работе, мама дома») мы пришли к социальной норме, которая (по крайней мере, на поверхности) утвердила гендерное равенство. Феминизм стал одним из социальных явлений, приведших к этим переменам. Но до их полного воплощения в жизнь нам еще далеко. Современные социологические исследования утверждают, что 90–98 % современных пар возвращаются к традиционному разделению труда (то есть к модели 1950-х годов), как только становятся родителями; равное распределение ролей практикуют 2–10 % семей, а полный обмен ролями наблюдается только в 3 % случаях[177].
И ни в одной сфере этот незавершенный процесс, эта борьба не проявляются так ярко, как в беременности, родах и раннем материнстве. Пока что изменение социальных ролей коснулось выхода женщин на ранее традиционно мужской рынок оплачиваемого труда, а вот изменений в сфере неоплачиваемого труда и традиционно женских функций, включая беременность, роды и раннее материнство, пока еще мало.
Текущая ситуация означает для женщины, что во время беременности возникает напряжение между ролями «женщина мира» и «мать семейства». Беременная «женщина мира» обычно работает в месте, которое функционирует по нормам, принятым в мужском мире. Оно подходит бездетным сотрудникам или семьям, где работает один из партнеров.
Поэтому сложно учитывать ритмы и запросы своего беременного тела (и тем более покоряться им), особенно на поздних сроках, когда магия окситоцина пробуждает наш «младенческий мозг». В идеале этот гормональный процесс способствует возникновению сонастроенности с малышом. А позже он обеспечит формирование привязанности и материнской заботы, которые эволюция сохранила как лучшие возможности для выживания и благополучия ребенка.
Из-за недостатка сфер труда и социальных структур, где бы эти особенности поздней беременности учитывались, женщины часто испытывают утомление, тревогу и противоречивые чувства. Это нарушает равновесие между концентрацией в крови окситоцина и адреналина. И не делает прогнозы на нормальные физиологические роды благоприятнее.
Мне кажется, что это также имеет какое-то отношение к тому факту, что в Австралии только 46 % родов начинается самопроизвольно, под влиянием нашего «родного» окситоцина[178].
После родов и водоворота первых недель с малышом молодая мама вступает в мир «домохозяйки с ребенком», сильно отличающийся от волшебного мира, который она представляла себе во время беременности. Затем внутренний конфликт между ее двумя идентичностями нарастает, и молодая мама, лишенная поддержки, обнаруживает, что «социальный конструкт материнства в западном обществе» сравним с «интенсивными родами – дома и в одиночестве»[179]. «Одиночество современной матери не исключение, а общее правило», – пишет Джамиля Ривзи в книге «Материнство»[180]. Истории в этой книге также иллюстрируют глубокий ролевой конфликт между «быть матерью» и «быть собой» – таков опыт многих моих героинь.
Затем, когда женщина выходит на работу и возвращается к общественной жизни, «справедливого разделения ролей, которое представляло себе большинство, не происходит. Также отсутствуют социальные структуры, которые поддерживали бы функционирование женщины в обеих ролях», пишет социолог Петра Баскинс. Женщины пытаются быть сразу и самостоятельными личностями, и полноценными матерями, утверждает она. Чем-то приходится жертвовать. И часто женщина жертвует собой как личностью. «Это заставляет многих женщин чувствовать, что они не преуспели ни в одной из этих сфер»[181].
Сейчас в обществе происходят быстрые социальные перемены. Наряду со всем вышеперечисленным они ведут к тому, что исследователи называют «хрупкостью отношений». В Австралии, говорит Баскинс, «треть всех браков заканчивается разводами»; в следующих десятилетиях прогнозируется рост разводов до 40–50 %. Конечно, у этого явления комплексные причины, но главный стрессовый фактор в браке или стабильных отношениях – рождение первого ребенка. Как пишет Баскинс, «в гетеросексуальной семье с рождением первого ребенка обычно возникает напряжение», и здесь возникает неравная расстановка сил. Исследование показывает, что «переход двух свободных равноправных „личностей“ к ролям матери и отца возвращает пару, которая, оказывается, вместе с другими бездетными „проводила каникулы в стране равенства“, в мир неравенства, куда более устойчивый»[182].
Конечно, хотя этот ролевой конфликт ударяет по конкретным женщинам и их семьям, корни его – в более широких социальных, гендерных и рабочих структурах. Женщины в нашей реальности продолжат нести бо льшую нагрузку, пока гендерное равенство в сфере труда не станет нормой и отцы не возьмут на себя часть родительских и домашних обязанностей, которые традиционно считались женскими.
Что же это означает для родов? В моем понимании тренд эры обхода родов частично вызван запросами «женщин мира». Без сомнения, социальный выбор индукции родов или кесарева сечения обеспечивает контроль и удобное время родов, также это снижает влияние родов на роль «женщины мира», поскольку все (сама женщина, ее партнер, остальные члены семьи, работодатель) могут встроить роды в свои планы. Некоторые женщины делают подобный выбор. Однако, если вы планируете нормальные физиологические роды, «ожидание», необходимое для спонтанного начала родов, станет одним из многих вызовов, которые роль матери бросает роли «женщины мира». Необходимо признать наличие этих ролевых конфликтов. В самих родах любая амбивалентность, любой конфликт между частями нашей личности могут повлиять на гормональный баланс, важный для прогресса родов. И конечно, если вы видите, что какие-то из этих пунктов относятся к вам, необходимо обсудить их с партнером и участниками группы поддержки.
Страх неудач
Этот страх тесно связан с потребностью все контролировать. Страх не справиться – самая распространенная мотивация, формирующая как сознательное, так и бессознательное поведение большинства. Типичная реакция на страх неудачи в любой сфере нашей жизни – это предвидеть возможную «провальную ситуацию» и всеми силами избегать ее; не завышать свои ожидания, чтобы избежать стыда в случае провала; не прилагать слишком больших усилий к достижению цели – это всегда позволяет нам сделать хорошую мину при плохой игре и объяснить, что мы просто «плохо подготовились»; хорошо работает также психологическая защита «это не моя ответственность», либо «это вопрос везения»; часто встречается гиперконтроль любого, даже самого мелкого, обстоятельства; и, конечно же, прокрастинация. Страх не справиться – это «сильная и деструктивная тревожность… Личность человека так сильно вовлечена в процесс, что любой намек на неудачу равносилен для этого человека разрушению своего „я“», считает психотерапевт Стивен Джонсон[183].
В послеродовом периоде страх неудач (или страх, что нас воспримут как неудачниц) часто становится причиной нежелания говорить о своих страхах или активно искать практическую помощь и эмоциональную поддержку. К несчастью, тревожность и страх неудач – близкие друзья, и оба «друга» часто родом из стремления к перфекционизму.
Проблема страха неудач особенно остро стоит в контексте современной культуры родов, где женщин учат особенно ни на что не рассчитывать, чтобы не разочаровываться и не чувствовать себя неудачницами, если не удалось родить естественно. И, конечно, в системе, которая подрывает доверие к телу женщины и к ее способности родить, в которой сложно получить условия, необходимые для нормальных родов, и кроется причина неудач. В системе, а не в конкретной женщине.
Тем не менее, если вы настроены на нормальные роды, но страх неудач – это ваша тема, вам, без сомнения, нужна глубокая психологическая работа. Анализируя другие сферы своей жизни, вы, возможно, распознаете механизм, который помогает вам избежать стыда, связанного со страхом неудач. Подумайте, как этот механизм может проявиться в вашем выборе места родов и специалистов. А как он проявится на сильных схватках? Как повлияет на ваше материнство? И что нужно вам, чтобы изменить свою историю?
Изменение семейных отношений
Когда сначала открывается шейка, а потом родовые пути и рождается ребенок, одновременно открывается и новый мир (особенно с первым малышом) – рождается мать, появляются отец, дедушки и бабушки, братья и сестры, тети, дяди… возникают новые семейные связи, жизнь меняется.
Шейка – часть вашей матки, которая защищает, питает. Во время беременности шейка работает, если хотите, и в прямом, и в переносном смысле как хранитель вашего малыша. Она крепко-накрепко закрыта, чтобы малыш был в безопасности, был отделен от внешней среды. Но в конце концов самым безопасным для малыша становится необходимость родиться. Поэтому в родах матка как хранитель малыша должна открыться.
Многим женщинам сложно расслабиться и «отпустить» свою шейку, именно потому что так они отпускают ребенка в наш мир. Если женщина психологически сопротивляется грядущим изменениям в ее мире и в структуре семьи, если она страшится их, это может вызвать физическое сопротивление и затормозить раскрытие шейки.
Часто при рождении вторых и последующих детей я видела, как замедлившиеся было роды возобновлялись, когда женщина признавала, что горюет о неизбежных переменах в отношениях со старшими детьми, и давала своим чувствам выход. «Перед тем, как я действительно смогла отпустить себя во вторых родах, – вспоминает Джоан, – мне было нужно пойти к первой дочке, Мие, вдохнуть ее запах и поплакать о нашей особенной связи. Ох, я так плакала! И после этого все началось – и наш дорогой новенький малыш родился!»
На роды других женщин может влиять беспокойство об отношениях с партнером. Готовы ли вы к этим изменениям? А может быть, ваша готовность снижена из-за каких-то практических обстоятельств, психологических проблем или особенностей ваших отношений с окружающими?
Беременность – хорошее время, чтобы реально взглянуть на свои планы, подготовку и грядущие перемены. Доступна ли (и будет ли доступна) какая-либо поддержка? Не нужен ли серьезный разговор с партнером, с родными или с друзьями?
Разобраться с амбивалентностьюАмбивалентность поджидает нас в каждом жизненном событии – часто нам нужно отпустить прошлое и открыться будущему, и все это одновременно. Мы часто «хотим, но боимся» и потому сопротивляемся переменам, одновременно стремясь к ним. И, конечно, можно ожидать амбивалентных чувств в преддверии такого важного события, как появление ребенка. Потому что для большинства опыт материнства ни хороший, ни плохой – в нем и то и другое.
Но если амбивалентные чувства вполне ожидаемы, для некоторых женщин это очень сильные чувства, надолго меняющие жизнь. В родах могут проявиться нерешенные амбивалентные «тупики». Вот как описывает такой «тупик» в родах своей лучшей подруги студентка акушерской школы: «Какая-то часть Эми хотела оставить малышку внутри. Потому что после рождения дочки Эми получала новую идентичность не только как мать, но и как мачеха, жена, а еще она переезжала из Мельбурна в Брисбен. Конечно, она нервничала, и чувства ее были амбивалентными: еще бы, такие огромные перемены! И мы обе очень грустили о расставании – ведь пятнадцать лет мы были неразлучны. И я спрашиваю себя, не сказалось ли все это на ее длинных непростых родах?»
Амбивалентность чаще всего проявляется в такие моменты родов, которые требуют максимальной включенности женщины, – в самом начале родов, при наступлении активной фазы, переход к потугам и, наконец, при рождении ребенка. Такая включенность означает способность покориться процессу родов. Для этого нужно доверие – к себе, к своему телу, к малышу, к своим отношениям, к изменениям в своей жизни. Но каждый из этих пунктов может быть источником амбивалентности. Если мы оставим амбивалентные чувства непроработанными, то в родах можем застрять на стадиях максимальной включенности. Застрять до такой степени, что вмешательства могут показаться (или оказаться) необходимыми. Однако поддержка в работе со скрытыми чувствами может помочь; такая работа способствует прогрессу (в том числе и в родах).
История ЛеониМного лет назад Леони на целый час «застряла» в родах – физически тяжелый «тупик», сильные ощущения безо всякого прогресса. Это произошло на стадии перехода от первого периода родов ко второму, и причиной тупика стала передняя губа шейки – идеальное физическое воплощение амбивалентности, если оно вообще существует. Шейка почти полностью открылась и была готова выпустить малыша в родовые пути, что, как вы понимаете, означало: малыш практически у Леони на руках – то есть ее тело говорило да. Но губа шейки не пускала малыша – так что ее тело одновременно говорило нет. «Какие неразрешенные амбивалентные чувства, какие страхи сейчас проявляет ее тело?» – думала я.
Леони меняла позиции, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, использовала дыхательные техники, которые сдерживали желание тужиться, ведь малыш упирался головой в отекшую шейку. А вышли мы из этого тупика, когда я попросила ее назвать все страхи, которые мешали ей отпустить малышку.
Тогда на пике фрустрации она огорошила ничего не подозревающего партнера: «Это все гребаные деньги!», – выплюнула она ему в лицо. Она продолжала, и совершенно обалдевший партнер услышал, что она переживает, что зарабатывает больше, чем он, и она не знает, как они теперь будут, когда она не работает, и она хочет еще детей!
Эти тайные чувства были новостью для партнера. Но он прекрасно справился с ситуацией, уверив Леони, что сейчас ей не стоит волноваться, ведь он все обдумал и у него есть план. На этом месте Леони разрыдалась в его объятиях, и через несколько схваток губа ушла, и показалась головка ребенка. А еще несколько потуг спустя замечательная девочка выскользнула прямо в руки к своему папе.
В моем понимании катартическое высвобождение чувств и сменившее его чувства безопасности, созданное ее партнером, у которого был «план», – все это помогло гормонам родов и телу Леони выполнить свою работу.
Я так и не узнала, действительно ли у ее партнера был «план», но в тот момент это прекрасно сработало.
Конечно, из этого физического «тупика» можно было выбраться с помощью эпидуральной анестезии, которая убрала бы желание тужиться. Однако эпидуральная анестезия не только могла бы привести к эпидуральному каскаду, но и не допустила бы катартического высвобождения чувств, скрытых страхов, и, возможно, напряжение в паре сохранилось бы и в послеродовом периоде.
Но насколько лучше было бы проработать это все до родов!
Эмоциональная работа во время беременности: для родов и родительстваРабота патронажных сестер – это помощь мамам и малышам после выписки из госпиталя. Она продолжается и после окончания послеродового периода. Многие сестры говорят мне, что у них чувство, будто они собирают по кусочкам разбитую систему родовспоможения. Они видят, как трудно молодым мамам приспособиться к новым для них запросам материнства. Они видят особенности структуры, социальное давление и социальную изоляцию. Все это усиливает тот стресс, который часто сопровождает привыкание к новым для женщины условиям послеродового периода.
Безотносительно к последствиям негативного опыта родов патронажные сестры отмечают, что многие женщины испытывают трудности, так как до родов их не мотивировали решать психологические задачи беременности.
В эти задачи входит начало формирования связи с ребенком (то есть важно научиться слушать реального малыша, который живет в матке, говорить с ним, узнавать его привычки и особенности, а не представлять себе воображаемого «идеального» младенца), важно также видеть других малышей, быть с ними рядом, чтобы получить представление об уходе за ребенком, его развитии, грудном вскармливании; признать грядущие перемены самоидентичности, которые неизбежно принесет с собой материнство (например, переход от статуса независимой работающей женщины к современным реалиям «мамы дома»); признание и подготовка ко всем неизбежным и необходимым приспособительным изменениям в паре, которые приходят с родительством (включая договоренности, как будут распределяться родительские обязанности, родительская ответственность) и обустройство своей деревни, чтобы, когда родится малыш, вы могли получить и практическую, и эмоциональную поддержку.
Как мы видим, эти нерешенные психологические задачи беременности, которые многие патронажные сестры считают причиной проблем в послеродовом периоде, во многом совпадают с точками нашей ежедневной уязвимости, о которой мы уже говорили и которая влияет на роды. Безусловно, концепция необходимости подготовительной психологической работы во время беременности принята не только специалистами, работающими с женщиной в послеродовом периоде. Акушерки тоже всегда это понимали. О важности поддержки беременных женщин с помощью эмоциональной подготовки говорят и результаты современных исследований.