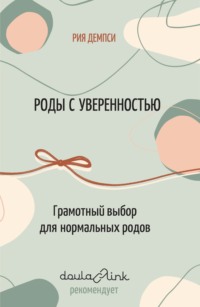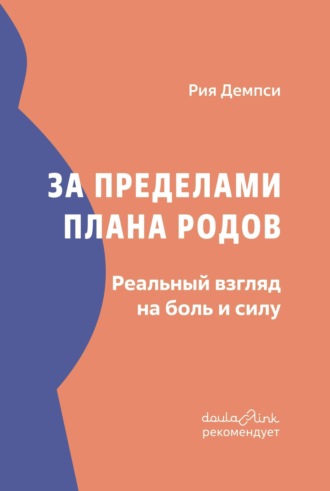
Полная версия
За пределами плана родов. Реальный взгляд на боль и силу
Безусловно, есть женщины, которые хотят «родить побыстрее и чтобы ничего не чувствовать»[27], и такие женщины выбирают обезболивание, а некоторые – индукцию родов, назначенную на определенную дату, или кесарево сечение. Таких женщин поддержат, и они, конечно, получат обезболивание или другое выбранное ими вмешательство.
Но идея, что бо льшая часть населения желает и требует этих вмешательств (а вы слышали мнение, что выражение «не царское это дело – тужиться» имеет скрытый подтекст «женщины не хотят рожать, а хотят вмешательств»?), не подтверждается исследованиями. Серия статей в журнале «Ланцет» утверждает, что запрос самих женщин в увеличении уровня кесарева сечения значительной роли не играет[28].
Международный обзор исследований предпочтения женщин в родах выявил, что большинство женщин хочет получить естественные физиологические роды[29]. А вот горячая новость: австралийское исследование подтверждает данные международного обзора: «Изучение предпочтений женщин в родах неоднократно демонстрирует высокую ценность естественных родов», гласят результаты исследования 2019 года[30].
Вы спросите, как сочетается желание естественных родов и распространенный взгляд поколения Келли, что родить без эпидуральной анестезии невозможно? Это же исследование отвечает: «Женщины много раз повторяли, что хотели родить естественно, но в госпитале им это не удалось»[31].
Данные на рожениц собирались все прошлое десятилетие, и они недвусмысленно говорят Келли и ее ровесницам: даже если ты хочешь избежать вмешательств, у тебя ничего не выйдет. И этот тренд – «невозможность избежать вмешательств в госпитале» – подтверждается американским исследованием (а в США система родовспоможения схожа с австралийской). Это исследование обнаружило, что все женщины, планировавшие роды без вмешательств в госпитале, получали тем не менее эпидуральную анестезию[32]. (Похожие результаты демонстрирует нам и исследование, проведенное в Дании[33].)
Это же подтверждают мои беседы с женщинами после госпитальных родов. Раз за разом на послеродовых сессиях я слышу от женщин, что они вовсе не хотели вмешательств. Многие мамы, приходящие ко мне на послеродовые сессии, имели неосложненные беременности низкого риска. Эти женщины в лучшем случае недоумевают, почему их роды окончились вмешательствами, которых они не хотели; в худшем случае они были травмированы. Они чувствуют, что вроде бы сделали все правильно: следовали предложенным им рекомендациям «экспертов», составили план родов и решили, что все учтено, – только чтобы обнаружить, что роды прошли совсем не так, как они надеялись. Почему?
Нормальные роды – не просто «везение»Чтобы нам всем лучше понимать предмет нашего обсуждения – почему женщины, которые не хотят вмешательств, тем не менее получают их, – я попрошу вас вспомнить какую-нибудь историю родов, которую вы недавно слышали.
Не приходят ли вам на ум истории «слава богу» («слава богу, мы были в роддоме», «слава богу, они спасли малыша», «слава богу, там был мой доктор», «слава богу за…»). А теперь я попрошу вас подумать про высокий уровень вмешательств в Австралии по сравнению с уровнем вмешательств, рекомендованным ВОЗ.
Если мы вспомним эту статистику, мы придем к неудобному для нас выводу, что эти истории родов, где мать «нуждалась» во вмешательствах (и, «слава богу», получила их), могут быть совсем не тем, чем кажутся.
Это первый и очень важный шаг, чтобы защитить себя от ненужных вмешательств: изучить истории родов, которые вы слышите. Спросите себя: как обычно влияют на нас истории «слава богу», которые мы слышим раз за разом? Часто мы не осознаем, что совсем не все эти вмешательства были так уж необходимы. (И что многие вмешательства стали нужны как раз после постановки эпидуральной анестезии.) Я скажу вам, что такие истории делают с женщинами (и с их партнерами), потому что я вижу результаты каждый день! Эти рассказы заставляют думать, что роды могут быть очень опасными, очень. И очень непредсказуемыми.
Таким образом, следствием высокого уровня вмешательств стали и нездоровый страх родов, и убеждение, что родившим без вмешательств просто «повезло». Оба фактора, как это ни парадоксально, поднимают уровень вмешательств еще выше. Потому что нездоровые страхи заставляют нас слепо верить в могущество госпиталя и необходимость медицинских вмешательств. Чем больше мы боимся, тем более слепо доверяем, и затем боимся еще сильнее… В ваших силах разорвать этот заколдованный круг: перестать принимать на веру такие истории.
Контекст для историй «везения»Когда женщина, родившая без вмешательств, говорит, что ей «повезло», я никогда не оставляю ее историю без вопросов. Не должны и вы. Обычно, когда я выясняю, где и с кем выбрала рожать эта женщина, узнаю немного больше о ее физической и психологической подготовке и ее восприятии родов в целом, я всегда вижу намного больше, чем просто «везение».
На самом деле, единственное «везение», которое и вправду присутствует в историях родов, это состояние здоровья женщины, то есть нет ли у нее каких-либо заболеваний, обострившихся в беременность, осложненной беременности (например, двойни), генетических нарушений. И я уже слышу, как вы говорите: «Ну да, таким женщинам из группы низкого риска и вправду везет». Но вот что говорит нам ВОЗ: неосложненные беременности составляют 80 % от всех беременностей[34]. Таким образом, хотя технически можно называть неосложненную беременность «везением» (потому что да, кому-то может и не повезти), я считаю, что этот акцент на везении приводит к недопониманию. Что мы рассматриваем как «везение»? Повезло, что мы оказались в 80 % женщин? Или «повезло», потому что могло быть хуже? Похоже, это называется не везением, а как-то еще.
Здесь мы снова подходим к контексту. Женщины, которые родили без вмешательств, часто сами говорят, что им «повезло», скромно умалчивая об информации, которую они собирали, о приложенных усилиях, о принятых решениях. Либо об их везении говорят окружающие. Но контекст их истории родов (место родов, команда на роды, подготовка к родам) говорит нам о другом.
Активистка и фотограф Анжела Галло пишет в своем блоге: «Позвольте мне кое-что сказать вам: везение не имеет ничего общего с позитивными родами. В контексте родов слово „везение“ умаляет силу женщины и ее близких»[35]. Милли Хилл дополняет: «Роды – это не счастливый жребий. Просто женские тела „хорошо работают“ благодаря выбору, который сделали эти женщины»[36].
Когда я начинаю спрашивать женщин, родивших без вмешательств, то внезапно выясняется, что выборы, которые они делали в беременность, противоречили практикам культуры родов, а часто также и позиции окружающих.
Доула Ингрид объясняет: «Люди говорят: „Ну, ты просто везучая“, не понимая, что это никакое не везение». В контексте таких историй «везения» мы почти всегда видим женщину, которая сопротивляется существующему положению дел в австралийской системе родовспоможения. Давайте повнимательнее посмотрим на эту систему и подумаем, почему и вы можете захотеть ей сопротивляться.
Status quoЖенщина, рожающая в типичном современном роддоме, с высокой долей вероятности будет рожать в пространстве, неблагоприятном для нормальных родов по многим параметрам: сама обстановка, модель ухода за роженицей, рутинные процедуры и вмешательства, которые обычно предлагаются.
Вот что выяснила Ребекка Деккер, профессор школы медсестер и исследовательница (а с рождения своего первого ребенка и основательница блога Evidence Based Birth): «Когда я стала искать доказательства, я была в шоке. Практически все процедуры, которые мне предлагались, исследования высокого качества признавали вредными для рожениц. Одновременно я выяснила, что предложенный мне протокол ведения родов стал „рутинным“ в США и принят также во многих странах»[37] (включая Австралию).
Давайте посмотрим, каковы же различия между наилучшими практиками и тем, что предлагает нам существующая система родовспоможения.
Место: палата наблюдения вместо священного пространства
Исследования говорят нам, какая среда поддерживает нормальное течение родов. К сожалению, австралийская система родовспоможения не предлагает ничего похожего.
Мы знаем, что помещение для родов с домашней обстановкой, священное пространство родов[38], где свет приглушен, где тепло, где есть личное пространство и никто не беспокоит, наилучшим образом поддерживает физиологическую составляющую родов[39]. В идеале дизайн такого помещения должен строиться вокруг потребностей рожающей женщины, которая проживает свои роды активно. Там будут переносные светильники, мягкая мебель, маты, подушки, фитболы, скамейки, пуфики, ванна, в идеале выход на улицу, на природу; иными словами, это место, где вы можете двигаться, танцевать, наклоняться, топать ногами, ходить взад-вперед, раскачиваться, работать со своим рожающим телом.
Священное пространство никак не похоже на стандартный родильный бокс в госпитале. Напротив, такой бокс сконструирован для ситуаций высокого риска. Эти комнаты называются «палатами наблюдения»[40], но больше они похожи на палаты интенсивной терапии – мониторы, капельницы и другие аппараты для обеспечения медицинской безопасности. Конечно, так и должно быть, если мы говорим о патологии. Но нам-то нужно то, что может облегчить процесс естественных родов, естественный физиологический процесс. Потому что в родах медицинское наблюдение дает неожиданные последствия: лишает женщину того, что действительно нужно для нормальных физиологических родов – чувства безопасности и личного пространства.
Уход: неизвестные специалисты вместо знакомых акушерок
Та же история с поддержкой медперсонала. Наша система родовспоможения не предлагает того, что исследования называют лучшими практиками. Австралийское исследование[41], а также «Ланцет»[42] и Кокрановская база данных[43] сообщают нам, что лучшая модель акушерского ухода, дающая более высокий уровень физиологических родов и лучшие исходы родов (а также снижение стоимости медицинского обслуживания), – это непрерывный акушерский уход[44].
То есть в идеальной модели ухода за роженицей женщина должна получать индивидуальную, непрерывную (без отлучек и смены персонала) поддержку акушерки, с которой она уже построила доверительные отношения во время беременности. Ханна Дален объясняет, что такая модель снижает количество вмешательств, смертность новорожденных и стоимость медицинских услуг[45]. «Женщины, использующие модель непрерывного акушерского ухода, реже сталкиваются с такими вмешательствами, как регионарная (эпидуральная) анестезия, кесарево сечение и оперативные роды (наложение щипцов, вакуум-экстракция), и в целом они более удовлетворены родами», пишут Ханна Дален и ее соавторы[46].
Тем не менее в Австралии шанс получить такой уход (а он считается золотым стандартом!) составляет меньше одного к десяти[47]. По умолчанию большинство женщин в родах столкнутся с незнакомцами. То, что вы получите в рамках существующей системы родовспоможения, называется фрагментарным уходом: незнакомые специалисты, которые приходят и уходят, потому что их смена окончена или потому что в соседнем боксе кто-то рожает. И это очень далеко от той модели, которая нужна в идеале.
Процедуры: рутинные вместо основанных на доказательной медицине
И наконец, в госпитале рожающая женщина наверняка станет объектом рутинных процедур и вмешательств, о которых исследования говорят, что они никак не улучшают исход родов ни для нее, ни для ребенка. Зато эти рутинные процедуры известны тем, что вызывают каскад вмешательств – именно то, чего мы не хотим.
Временные рамкиВременные рамки – это один из примеров рутины, не опирающейся на доказательную базу. Может быть, вы слышали термин «слабость родовой деятельности»? В действительности, эта «слабость» чаще всего диагностируется после попытки втиснуть роды во временные рамки. В каждом госпитале есть разрешенные временные промежутки для различных этапов родов. Эти протоколы базируются на партограмме (отражающей прогресс родов), которая в свою очередь базируется на графике под названием «кривая Фридмана». Кривая Фридмана предполагает, что скорость, с которой раскрывается шейка матки, – величина для каждой женщины постоянная. То есть это какой-то «безразмерный» универсальный график. Недавние исследования ВОЗ опровергли все базовые постулаты, на которых была основана кривая Фридмана. Напротив, исследования обнаружили, что прогресс самопроизвольно начавшихся родов может сильно отличаться от скорости «один сантиметр в час», а именно на этом допущении Фридман построил свою кривую[48].
Теперь представьте себе женщину, которая рожает в госпитале, где протоколы базируются на временных рамках, давно уже признанных недостоверными. И представьте, что ее роды длятся дольше, чем разрешает протокол. Тогда ей сразу припишут слабость родовой деятельности, и медики, вне всякого сомнения, порекомендуют ей вмешательства. Сколько женщин, сколько партнеров усомнятся в такой рекомендации? Сколько из них будут знать, что этот протокол базируется на уже опровергнутых данных?
Вопрос временных рамок освещается также в недавних рекомендациях Американского Колледжа акушеров и гинекологов по определению установившихся родов[49]. Установившиеся или активные роды – это состояние, когда ситуация «схватки то есть, то нет» меняется на «это оно». Американский Колледж акушеров и гинекологов считает, что женщина находится в установившихся или активных родах с раскрытия шесть сантиметров, а не четыре сантиметра, как считалось раньше. А теперь представьте, насколько по-разному будут протекать роды в госпитале, который принял новые рекомендации, и в госпитале, который придерживается старых норм («активные роды – с открытия четыре сантиметра»). Если наша роженица попала в более старорежимный роддом на открытии четыре сантиметра (с окончанием стадии «схватки то есть, то нет»), ее тем не менее «поставят на счетчик», ведь она уже в начале активных родов. Через какое-то время у нее отметят «слабость родовой деятельности» и порекомендуют вмешательства. Почему бы женщине не довериться медперсоналу и не согласиться на вмешательства? Ведь она не знает, какие практики считаются лучшими! Эту же самую женщину никто не «поставит на счетчик» до раскрытия шесть сантиметров, если она попала в госпиталь, работающий по новым протоколам. В этом случае вероятность вмешательств будет гораздо ниже. (Не будем здесь обсуждать, насколько вообще сочетаются жесткие временные протоколы и лучшие практики).
Слишком много, слишком быстроВ этом же 2019 году Американский Колледж акушеров и гинекологов рекомендовал ограничить рутинные вмешательства в роды, потому что это небезопасно для женщин и детей. Среди этих рутинных процедур – непрерывная кардиотокография (КТГ) (вместо этого рекомендуется периодически прослушивать сердцебиение плода с помощью аппарата мини-допплер), ограничение подвижности (например, требование медперсонала, чтобы женщина все время находилась в кровати) и применение эпидуральной анестезии. Все эти манипуляции известны тем, что с них начинается каскад вмешательств[50].
Стоит отметить, что исследователи из проекта OptiBIRTH (цель которого – повысить уровень вагинальных родов после кесарева сечения) также рекомендуют избегать подобных вмешательств[51]. Британские же исследования не рекомендуют рутинный скрининг беременных на стрептококк группы В[52].
В 2016-м журнал «Ланцет» опубликовал серию статей «Материнское здоровье», где ввел определение «слишком много, слишком быстро» для описания рутинного ведения нормальных родов после неосложненной беременности с использованием большого количества медикаментов[53]. Журнал поясняет, что этот подход включал необоснованные и не базирующиеся на доказательной медицине вмешательства наряду с вмешательствами, которые могут быть необходимы по жизненным показаниям, но наносят вред, если применяются рутинно или используются чрезмерно. Исследователи обнаружили, что медицинская помощь должна быть предложена в нужном объеме и в нужный момент с соблюдением базовых прав человека[54].
Также нужно отметить, что сейчас ведется работа в двух направлениях: снижение уровня кесаревых сечений[55] и повышение уровня естественных родов после кесарева сечения (ЕРПКС). Это важнейшая работа, так как кесарево сечение связано с повышенным риском разрыва матки, аномальным прикреплением плаценты, а также с внематочной беременностью, рождением мертвых детей и преждевременными родами, как следует из результатов исследования, опубликованного в «Ланцете». Журнал подчеркнул, что дети, рожденные кесаревым сечением, по-другому реагируют на приход в этот мир – и гормонально, и физически, и «микробиологически», и с точки зрения необходимости медицинской поддержки; все это, считают ученые, может несколько изменить физиологию новорожденного[56].
Вот что говорят исследования. Тем не менее существующие практики родовспоможения увеличивают вероятность кесарева сечения (напоминаю, уровень кесаревых сечений в Австралии сегодня составляет 35 % от общего числа родов). Врач-акушер Нил Шах говорит о кесаревых сечениях в США (где их уровень составляет 32 %[57]): «Если сегодня вам восемнадцать, ваши шансы родить через кесарево сечение составляют от пятидесяти до ста процентов. И это никак не связано с вашим возрастом или состоянием здоровья, зато еще как связано с системой, с тем, в каком направлении она меняется и как вообще она устроена»[58].
Поскольку эпидуральная анестезия повышает вероятность кесарева сечения, логично будет сейчас рассмотреть рутинное назначение эпидуральной анестезии. Помните результаты исследований, которые показывают: женщинам, рожающим в госпитале, практически невозможно избежать эпидуральной анестезии? Как соотносится использование эпидуральной анестезии с исследованиями, определяющие наилучшие практики?
Эпидуральный каскад
Выше уже упоминались побочные эффекты эпидуральной анестезии, о которых я рассказала Келли. Когда мы беседовали с Келли, я не предоставляла ей результаты исследований, но их достаточно – и достаточно побочных эффектов, о которых я еще не говорила.
Пенни Симкин и Рут Анчета в «Настольной книге прогресса в родах» публикуют длиннейший список медицинских эффектов, которые дает применение эпидуральной анестезии: «Роды с эпидуральной анестезией часто сопровождаются медленным прогрессом, материнской гипотонией, повышением температуры у матери, необходимостью использования синтетического окситоцина, оперативными родами, эпизиотомией, кесаревым сечением, профилактическими антибиотиками для новорожденного и другими нежелательными побочными эффектами»[59]. (И если «антибиотик для малыша» звучит по-вашему довольно безобидно, заметьте, что это означает перевод ребенка в отделение реанимации новорожденных.)
Пенни Симкин и Рут Анчета добавляют также, что «обычное ведение нормально протекающих родов при наличии эпидуральной анестезии (необходимость оставаться в кровати, ограничение подвижности, большое количество внутривенных вливаний, положение на спине, затяжные управляемые потуги) может усилить нежелательные эффекты эпидуральной анестезии»[60]. Использование эпидуральной анестезии повышает вероятность как управляемых потуг (в противовес спонтанным), так и оперативных родов, и в обоих случаях повышается вероятность разрывов третьей и четвертой степени[61].
«Бесспорно, эпидуральная анестезия влияет на физиологию родов и повышает вероятность вмешательств», – пишут профессора акушерства Ники Лип и Денис Велш[62]. Другими словами, как я объясняла Келли, эпидуральная анестезия часто является первым шагом к истории «слава богу».
В США организация «Роды в Цифрах»[63] так скомпоновала статистические данные, что ясно видны все результаты исследований: первородящие женщины, самопроизвольно вступившие в роды и рожавшие без эпидуральной анестезии, имеют уровень кесаревых сечений 5 %. Если их роды были индуцированы или им поставили эпидуральную анестезию (одно из двух), уровень кесаревых сечений для них составляет 19–20 %. Если роды были индуцированы и в родах назначалась эпидуральная анестезия, уровень кесаревых сечений составляет 31 %.
Австралийское исследование 2007 года показало, что использование эпидуральной анестезии увеличивает вероятность кесарева сечения втрое, а исследование 2015 года обнаружило, что при наличии эпидуральной анестезии вероятность оперативных родов (то есть родов с наложением щипцов или вакуум-экстракцией) возрастает в семь раз, а также повышается вероятность попадание ребенка в детское отделение[64].
Послеродовые эффекты эпидуральной анестезии
Часть гормональных изменений в родах, о которых я говорила раньше, влияет и на течение послеродового периода. Помните чудесный эффект, который дает наш «родной» окситоцин во время нормальных родов? Челси Конабой, журналистка, занимающаяся вопросам здоровья[65], описывает это так: «Выброс окситоцина в родах запускает изменения, которые заставляют женщину буквально слиться со своим ребенком через биологическую координацию (синхронизированные волны мозговой активности и синхронизированное сердцебиение) и поведение (одинаковые взгляды, прикосновения, звуки)». По мнению врача, исследовательницы и автора Сары Бакли, эпидуральная анестезия «снижает уровень материнского окситоцина на схватках» и вызывает «нарушение материнской адаптации и формирования материнской привязанности», которое опосредованно может влиять и на новорожденного[66]. Также при использовании эпидуральной анестезии у детей менее выражен поисковый рефлекс, и, соответственно, уровень грудного вскармливания тоже снижается[67].
С эпидуральной анестезией женщины остаются в ясном сознании, они могут разговаривать, смотреть фильмы, обновлять свой статус в соцсетях – но какой ценой! Это значит – выйти из гормонального «тумана» нормальных родов, а ведь он формирует привязанность мамы к ребенку. Доктор Оскар Сераллах считает, что этот «туман», часто называемый еще «детским мозгом», «под влиянием плацентарных гормонов перепрограммирует мозг матери так, чтобы у нее возникла прочная связь с ребенком»[68]. Также это явление называется «первичной материнской вовлеченностью», впервые о нем стал говорить психолог Дональд Винникотт. Он описал это явление как особое психическое состояние матери, в котором у матери необычайно возрастает чувствительность к ребенку и к его потребностям[69]. «Такое состояние возникает в конце беременности и длится в течение нескольких первых недель после родов», – пишут педиатры Маршалл Клаус и Джон Кеннел и их соавтор Филлис Клаус в «Книге доулы»[70]. Да, так и было бы, если бы современными практиками родовспоможения мы постоянно не мешали этому процессу.
Таким образом, мы не только создаем все предпосылки для дисфункциональных родов, которые заканчиваются эпидуральным каскадом, но за рутинное использование эпидуральной анестезии мы платим лишением раннего контакта матери и ребенка. Эпидуральная анестезия, нарушая связь женщины с ее телом, также нарушает ее инстинктивную телесную связь с малышом. Учитывая, что раннее общение матери и ребенка практически целиком происходит на тактильном уровне, неудивительно, что столько молодых мам испытывают недоверие к любому проявлению материнских инстинктов.
И действительно, вот другой аспект этой гормональной истории: также «с использованием эпидуральной анестезии мы видим увеличение депрессивных симптомов»[71]. Эпидуральный каскад означает, что в большинстве родов с эпидуральной анестезией задействован также и синтетический окситоцин; исследования связывают с этим фактом «увеличение риска депрессивных или тревожных расстройств в первый год после рождения ребенка», считает Рэйчел Рид[72]. Согласно американскому исследованию влияния синтетического окситоцина, женщины, у которых до беременности отмечались эпизоды депрессии и тревожности, имели 36-процентный риск развития послеродовой депрессии, матери без такого анамнеза имели риск 32 %[73].
Женщинам почти ничего об этом не рассказывают. Им не рассказывают и о том, как это может повлиять на ребенка. Организация Beyond Blue информирует, что послеродовая депрессия и тревожные расстройства матери, как выяснилось, «связаны с нарушениями когнитивного, эмоционального, социального и бихевиорального развития детей»[74]. И хотя сегодня мы не знаем, как повлияет в будущем на ребенка сниженный уровень природного окситоцина в родах, но уже известно, пишет Рэйчел Рид, что «влияние материнского окситоцина на мозг ребенка в родах предположительно ведет к эпигенетическим изменениям в его организме; эти изменения отвечают за его собственную будущую окситоциновую систему»[75]. Исследователи, занимающиеся эпигенетическими эффектами, серьезно озабочены клиническими, экономическими и психосоциальными последствиями этих изменений[76].
Отсюда ясно, почему ведется такая большая работа по восстановлению гормональных механизмов привязанности, которые разрушаются с применением вмешательств. Эта работа «затыкает дыры», как выражается Сара Бакли, и может стимулировать формирование связи матери и ребенка, той связи, которая была нарушена из-за вмешательств. Например, женщина может запланировать контакт кожа-к-коже и первое прикладывание к груди во время «золотого часа», как и рекомендует ВОЗ в документе «Инициатива „Первого Объятия“». «Это простое проявление любви дает ребенку жизненное тепло, плацентарную кровь и материнские бактерии. Это также… улучшает состояние всех новорожденных, включая недоношенных, детей с различными заболеваниями или родившихся путем кесарева сечения»[77].