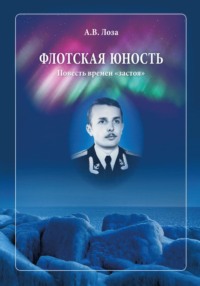полная версия
полная версияМоре и небо лейтенанта русского флота
В качестве смазывающего масла использовалось природное растительное касторовое масло. Правда, Сергей знал это по собственному опыту, не полностью сгоревшее топливо и масло, скопившееся под капотом, затем удалялось набегающим потоком воздуха и размазывалось по фюзеляжу, попадая и на летчика. Ко всему прочему, моторесурс мотора «Гном» был невысок, до десяти часов между ремонтами, и менять моторы на аэропланах приходилось довольно часто.
Но как бы то ни было, мотор «Гном», несмотря на имеющиеся недостатки, хорошо подходил для решения триединой авиационной задачи «мощность – вес – надежность».
Практические полеты на аэропланах осуществлялись с учебного аэродрома авиашколы. Сначала вывозка: 20–30-минутные полеты ученика в качестве пассажира, под руководством опытного инструктора. Взлет – посадка, взлет – посадка… Ученик знакомился с тем, как пользоваться органами управления в полете, сидя сзади инструктора, затем они менялись местами. После этого самостоятельная рулежка аэроплана на летном поле со взлетом на высоту до нескольких метров. Убедившись, что ученик овладел необходимыми навыками, инструктор выпускал его в первый самостоятельный полет.
…И вот первый самостоятельный полет, который навсегда остается в памяти летчика. В тот день с утра было ветрено, аэропланы садились на аэродром «со сносом», но после обеда ветер стих, выглянуло солнце. Накануне днем мичман Ярыгин сделал одну за другой несколько посадок с инструктором. Сегодня его первый самостоятельный полет. Инструктор подошел к Ярыгину и спросил:
– Как себя чувствуете, мичман?
Мичман Ярыгин, одетый в теплую кожаную куртку, наверху холодно, подшлемник, кожаный летный шлем и краги, подтянулся.
– Прекрасно.
– Моторист, как мотор?
– Готов.
Мичман Ярыгин готовился к взлету. В первый раз он остался в аппарате один, без инструктора, вместо которого, чтобы не нарушить центровку самолета, на заднее сиденье положили 60-килограммовый мешок с песком. Мечта Сергея сбылась! Сейчас он сам поведет свою машину. Сам! В голове крутилась какая-то мешанина из обрывков теории полета, инструкций и наставлений …
Инструктор продолжил:
– Летите спокойно, не уходите далеко от аэродрома. Садитесь на аэродроме где угодно, лишь бы вы сели без поломки машины.
Моторист «отчихал» мотор и крикнул:
– Контакт!
– Есть контакт!
Махнув перчаткой, чтобы из-под колес вытащили «подушки», Ярыгин дал полный газ. Мотор заревел, и самолет побежал по грунту… Сергей рванул ручку, «Фарман» сделал горку и почти без разбега взвился в воздух. Земля бешено плыла под крыльями… Вдруг машина стала крениться на нос. Ярыгин рванул ручку на себя и сразу взмыл в небо. Сергей чертыхнулся и поспешно дал угол. Много: аэроплан опять начал валиться на нос. Вся панорама скакала у него перед глазами. Такого никогда не было в полетах с инструктором. Машина стала валиться на левое крыло…
«Ручку вправо!» – пронеслась мысль. Аппарат начал выходить, но слишком резко, и стал падать на правое крыло!
«Ручку влево!» – металась его мысль вместе с аэропланом. Через минуту вышел на горизонталь. И тут Сергей, вспомнив наставление инструктора, что чем выше от земли, тем безопаснее, стал набирать высоту. Успокоился, на душе полегчало. Земля уходила вниз стремительно, и он, начав осторожно разворачиваться, осмотрелся. Вдали еле виднелся аэродром. Ярыгин решил развернуться в левую сторону. «Правая педаль, небольшой гош. Правильно». Посмотрев на альтиметр, который был прикреплен к левой руке, убедился: «Пятьсот метров, нормально».
Сергей вел аэроплан по прямой. Затем, с большими провалами и сносом, он сделал разворот и, подойдя к аэродрому, выключил мотор. Наступила тишина, лишь подвывали тросы растяжек… «Самый опасный момент при полете, – знал Сергей, – это планирующий спуск. На этом отрезке полета многие авиаторы ломали себе шеи».
Мышцы напряглись до предела, Сергей пошел на посадку. Земля быстро катилась ему навстречу – чем ниже, тем скорее. Он выбрал угол, выровнял на метр, и, теряя скорость, аэроплан, коснувшись колесами земли, пробежал по летному полю и остановился.
«Ура! Сел! Я сам летал!» – пронеслось в голове Сергея.
Потом инструктор еще несколько раз поднимал «Фарман» Ярыгина в воздух и только после пятого раза поздравил мичмана с самостоятельным вылетом. Не описать радости, когда инструктор передал Сергею пописанный рапорт и пожал ему руку:
– Молодец!
Наблюдающие с земли за полетом аэроплана люди думают, что авиатор во время полета всецело поглощен управлением аппаратом и лишен возможности оглянуться кругом и полюбоваться окружающей картиной. На самом деле это не так. В полете достаточно времени, чтобы не только полюбоваться окружающими красотами, но и о земных делах подумать. Стоит пилоту подняться выше тысячи метров, и все его существо охватывает какое-то удивительно безмятежное спокойствие. В это время пилот забывает о своей связи с землей, о громадной высоте, на которую поднялся… Именно это не поддающееся описанию блаженное настроение главным образом и влечет в небо, тянет неудержимо к аэроплану. У Сергея Ярыгина так и было.
В те годы азбуку пилотирования пилоты проходили на собственном опыте. Ведь ни теории полета, ни учебных пособий по пилотажу еще не было создано. Нужно сказать, что на самом деле наши авиаторы не летали только «блинчиком», с широким заходом, не накреняя самолет при поворотах, не говоря уже о крутых виражах. К сожалению, изобретатели первых эволюций аэропланов в воздухе, первых пилотажных фигур остались безымянными. Но и крутую спираль, и виражи с креном 45 градусов, и планирующий спуск, и пике, и другие эволюции, какие в последствие вошли в комплекс фигур высшего пилотажа, наши летчики делали. Пилоты знали, что при обычной скорости движения аэроплана в шестьдесят километров в час рискованно производить быстрые повороты или делать крутые виражи, так как при этом скорость может снизиться до сорока километров в час и управление элеронами становится невозможным. Ибо чем больше скорость, тем рулевое управление действует лучше. Чтобы успешно выполнить крутой вираж, нужно набрать высоту и перед началом поворота резко снизиться. Получив за счет снижения добавочную скорость, можно успешно выполнить вираж даже под углом в сорок пять градусов.
Едва освоив «Фарман-IV», в одном их полетов Сергей Ярыгин, сделав лихаческий полет с «горками», крутыми виражами и выключив мотор, пошел на посадку. Тогда для него это был уже высший пилотаж. Нужно сказать, что еще в 1913 году начальником авиашколы был отдан приказ, воспрещающий ученикам-летчикам самостоятельное планирование с выключенным мотором ввиду предупреждения аварий. Дерзнувшим на подобное «хулиганство» грозило отчисление. Но все обошлось, мичман Ярыгин получил только нагоняй от своего инструктора.
Полет длился несколько десятков минут, а возня с моторами аэропланов – занимали у пилотов и механиков дни и недели. После полета мотор снимали с аэроплана и отвозили в мастерскую, где над ним совместно колдовали и пилоты, и механики. Надо было не просто любить небо, надо было любить механику – которая воплощается в жизнь ровным стрекотом авиамотора, заданной скоростью и направлением полета.
Быстро летело время учебы… Когда Сергей после первых самостоятельных вылетов при встречах с Ольгой делился своими ощущениями от полетов, она с глубоким замиранием сердца слушала и, несмотря на волнение, поддерживала его, гордилась и восхищалась им.
…Стоял погожий полетный день. Мичман С. Ярыгин у ангара ожидал своего инструктора. Инструктор подошел и бодрым голосом произнес:
– Ну что, мичман, летим и становимся летчиком!?
– Так точно, летим! – радостно ответил мичман.
Мичману Ярыгину предстоял экзаменационный полет. Комиссия из нескольких человек заняла места за столом. Мичман Ярыгин замер перед членами комиссии по стойке смирно. Председатель комиссии встал и сухо объявил задание на полет. Члены комиссии спросили у мичмана, все ли ясно и проверен ли аппарат. Мичман Ярыгин ответил утвердительно.
– Приступить к выполнению полета, – приказал председатель.
Аэроплан «Фарман-IV» стоял на старте, мичман Ярыгин сидел на месте. Инструктор навесил на его шею «запломбированный барограф» – прибор, автоматически записывающий «диаграмму полета», показывающий изменение высоты и время, проведенное на той или другой высоте.
«Ну все, – выдохнув, подумал мичман, – назад дороги нет». Не зря говорили, «что летчик, сдавший экзаменационную барограмму, как чернец, надевший схиму, заживо хоронил себя». Как показывала военная статистика, летчик, вылетевший на фронт, жил в среднем только тридцать часов! У него почти не было шансов остаться в живых. Но Сергей Ярыгин рвался в небо и был готов ко всему.
– Смотрите, мичман, следите внимательно за временем, чаще поглядывайте на часы. Вы имеете горючего на два с половиной часа полета. Вам за глаза хватит. Следите и за счетчиком оборотов и за пульсацией в масляном стаканчике. Если все эти контрольные приборы будут работать нормально, значит успех вашего полета обеспечен, а нет – возвращайтесь на аэродром.
Мичман Ярыгин взлетел и, делая круги над аэродромом, стал набирать высоту, следя одновременно за работой мотора. Уже на высоте нескольких сот метров ему пришлось убавить подачу бензина, ведь карбюрация была примитивная. Когда аэроплан достиг высоты 1000 метров, под аппаратом забелели купола облаков. На высоте 2000 метров мичман прекратил дальнейший подъем. Теперь надлежало, не изменяя взятую высоту, зорко следить через редкие просветы между облаками за положением аэроплана относительно поверхности земли. Просветов становилось все меньше – мичман уходил в сторону моря. Бесконечное однообразное кружение хотя и немалого радиуса становилось нудным… Начало удручать полное одиночество… Наконец, стрелка часов показала мичману, что экзамен окончен. Он вошел в густую белую пелену облаков и стал спускаться. Пребывание в этом тумане показалось мичману очень длинным. Появилась тревожная мысль: «Где аэродром?» И вдруг он увидел земную поверхность. Сразу отлегло от сердца. Наземные ориентиры помогли ему взять направление на посадку. Выключив мотор, стал спускаться. Когда «Ньюпор» уже приземлился, рулил по аэродрому и к нему побежали офицеры, мичман радостно подумал: «Ну, слава Богу, сел!» – и готов был всех расцеловать.
Экзаменационный полет прошел успешно, все задания были выполнены. «Да, я теперь летчик, – радовался Ярыгин, – но задача – стать морским летчиком!»
На заре авиации известный писатель Александр Куприн писал о летчиках: «…В самом деле, в них много чего-то от свободных и сильных птиц – в этих смелых, живых и гордых людях. Мне кажется, что у них и сердце горячей, и кровь красней, и легкие шире, чем у их земных братьев… Приятно созерцать эту молодость, не знающую ни оглядки на прошлое, ни страха за будущее, ни разочарований, ни спасительного благоразумия… Постоянный риск, ежедневная возможность разбиться, искалечиться, умереть, любимый и опасный труд в воздухе, вечная напряженность внимания, недоступные большинству людей ощущения страшной высоты, глубины упоительной легкости дыхания, собственная невесомость и чудовищная быстрота – все это как бы выжигает, вытравляет из души настоящего летчика обычные низменные чувства – зависть, скупость, мелочность, сварливость, хвастовство, ложь. И в ней остается чистое золото».
Как это точно сказано!
Успешному выполнению учебной программы содействовала деловая, товарищеская атмосфера, царившая в Севастопольской авиационной школе, что было, как считал мичман Ярыгин, результатом работы командования, которое способствовало налаживанию взаимодействия между различными категориями военнослужащих и способствовало установлению тесных контактов между ними. Это касалось и организации досуга личного состава во внеучебное время. До войны летом, в свободное от работ и учебы время, пилоты и техники любили поплавать в волнах Черного моря, тут же рядом с аэродромом, на школьном пляже… С целью профилактики заболеваний было введено обязательное купание нижних чинов. Выпивки и азартных игр в быту летчиков в стенах авиашколы не было. Так, приказом по школе от 1914 года за игру на деньги ученики-летчики сразу исключались из школы. Вне школы летчикам не запрещалось употреблять спиртное, но при условии, что это будет не менее чем за 12 часов до полета.
Мичман Ярыгин понимал, что специальность летчика вообще пока очень опасна и нет гарантии, что он завтра не убьется, так же как убивались при тренировочных полетах и боевых вылетах другие летчики. Но молодость брала свое… Стоя у ангаров, авиаторы блаженно жмурили глаза, радуюсь яркому солнцу и теплу, но в Крыму курортников нет – война. Идет война, поэтому хотя подготовка пилотов и производилась по ускоренной программе, но готовили их весьма основательно. Ученик-летчик П. Крисанов в письме родным летом 1915 года писал: «Сроки обучения в школе сократились в несколько раз по сравнению с учебой первого выпуска, продолжавшегося почти год. На весь курс обучения (2–3 месяца) уходило всего лишь несколько часов руления, взлетов и посадок, после чего начинающему авиатору предстояло выдержать экзамен на звание пилота-авиатора (описать в воздухе 10 восьмерок и спланировать на землю), а затем сдать экзамен на военного летчика (два часа полета без спуска ниже 2000 метров)». Общий налет ученика-летчика к моменту выпуска из школы редко превышал 10 часов.
По окончании учебы в авиашколе мичман С.Я. Ярыгин вернулся на авиационную станцию «Круглая бухта», где продолжал числиться учеником – летчиком и, несмотря на то что он отучился в авиашколе, принимал участие летчиком-наблюдателем в боевых вылетах наших гидроаэропланов на Босфор. Дело в том, что теперь ему предстояло освоить летающую лодку «М-5», а пока он летал на этом гидроаэроплане наблюдателем.
15 марта 1915 года гидроавиатранспорт «Император Николай I» с группой кораблей прибыл к Босфору. Гидроаэропланы 2-го корабельного отряда лейтенанта Утгофа после команды «Спустить гидро!» были спущены на воду. Погода благоприятствовала. Мичман Ярыгин находился на месте летчика-наблюдателя в двухместном гидроаэроплане, который поднял в воздух лейтенант Коведяев. Пилоты находились в кабине рядом, плечом к плечу. Позади нависающих друг над другом крыльев рокотал мотор, набирая обороты. Лодка начала глиссаж по волнам и вскоре оторвалась от водной поверхности. Поднявшись на заданную высоту, гидроаэроплан взял курс на форт Рива, расположенный вблизи Босфора на азиатском берегу Турции.
Что произошло дальше, мне стало известно из «Наградного листа на ученика-летчика авиации Черноморского флота мичмана Ярыгина», сохранившегося в архиве флота, в котором начальник 2-го корабельного отряда лейтенант Утгоф, так описывает произошедшее: «15 марта, летая с лейтенантом Коведяевым над Босфором, удачно сбросил бомбу, попавшую в казарму форта Ривы». И далее лейтенант Утгоф предлагает представить мичмана Ярыгина к награде: «Достоин награждения орденом Святой Анны 3-й степени».
Похоже, во время бомбежки казарм форта турки понесли большие потери, потому что вышестоящий начальник – заведующий организацией авиационного дела Черноморского флота старший лейтенант И.И. Стаховский так выразил свое мнение о мичмане Ярыгине: «Достоин к награждению орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом».
(РГА ВМФ Ф. 873. Оп. 28. Д. 73. Л. 47–48)
Прошло немного времени, и в начале мая 1915 года ученика-летчика мичмана С.Я. Ярыгин приказом по Морскому ведомству № 287 наградили орденом Святого Станислава 3-й степени. Лейтенанта Е.Е. Коведяева, с которым С. Ярыгин летал наблюдателем, опытного летчика, окончившего Офицерскую школу авиации в 1912 году, этим же приказом наградили Георгиевским оружием: «За мужество и распорядительность, проявленные им во время разведки и бомбардировки форта Рива, что у Босфора, 15-го марта и 17-го марта 1915 г. – в порте Зунгулдак».
Полет проходил под непрерывным вражеским оружейным огнем и огнем противоаэропланных пушек. От разрывов снарядов летающую лодку «М-5» раскачивало в воздухе, как на морских волнах, но лейтенант Коведяев и мичман Ярыгин смело и хладнокровно выполнили поставленную задачу и благополучно возвратились на гидротранспорт.
Мичман С.Я. Ярыгин продолжал обучение на гидроавиационной станции 1-го разряда «Круглая бухта», оттачивая свое летное мастерство на гидроаэроплане «М-5». Черноморцы настойчиво отрабатывали новые приемы воздушного боя, считая, что морской летчик должен уметь делать фигуры сложного пилотажа, ибо умение летчика применить неожиданный маневр в ходе боя давало возможность перехватить инициативу у противника, что в конечном итоге увеличивало шансы на победу. В их обязательную программу входили упражнения по выполнению виражей и скольжения, петли и переворотов, отрабатывались различные элементы воздушного боя. Производились тренировочные полеты гидроаэропланов группой по заданному маршруту и «…бросание бомб группами по заданной цели». Аэропланы с минимальными интервалами поднимались в воздух. Строй представлял собой по образцу морских построений «кильватерную колонну» либо «двойную» или «тройную» колонну, то есть пары или тройки аэропланов, летящих друг за другом.
Такая интенсивная боевая и учебная деятельность черноморской авиации приводила к износу авиамоторов, матчасти аппаратов, поэтому флот постоянно требовал дополнительных аэропланов, моторов и летного состава. Начальник авиации Черноморского флота старший лейтенант Стаховский докладывал Начальнику Воздухоплавательного отделения Морского Генерального штаба в октябре 1915 года:
Секретно
Начальник авиации Начальнику Воздухоплавательного
Черноморского флота отделения Морского Генерального штаба
г. Севастополь
Препровождая при сем ведомости о состоянии аппаратов и моторов авиации Черноморского флота, уведомляю Ваше Высокоблагородие, что боевыми аппаратами можно считать лишь «Щетинины» типа «М 5», коих имеется 17, но за недостатком моторов из них могут действовать лишь 14, причем один с ненадежным мотором. Аппараты «Кертисса»… годятся лишь для учебных полетов и для неответственных задач. Таковых имеется 9, из коих 2 нуждаются в капитальном ремонте.
Летчиков имеется: 1 – Офицеров 17
2 – Охотников 2
3 – Кондуктор 1
Учеников-летчиков: – Офицеров 4
– Охотников 2
– Кондукторов 2
Личный состав летчиков:
1) Летчики лейтенанты Вирен, Утгоф, Лучанинов, Коведяев, Качинский, Эссен, Юнкер, Корнилович, Рагозин, Ламанов, Марченко, мичманы Крыгин, Косоротов (выдержавший практический экзамен), подпоручик Корсаков (выдержавший практический экзамен), прапорщик Кованько (выдержавший практический экзамен). Лейтенант Михайлов и подпоручик Жуков, неся обязанности первый инженера по авиации, второй заведывающего мастерскими являются запасными летчиками.
2) Ученики:
Офицеры: мичман Ярыгин, прапорщики Мельниченко, Ткач, Бушмарин.
Охотники: Бегак, Плавинский.
Кондукторы: Гриванов, Панкеев.
Старший лейтенант Стаховский.
Продолжая службу учеником-летчиком, мичман Ярыгин получал жалованья – 1064 рубля и столовых денег – 350 рублей. Кроме того, летчикам платили еще 200 рублей «залетных», если налет в месяц составлял не менее 6 часов. Жить было можно.
Требуется отметить, что еще в марте 1915 года в Главный морской штаб была представлена программа испытаний на звание «морской летчик», что обосновывалось «различиями в управлении гидроаэропланами, естественно на этапах взлета и посадки на воду, благодаря чему даже офицеры, имеющие звание военного летчика, должны им подвергаться». Для получения звания «морской летчик» требовалось детально знать двигатель аэроплана, на котором летчик обучался; знать все приборы и инструменты, применяемые в процессе эксплуатации аэроплана. Летная часть программы включала: непрерывный полет продолжительностью 1,5–2 часа, связанный с решением тактических задач: полет на высоте 500 метров не менее 30 минут; планирование с высоты 100 метров, завершающееся посадкой на воду. К экзамену допускались летчики с общим налетом не менее 6 часов. О желании сдать экзамен на звание «морского летчика» офицер должен был донести рапортом начальнику авиационной станции, к коей причислен, после чего председателем комиссии назначался день для испытаний.
Звание «морского летчика» по представлению присваивал Морской министр. Приказом по морскому ведомству № 273 от 7 февраля 1915 года был введен нагрудный знак «морского летчика».
Невзирая на погоду, мичман Ярыгин много тренировался, и ему довольно быстро удалось, как говорят пилоты, «сбить» свои руки и ноги на новые рули летающей лодки «М-5». То, что мичман Ярыгин отлично служил и упорно тренировался в полетах, подтверждается его аттестацией, данной в начале сентября 1915 года начальником Гидроавиационной станции 1-го разряда «Круглая бухта» лейтенантом Лучаниновым, сохранившейся в военно-морском архиве:
АТТЕСТАЦИЯ
Чин Мичман
Имя, отчество, фамилия Сергей Яковлевич ЯРЫГИН
Название части Гидроавиационная станция 1-го разряда
«Круглая бухта»
За какое время службы с 20 мая 1915 года
дается аттестация
Аттестующий начальник Начальник гидроавиационной
станции
1-го разряда «Круглая бухта»
Лейтенант ЛУЧАНИНОВ
Год, месяц, число Сентябрь 5 дня 1915 года
Способности к службе: Способен к строевой службе.
Очень любит авиационное дело, к которому
вполне способен. (выделено мной. – А.Л.)
Нравственность, характер Нравственный, достаточно твердого
и здоровье характера и хорошего здоровья.
Очень самолюбив и скрытен.
Воспитанность и дисциплинарность: Воспитан
и дисциплинирован.
Общая характеристика: Вполне пригоден к дальнейшей службе.
Подпись аттестующего начальника Лейтенант Лучанинов
(РГА ВМФ Ф. 873. Оп. 28. Д. 73. Л. 7, 8)
Начальник авиации Черноморского флота старший лейтенант Стаховский докладывал заведующему организацией авиационного дела его Императорскому Высочеству великому князю Александру Михайловичу о действиях морской авиации в период с 25-го сентября по 3-е ноября 1915 года:
1. Первый корабельный отряд.
25-го сентября производилась разведка 5-ю аппаратами от Херсонесского маяка для отыскания неприятельской подводной лодки. Лейтенант Ламанов на аппарате № 39 с высоты 300 метров сбросил боевую бомбу по подозрительному пятну. Общая продолжительность разведки 4 часа 21 минута.
25-го сентября проводилась разведка по Южному каналу 4-мя аппаратами для отыскания неприятельской подводной лодки, общая продолжительность 2 часа 27 минут.
27 и 29-го сентября разведка одним аппаратом по Южному каналу, общая продолжительность 1 час 17 минут. 30-го сентября и 1-го октября полетов не производилось.
2. Второй корабельный отряд.
25-го сентября была произведена на аппаратах «Щетинина» разведка маршрутом – Севастополь – Фиолент – Айя – Севастополь в море на 30 миль. Задача: Освоить район – нет ли неприятельских подводных лодок. Обнаружено ничего не было.
26-го сентября началась очередная разведка. Маршрут, как и 25-го сентября. Разведка не состоялась из-за плохой погоды.
27-го сентября разведка была проведена одним аппаратом, маршрут как 25-го сентября. Произведено было два бомбометания – разность несколько сажень.
3. Круглая бухта.
Аппарат № 43 – 25 сентября летал на разведку неприятельских подводных лодок у мыса Айя и Фиолент.
За истекшую неделю производилась практика ученикам-летчикам: …Ученик-летчик мичман Ярыгин готов к экзаменационному полету.
(РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 843. Л. 338, 338 об.)
…Лето осталось позади, позади учеба, позади нервотрепка квалификационных испытаний – и теоретических, и летных. Золотой осенью 21 октября 1915 года мичман С.Я. Ярыгин был представлен к званию «морской летчик». Правда, утвержден он был в звании «морского летчика» только через месяц – 21 ноября 1915 года, когда «провернулся механизм» Морского министерства. Он – морской летчик 2-го корабельного отряда авиации Черноморского флота. На его флотской тужурке знак «морского летчика», представляющий собой якорь с крыльями на фоне двух перекрещенных мечей, обнесенный по кругу якорь-цепью, а на погонах – медные крылатые пропеллеры, эмблема самого романтического рода войск России! Его мечта осуществилась!
Когда Сергей впервые появился перед Ольгой в погонах авиатора, она крепко обхватила его за шею руками и заплакала. Сергей стоял не шелохнувшись. Ольга успокоилась, отняла руки, отступила на шаг, сняла с себя крестик на шнурке и повесила его на шею Сергея со словами: «Он будет сохранять тебя и в воздухе, и на земле!» Сергей поцеловал крестик и поцеловал Ольгу…
Его постоянное желание летать было сродни чувству голода, сосущего, подталкивающего, требующего…
Подтверждение этого, может быть, главного события в жизни мичмана Сергея Яковлевича Ярыгина, я нашел в документах военно-морского архива: