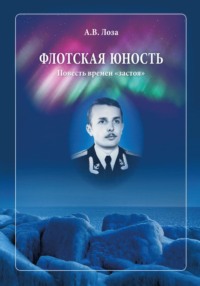полная версия
полная версияМоре и небо лейтенанта русского флота
После того как в Севастопольскую школу из Франции стали поступать быстроходные аэропланы фирмы «Ньюпор», премированные на конкурсе военных аэропланов и имеющие скорость сто километров в час, с большой дальностью разбега при взлете и большим пробегом при посадке, всем стало понятно, что «пятачок» аэродрома на Куликовом поле не приспособлен для таких машин. Поэтому были проведены расчеты потребного количества земли под новый аэродром, которое определили по техническим соображениям в 650 десятин, стоимостью по существующим местным ценам около 150 тысяч рублей, а кредит для возведения построек, был исчислен в сумме 900 тысяч рублей. То есть общая потребная сумма составила порядка 1,1–1,5 миллиона рублей.
Перед тем как Государственная Дума обсудила законопроект о выделении кредитов в 1,5 миллиона рублей Отделу Воздушного флота на строительство авиашколы на реке Каче, в Севастополь приехал член Думской комиссии государственной обороны, крупный промышленник А.И. Гучков, который проект аэродрома на реке Каче одобрил. Гучков познакомился с жизнью, бытом и проблемами авиашколы, после чего совершил полет в качестве пассажира на «Фармане».
Авиаторов волновал вопрос: «Когда же, наконец, состоится переезд на новый аэродром возле речки Качи?» Но все понимали, что в «верхах» процесс может затянуться, поэтому руководство Севастопольской авиашколы приняло решение переехать на Качу, не дожидаясь начала строительства школы на новом месте. Впереди лето, и можно разбить лагерь, поставить палатки для инструкторов и учеников и парусиновые ангары для аэропланов. Так и сделали. Не дожидаясь развертывания строительства капитальных зданий на новом аэродроме, разбили лагерь, поставили палатки для людей, каркасно-разборные парусиновые ангары для аэропланов. С 1 марта 1912 года начали теоретическую и летную подготовку. Своими силами наладили телефонную связь. От Качи до Севастополя добирались катером – так было быстрее. Дело постепенно налаживалось. Название речки Качи, служившей ориентиром для пилотов, быстро стало неофициальным названием школы и поселка при ней. Все стали называть аэродром, школу и поселок – Качей. Преимущества Качи для размещения аэродрома подтвердили и флотские метеорологи, утверждавшие, что в районе Качи царили удивительно постоянные и присущие только здешней Качинской округе погодные условия. Если над Севастополем висела дождевая туча и шел дождь, то над Качей – светило солнце. Именно поэтому среди летчиков вскоре родилась поговорка: «А на Каче – все иначе».
Выделенные авиационной школе деньги позволили выкупить под аэродром участок земли площадью 7,1 квадратного километра.
Как всегда в России, не обошлось без истории с покупкой спекулятивно дорогой земли для школы. За что тихо, под благовидным предлогом, сняли начальника школы полковника С.И. Одинцова. Как пишет в своей диссертации исследователь В.Г. Аллахвердянц: «Председатель Государственной Думы инициировал в июне 1911 года голосование депутатов за выделение Севастопольской авиашколе на обустройство 1 миллиона 500 тысяч рублей. Используя эти деньги, Великий князь приобрел большой участок площадью 657 десятин 515 саженей в 20 верстах севернее Севастополя и в 6 верстах от горной речки Кача. Однако сразу же выяснилось, что незадолго до сделки помещик Видемейер, владелец земли в районе речки Кача, скупил по дешевым ценам соседние участки бесплодной земли, в том числе у жителей татарской деревни Мамашай. После обращения к помещику представителей великого князя с предложением о покупке он назначил цены на землю, в три-четыре раза превышавшие прежние. Стало ясно, что к Видемейеру произошла «утечка информации» из окружения шефа авиации, и помещик успел скупить земли всей округи. Подозрения пали на начальника авиашколы С.И. Одинцова, что и подтвердилось в ходе следствия. Расплата за коррупцию и неблагодарность последовала немедленно. Несмотря на свои прежние заслуги, полковник С.И. Одинцов был снят со своего поста».
Командовать школой, вместо полковника Одинцова, назначили капитана Генерального штаба князя А.А. Мурузи.
На деньги, выделенные Думой на купленном участке земли со сторонами почти правильного квадрата 1200 на 1500 саженей, был образован Александро-Михайловский лагерь, названный в честь шефа авиации Великого князя Александра Михайловича. Еще двадцать десятин подарил школе богатый сосед помещик Максимович, после чего аэродром стал иметь площадь 677 десятин 550 саженей. Земля нового аэродрома авиашколы представляла собой просторный идеально ровный участок, покрытый полынной степью. Единственным ориентиром являлся овраг в сторону обрыва моря, который назывался Немецкой балкой.
С 1 марта 1912 года на новом аэродроме начали теоретическую и летную подготовку, по договору, со специальным курсом – 27 летчиков-учеников для морской авиации. Последний приказ по авиашколе в городе Севастополе имел № 132 и был датирован 11 мая. Затем в приказах место издания не указывалось, а с приказа № 191 от 9 июня называлось новое место – лагерь Александро-Михайловский. 21 июня 1912 года вышел приказ № 178, во 2 параграфе которого указывалось, что «приказом по войскам Одесского военного округа с. г. за № 153, вверенная мне школа, как находящаяся вне Севастополя, из списка частей Севастопольского гарнизона исключена…»
В первой половине 1912 года в авиашколе выработали программу испытаний на звание военного летчика: «Для испытания на звание военного летчика назначается особая комиссия, в присутствии которой летчик обязан выполнить следующие задания:
– полет без спуска продолжительностью полтора часа, причем на высоте 1000 метров нужно пробыть не менее 30 минут;
– планирующий спуск с высоты 100 метров при ветре не более 3 м/с, причем окончательная остановка должна произойти в расстоянии не более 100 м от заранее намеченной точки;
– полет продолжительностью в 5 минут на любом аэроплане из числа принятых в отрядах;
– подробное знание двигателя: сборка, разборка и его регулировка, нахождение неисправностей и устранение их;
– подробное знание принятых аппаратов, регулировка и ремонт их;
– решение тактической задачи на рекогносцировку войск и местности.
Испытания полетов могут производиться при скорости ветра не более 10 м/с».
В середине 1912 года в Севастопольскую авиашколу были командированы врачи, которым поручили охрану здоровья обучающихся. Так, рапортом № 38 от 6 июля 1912 года младший врач Сипаткин докладывал начальнику школы, что среди нижних чинов находятся «пять больных трахомой и три – хроническим конъюнктивитом». После чего вышел приказ по школе № 191 от 9 июля, о проведении «изоляции больных трахомой от остальных в отдельное помещение с выделением индивидуальных умывальников на период лечения». В это же время в авиашколе организуются медико-биологические и психологические исследования летного труда. Летчики уже давно обратили внимание на такое отрицательное явление, как напряженность, и понимали, что она является сильной помехой в летном деле. Так, летчик М.Н. Никифоров в январе 1912 года отмечал: «Держа в руках рычаг управления, не нужно его сильно сжимать. При сильном сжатии быстро устают мускулы кисти и пальцев» и наступает «напряженность».
Сохранились воспоминания летчика В.М. Ткачева о его учебе в 1912 году в Севастопольской авиационной школе: «В начале сентября 1912 года я приехал в Севастополь. К тому времени Севастопольская военно-авиационная школа перешла с аэродрома на Куликовом поле на обширное ровное плато за долиной реки Кача (примерно в 15 км от северной стороны крепости). Здесь, в 8 брезентовых ангарах «Бессоно» хранился летный парк, состоявший образом из аэропланов «Ньюпор IV» с мотором «Гном» 50 л. с.; учебных «Ньюпоров» с моторами «Анзани» 25 л. с. и нескольких «Фарманов IV» с мотором «Гном» 50 л. с. За ангаром располагались деревянный сарай для мастерских и другие службы. Офицеры-ученики жили в аэропланных ящиках, столовая находилась в бараке. Начальник школы и инструкторы-пилоты жили в городе. Школу теперь возглавлял капитан Генерального штаба А.А. Мурузи. Инструкторами-пилотами были: Михаил Никифорович Ефимов, лейтенант Черноморского флота Виктор Владимирович Дыбовский, лейб-гвардии Кавалергардского полка поручик Алексей Александрович Ильин, лейб-гвардии Преображенского полка штабс-капитан Сергей Иванович Виктор-Берченко, лейб-гвардии саперного батальона поручик Борис Владимирович Макеев, Виленского пехотного полка штабс-капитан Иван Яковлевич Земинат, Литовского пехотного полка поручик Дмитрий Георгиевич Андреади, поручик 6-й воздухоплавательной роты Иван Николаевич Туношенский».
Нужно сказать, что летчику, который учился летать на «Фармане», приходилось переучиваться, чтобы летать на «Ньюпоре IV», у которого рули управления имели совершенно обратное назначение, чем на «Фармане». Так – отклонением ручки управления вправо или влево у «Фармана» изменялся соответственно крен крыльев, а у «Ньюпора» – направление полета; действием же ног на педаль у «Фармана» менялось направление полета, а у «Ньюпора» – изменялся крен.
Чтобы лучше узнать устройство аэроплана и мотора «Гном», офицеры-ученики проводили дополнительное время в аэропланной и моторной мастерских и сборочной, где знакомились с конструкцией аэропланов и моторов, с их починкой, сборкой, регулировкой. Особо нужно сказать об авиационном моторе «Гном», от которого во многом зависел успех, да и судьба летчика. Офицеры-ученики обучались у опытных мотористов авиашколы: И.К. Спатареля, Т.О. Борового, В.Ф. Вишнякова, которые знали устройство и особенности мотора «Гном» в совершенстве. Динамику полета аэроплана изучали по литографированному учебному пособию «Динамика аэроплана в элементарном изложении», написанному в 1911 году профессором Н.Е. Жуковским.
Летный состав школы уверенно осваивал пилотирование аэропланов, тренировал навыки в управлении ими. Для обеспечения безопасности полетов по приказу начальника школы А.А. Мурузи на летное поле нанесли белые круги и прямые линии взлета и посадки, вокруг аэродрома соорудили деревянную ограду, проход и проезд разрешался только через шлагбаум. На время полетов медицинское обеспечение осуществлял фельдшер на санитарной двуколке, противопожарное – нижние чины с пожарным ручным насосом и огнетушителями, установленными на приспособленной повозке. Каждый летный день тщательно документировался. В соответствии с Положением об отделе Воздушного флота усилили требования к обучающимся офицерам. Военный летчик должен был уметь подниматься на высоту 1500 метров над высшей точкой данной местности, а также летать в тумане, при дожде, ночью и при ветре более 8 метров в секунду, а также спускаться с выключенным мотором. Летчикам необходимо было детально знать и уметь ремонтировать авиационный мотор.
В авиационной школе выработали первые правила летного обучения: запрещалось пребывание в воздухе над аэродромом одновременно более трех аппаратов; одновременно в воздухе могли находиться только два ученика; не допускались совместные полеты учеников на одном аппарате впредь до сдачи ими экзамена на летчика; перед полетами механик осматривает и испытывает механизмы аэроплана; машина выводится на аэродром только после проверки ее исправности.
Были установлены не только правила летного обучения, но и установили возрастной предел для летчиков. В соответствии с ним, оптимальный возраст для военного летчика определили в 35 лет. Строгие требования предъявлялись и к здоровью летного состава воздушного флота. Так, предписывалось тщательно следить за тем, чтобы чистый вес тела обучающихся пилотов-офицеров не превосходил 5 пудов – 80 килограммов. Личные убеждения и вероисповедание практически не влияли на судьбу кандидата в летчики. Обучаемые делились на два класса – общий и специальный. В первом получали звание летчика, во втором – учились на военного пилота.
В школе впервые были точно и кратко сформулированы задачи боевого применения авиации:
«1. Производство разведки противника.
2. Поддержание связи.
3. Нанесение материального и морального вреда врагу бросанием с высоты взрывчатых веществ.
4. Уничтожение змейковых, управлявшихся аэростатов и аэропланов противника.
5. Точное определение укреплений противника и их фотографирование».
С целью облегчения ориентировки и безопасности при перелетах ввели специальные авиационные навигационные карты.
Летом 1912 года группа офицеров провела тщательную рекогносцировку местности для устройства военного городка авиационной школы, и к осени был утвержден план расположения постоянных зданий школы примерно в километре севернее Немецкой балки. План включал в себя непосредственно аэродромные постройки – ангары и мастерские, и ряд жилых и служебных зданий вдоль обрыва моря, в пятидесяти метрах от него. По этому проекту самым вместительным было помещение офицерского собрания, а в его крыльях – помещения для инструкторов и переменного состава, казармы для нижних чинов. Проектом предусматривалось строительство котельной, электростанции, водонапорной башни с артезианской скважиной, пожарного депо, складских помещений под топливо – то есть полностью автономного городка авиаторов.
В день второй годовщины авиашколы, 8 ноября 1912 года, на закладку и торжественное освящение намеченных фундаментов капитальных зданий приехал Великий князь Александр Михайлович в сопровождении капитана 1 ранга Фогеля. День был пасмурный, но безветренный. Вдоль берега моря были трассированы, а кое-где вырыты котлованы для фундаментов будущих построек – казарм, здания для офицерского собрания, здания для руководителей и прочие. Поселок строился капитально, с высоким уровнем комфорта. После торжественного акта – закладки фундаментов зданий Севастопольской авиашколы Великий князь поблагодарил летчиков школы за отличное участие в маневрах, а начальника школы капитана князя А.А. Мурузи произвел в чин подполковника. День 8 ноября 1912 года, день второй годовщины основания Севастопольской школы летчиков, стал считаться днем основания Качинской летной школы. Севастопольская авиационная школа постепенно становилась центром, в котором офицерами-авиаторами были серьезно обогащены теория и практика полетов, инструкторами школы выработаны правила по предотвращению аварийности, совершались учебные полеты над морем, ночью, в горах, а в мастерских школы вносились изменения, в части укрепления конструкции аэропланов. Невзирая на звания, сословия и чины, ученики-летчики учились производить ремонт аэроплана своими силами.
Здесь уместно напомнить, что 8 ноября русская православная церковь отмечает престольный праздник архистратига Михаила. Сила Святого Михаила Архангела сильнее силы дьявола, а молитва к Святому Михаилу помогает защитить наш народ. Так русские авиаторы обрели своего небесного покровителя.
В авиации во все времена трусам делать было нечего. Но победа над воздушной стихией даром не давалась. В течение 1912 года в Севастопольской авиационной школе произошло несколько авиакатастроф с гибелью летчиков. В одной из них, 2 июля 1912 года трагически погиб авиатор поручик А.В. Закуцкий, который во время полета над Александро-Михайловским лагерем на реке Кача под Севастополем потерпел аварию. Алексей Васильевич Закуцкий, уроженец области Войска Донского, после окончания Виленского пехотного юнкерского училища был выпущен в 170-й Молодечненский полк, откуда был направлен на обучение в Севастопольскую авиационную школу. Сохранился Приказ № 204 от 02.07. 1912 года командира 170-го Молодечненского полка, где говорится: «Честь и слава герою, подвергавшего свою жизнь ежедневной смертельной опасности, сложившему свою голову ради победы чести и славы Царя и Родины». И далее: «Предписываю во всех ротах и взводах иметь портреты героя поручика Закуцкого, дабы напоминание о нем учило бы Молодечненцов, как надлежит служить Царю и Родине…»
Известно, что безопасность полетов во многом зависит от конструкции летательного аппарата, но многие пилоты надеялись на русское «авось». Ведь в большинстве случаев судьба пилота находится в его собственных руках, но, к сожалению, это самое «авось» многих и подводило. Опытный пилот-наставник М.Н. Ефимов говорил: «Мое твердое убеждение, что при всех недостатках аэроплан все-таки гораздо безопаснее, чем автомобиль. А почему же чуть не каждый день мы слышим о новых жертвах, почему ни одно состязание в воздухе не обходится без катастрофы?.. Я объясняю это тем, что большинство авиаторов – люди почти без всякой технической подготовки. Кроме того, самым развращающим образом действуют на новичков-авиаторов первые удачные полеты. Авиатору помогает не счастье, не удача, а знание дела и долгая, добросовестная практика… Такое пренебрежительное отношение к технике и приводит к катастрофам…» Путь к безопасности полетов – не только в совершенствовании конструкции аэропланов, но и в повышении искусства пилотирования. Глубокие знания техники и высокое мастерство помогали многим пилотам летать без аварий, находя выход из самых сложных положений, сохраняя себя и машину. Тот же самый Ефимов утверждал: «Без твердого знания искусства эволюционирования в воздухе авиатор и аэроплан всегда в опасности… Необходимо уметь планировать с высоты с остановленным мотором и делать виражи, что очень важно при случайных осложнениях во время полетов».
Но летчики продолжали гибнуть. В 1912 году при сдаче экзамена на военного летчика погиб поручик Малинников.
Первая в истории России гибель авиатора капитана Л. Мациевича, произошедшая на Комендантском аэродроме Петербурга 24 сентября 1910 года, стала потрясением как для сотен людей, на глазах которых взмывший в небо в лучах заходящего солнца аэроплан Мациевича рухнул на летное поле, так и для множества людей по всей стране, став общенациональной трагедией. Техническая комиссия, расследовавшая причины катастрофы, сошлась на том, что причиной стала усталость металла. Одна из расчалок за спиной пилота оборвалась и попала в находящийся сзади винт аэроплана, из-за чего заглох мотор, и машина с высоты рухнула вниз.
Историческая справка
Лев Мациевич окончил механическое отделение Харьковского авиационного института в 1901 году и получил назначение на судостроительный завод в Севастополе старшим помощником строителя броненосца «Иоанн Златоуст». В 1902 году экстерном окончил Морское инженерное училище в Санкт-Петербурге. Как пишет О. Николаев в статье «Последний полет седьмого»: «Первым в мире Л. Мациевич в 1909 году предложил проект авианосца, на борту которого должны были размещаться 25 аэропланов. Поднимать их в воздух предлагалось с помощью катапульты, а «ловить» при приземлении специальной тормозной системой». В 1906 году Л. Мациевич окончил Николаевскую морскую академию, после чего ему присвоили офицерский чин и направили на стажировку в Германию, где шло строительство для России подводных лодок: «Камбала», «Карась», «Карп». После возвращения из Германии Мациевич служил в конструкторском отделе Морского технического комитета. В 1910 году Л. Мациевич подал рапорт об обучении его летному делу и в марте 1910 года начал обучение в авиационной школе Анри Фармана во Франции. Л. Мациевич стал седьмым в списке пилотов Российской империи.
Гибель авиатора Мациевича потрясла изобретателя Глеба Котельникова, присутствовавшего в момент трагедии на Комендантском аэродроме, и подтолкнула его на создание спасательного устройства для авиаторов – парашюта. В декабре 1911 года конструктор-самоучка Котельников пытался запатентовать первый ранцевый образец парашюта в России, но неудачно. В марте 1912 года Котельников получил патент во Франции. В июне 1912 года под Гатчиной были проведены испытания ранцевого парашюта РК-1 (Русский Котельникова) с 80-килограммовым манекеном. Особенностью парашюта Котельникова было крепление строп парашюта не в районе пояса, за спиной летчика, как у западных парашютов, а в районе плеч, что позволяло управлять парашютом при спуске. Испытания прошли успешно, но на вооружение парашют не был принят.
А жаль! Парашют мог бы уменьшить число жертв авиационных аварий и спасти многих российских летчиков в годы в Первой мировой войны.
Проектирование и изготовление гидроаэропланов в России шли в ногу с самолетостроением на Западе. Если в 1910 году взлетел с воды первый гидроаэроплан А. Фабера во Франции и американский гидро Г. Кертиса, то уже в 1911 году поднялся в воздух русский гидроаэроплан «Гаккель-V» конструкции Я.М. Гаккеля, а в 1912 году были созданы гидроаэропланы И.И. Сикорского. Несмотря на это военное ведомство продолжало закупать гидроаэропланы американских и французских марок. Но начиная с 1913 года в стране развернулось строительство отечественных гидроаэропланов. Российские конструкторы Григорович, Виллиш, Энгельс, Седельников, Фриде, Шишмарев, конструкторские бюро Русско-Балтийского Вагонного завода и Авиационной испытательной станции создавали новые проекты гидроаэропланов, могущих взлетать с воды и садиться на воду, превосходившие по своим техническим характеристикам иностранные аппараты.
Строились и авиационные станции. В Севастополе, распоряжением морского министра, начала возводиться гидроавиационная станция 1-го разряда.
Командующему морскими силами
19-го декабря 1913 г. Черного моря
По Севастопольской гидроавиационной станции 1-го разряда.
А. Строительство
1). Два железобетонных ангара, размером 24 * 24 * 6 метров.
2). Пристань у Воздухоплавательного парка с четырьмя шлюп-балками для подъема двух катеров.
3). Шоссейная дорога от пристани парка к зданиям с площадкой у пристани.
4). Шлюпочный сарай со спуском и шпилем для подъема шлюпок.
5). Кают-компания для офицеров с пятью комнатами, ванной и кухней.
6). Бетонная площадка влево от имеемого спуска.
7). Каменный забор с колючей проволокой на верху кругом территории парка.
(РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 813. Л. 155–156)
В конце 1913 года в авиационном мире только и говорили о «мертвой петле» русского пилота Петра Николаевича Нестерова. Одни восхищались геройством и аэродинамическими познаниями летчика, другие считали это ненужной акробатикой.
Первые военные летчики носили обмундирование тех родов и частей войск, из которых были направлены на обучение летному делу. Но в начале января 1914 года Приказом по Военному ведомству № 4 от 3 января для летчиков были введены синий китель флотского образца и пилотка из черного сукна, с черными бархатными клапанами, красные выпушки по швам, кокарда, как на фуражке, тулья крестообразно обшита узким серебряным галуном с двумя тонкими красными просветами. Эмблема на шлемы русских военных летчиков была выполнена в виде двуглавого орла с императорской короной, который держит в лапах пропеллер и шпагу. На груди орла вензель императора Николая II. Полетное обмундирование представляло собой черный кожаный бушлат, черные кожаные брюки-галифе, сапоги, краги и летный шлем.
Напогонная эмблема офицера-авиатора напоминала эмблему на шлеме, за исключением короны, и выполнялась из оксидированного серебра. Эмблема была введена приказом по Военному ведомству № 417 от 03 июля 1913 года. В просторечии летчики называли ее «мухой» или «орлом». Напогонная эмблема нижних чинов авиационных частей, представлявшая собой птичьи крылья с расположенным поверх них пропеллером, была введена приказом № 4 от 03 января 1914 года. Эмблема имела неофициальное наименование «утка».
Эмблемы в авиации появились не только на погонах пилотов. Эмблемы, подтверждающие государственную принадлежность, появились и на крыльях аэропланов.
Первое достоверно известное использование на самолетах знаков государственной принадлежности зафиксировано в 1910 году на соревнованиях по бомбометанию в Вене. Каждая машина, заявленная для участия в соревнованиях, несла на своих крыльях цветные полоски в виде государственного флага своей страны. Известно, что в Вену для участия в этих необычных соревнованиях прибыли аэропланы из России, Франции, Италии и Румынии. С тех пор крылья и стабилизаторы самолетов украшают эмблемы, указывающие на государственную принадлежность боевых машин.
К 1914 году Севастопольской офицерской авиационной школой было подготовлено 174 летчика, из них 21 летчик из нижних чинов. До начала Первой мировой войны обучение пилотажу считалось привилегией офицеров. Обучение летному мастерству солдат и матросов из числа мотористов хотя и происходило, но не носило массового характера. Уже тогда авиация считалась элитой Русской армии, и не по сословным принципам, а по сложности техники, по требуемым высоким техническим знаниям, по обстановке товарищества и взаимопонимания среди пилотов и механиков, по смелости и выдержке, по воинской дисциплине, нарушение которой строго каралось.
К несчастью, авиаторы продолжали гибнуть в мирное время. В апреле 1914 года погиб военный летчик Севастопольского крепостного авиационного отряда поручик Гартман, погибли штабс-капитан Андреади, совершивший один из первых полетов Севастополь – Одесса – Петербург, и первый пилот России из рядовых – Семишкуров и другие авиаторы, к сожалению, оставшиеся безвестными.