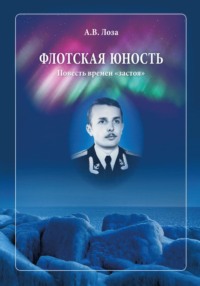полная версия
полная версияМоре и небо лейтенанта русского флота
У турок было несколько более-менее боеспособных кораблей: два бронепалубных крейсера «Меджие» и «Гамидие», два эскадренных броненосца «Тортуг Рейс» и «Хайреддин Барбаросса», восемь эсминцев французской и немецкой постройки, поэтому выход турецкого флота из Босфорского пролива для боевых действий против русского флота был в принципе невозможен. Турки неоднократно официально заявляли о своем нейтралитете. Но в российском правительстве опасались спровоцировать вступление Турции в войну на стороне Германии и выпустили директиву, «связывающую руки» командующему Черноморским флотом адмиралу А.А. Эбергарду и указывающую ему избегать агрессивных действий флота, которые могут вызвать войну с Османской империей.
На самом деле нейтралитет Турции был лишь ширмой. Еще в конце июня 1914 года турецкие руководители отправились в Европу: Джемаль-паша – в Париж, а Энвер-паша – в Берлин, с целью выторговать преференции (Греческие острова, часть Болгарии, Карс, Батум…) за участие Турции в войне против России. В Париже Джемаля-пашу встретили торжественно, наградили орденом Почетного легиона, но ни Фракии, ни Импброса, ни Хиоса, ни Лемноса, ни Лесбоса не пообещали. Зато в Берлине Энверу-паше предложили подписать секретную конвенцию о вступлении Турции в войну на стороне Германии в случае вмешательства «в австро-сербский конфликт» России.
Еще в начале августа 1914 года, воспользовавшись неповоротливостью англо-французской эскадры, базировавшейся в Средиземном море, два новейших германских крейсера «Гебен» и «Бреслау» вошли в пролив Дарданеллы. В это же время англичане официально объявили о наложении секвестра на построенные на верфях Англии для Турции дредноуты «Султан Осман и Эввел» и «Решадие», тем самым присвоив семь миллионов фунтов стерлингов, собранных в Турции, по всенародной подписке. В ответ на это турецкое правительство заявило, что провело сделку по покупке германских крейсеров «Гебен» и «Бреслау» еще до войны, придав видимость «законности» пребыванию германских кораблей в Черном море. Это была чистейшей воды фикция.
После «передачи» Германией «под турецкий флаг», вместе с немецкими командами крейсеров, тяжелого «Гебена» и легкого «Бреслау», Турция закрыла черноморские проливы Босфор и Дарданеллы для судов всех наций. Маяки в проливах были погашены, бакены сняты. 15 октября 1914 года немецкий генерал О.Л. фон Сандерс, ставший после подписания 2 августа Союзного договора Турции и Германией фактически вторым халифом, экстренно созвал военный совет и в присутствии султана заявил, что если тот тотчас не подпишет ираде о начале войны с Россией, то крейсер «Гебен» своими орудиями разрушит султанский дворец, а сам султан будет арестован и лишен престола. 11 ноября султан Махмед V подписал ираде. Турция объявила «джихад» – «священную войну» России и странам Антанты.
Командир германской Средиземноморской дивизии контр-адмирал В. Сушон возглавил объединенные германотурецкие силы на Черном море. Немецкие корабли получили турецкие названия – «Гебен» стал «Явуз Султан Селимом», «Бреслау» – «Мидилли», и 16 августа 1914 года на них были подняты турецкие флаги.
Как пишет исследователь А.Б. Широкорад в книге «Спор о Русском море»:
«Первым делом Сушон затребовал из Германии сотни офицеров и квалифицированных специалистов из унтерофицеров и старшин – артиллеристов, минеров, дальномерщиков и других. Их распределили по наиболее боеспособным кораблям и фортам в Босфоре и Дарданеллах. Фортами в проливах стали командовать два немецких адмирала и 10 старших офицеров. Взяв в свои руки мощную радиостанцию Окмейдан (вблизи Константинополя), немцы восстановили независимую от корабельных радиостанций радиосвязь с фортами в проливах и Германией». Немцы интенсивно готовили турецкий флот к нападению на Россию.
В средине октября 1914 года германо-турецкие корабли вероломно напали на наше Черноморское побережье, обстреляв Новороссийск, Феодосию, Одессу и Севастополь. Еженедельник «Летопись войны» за октябрь 1914 года писал: «Истекшая неделя ознаменовалась вступлением в вооруженную борьбу новой союзницы Австро-Германии – Турции. В ночь на 16 октября германские крейсера «Гебен» и «Бреслау» и турецкий крейсер «Гамидие», сопровождаемые флотилией миноносцев и другими судами турецкого флота, действуя порознь, подвергли бомбардировке наши незащищенные черноморские порты: Новороссийск, Феодосию, Одессу».
Два турецких миноносца «Муавинет» и «Гайрет» ночью беспрепятственно вошли в гавань Одессы и обстреляли торпедами и артиллерийским огнем стоящие там корабли и суда, потопив канонерскую лодку «Донец», выведя из строя канонерскую лодку «Кубанец» и минный заградитель «Бештау», разрушив несколько причалов. Этот набег унес жизни 25 русских моряков. В то же время турецкий крейсер «Гамидие» обстрелял Феодосию и потопил торговое судно.
16 октября Севастополь объявили на осадном положении. Власть в городе сосредоточилась в руках командующего Черноморским флотом адмирала А.А. Эбергарда и коменданта крепости генерал-лейтенанта А.А. Ананьина.
Для нейтральной Турции это было верхом подлости! Попирая принципы невмешательства, «нейтральная» Турция, приняв «в дар» два германских крейсера «Гебен» и «Бреслау», после того как они укрылись от английского флота в турецких водах, «прикрыла их турецким флагом» и оставила в турецких водах в качестве боевых единиц Германии в Черном море для действий против России.
Чтобы скрыть факт вероломного нападения, турецкое правительство опубликовало в Константинополе официальное сообщение, в котором сообщалось, что во время, когда турецкая эскадра проводила маневры в Черном море, она была внезапно атакована русским флотом, поэтому турецкое правительство возлагает ответственность за начало военных действий на Россию. Это была наглая ложь!
Российское правительство заявило: «…до начала враждебных действий Турцией русский флот таковых действий со своей стороны не предпринимал, и что если бы инициатива нападения исходила от русского флота, то внезапного нападения турецкого флота воспоследовать не могло бы».
Газеты «Русская Ривьера», «Крымский вестник», «Южные ведомости» и другие издания поместили на своих полосах специальные рубрики крупным шрифтом «Война» и первым сообщением опубликовали текст, полученный от Генерального штаба армии:
«Августейший верховный главнокомандующий велит поставить в известность всех чинов действующей армии и население, что Россия воюет с Германией. Воюет по вызову общего врага всего славянства. Стоило надменному тевтону обнажить свой меч против нас, как восстала вся страна, в едином порыве. Этот день будет вписан крупнейшими буквами в историю Отечества».
16 октября 1914 года последовал приказ по Кавказской армии:
Приказ по Кавказской армии от 16 октября 1914 года
Турки вероломно напали на наши прибрежные города и суда Черноморского флота. Высочайше повелено считать, что Россия в войне с Турцией, войскам вверенной мне Кавказской армии перейти границу и атаковать турок.
Генерал-адъютант Граф Воронцов-Дашков
На следующий день последовал Высочайший Манифест с объявлением Россией войны Турции.
МАНИФЕСТ
Божиею милостию МЫ НИКОЛАЙ ВТОРОЙ Император и Самодержец Всероссийский, царь Польский, Великий князь Финляндский, и Прочая, и Прочая, и Прочая.
Объявляем всем верным НАШИМ подданным: В безуспешной доселе борьбе с Россией, стремясь всеми способами умножить свои силы, Германия Австро-Венгрия прибегли к помощи Оттоманского Правительства и вовлекли в войну с НАМИ ослепленную ими Турцию. Предводимый Германцами Турецкий флот осмелился вероломно напасть на НАШЕ Черноморское побережье. Немедленно после сего повелели МЫ Российскому Послу в Царьграде, со всеми чинами посольскими и консульскими, оставить пределы Турции. С полным спокойствием и упованием на помощь Божию примет Россия это новое против нее выступление старого утеснителя христианской веры и всех славянских народов. Не впервые доблестному Русскому оружию одолевать турецкие полчища, – покарает оно и на сей раз дерзкого врага НАШЕЙ Родины. Вместе со всеми народами Русскими МЫ непреклонно верим, что нынешнее безрассудное вмешательство Турции в военные действия только ускорит роковой для нее ход событий и откроет России путь к разрешению завещанных ей предками исторических задач на берегах Черного моря.
Дан в Царском Селе, в двадцатый день октября, в лето от Рождества Христова тысяч девятьсот четырнадцатое, Царствования же НАШЕГО во двадцатое.
«Николай»
Парадоксально, но именно выступление против Российской империи Оттоманской империи меняло для России все:
– давало войне новый, истинный, ясный и исторически оправданный смысл;
– давало соображения духовного порядка – Крест на Святой Софии;
– давало соображения политические – упразднение извечного врага – Турции;
– давало экономический фактор – Черноморские проливы, без которых Россия задыхалась.
Это придало войне новый великодержавный характер, которого не имела война с Германией и Австро-Венгрией. С этого момента во всех операционных планах Черноморского флота красной нитью проходило слово «Босфор». Стремление Российской империи к проливам являлось основной частью всей ближневосточной политики.
Каждое утро на флагштоках российских боевых кораблей взвивались Андреевские флаги. Блестящая столица Черноморского флота – Севастополь начинала свой день с подъема корабельных флагов.
Перед подъемом флага команда эскадренного миноносца «Лейтенант Пущин» выстраивалась на палубе повахтенно во фронт. Раздавалась команда «Смирно!». Командир эскадренного миноносца капитан 2 ранга Головизнин появлялся на палубе.
Ровно в 8 часов вахтенный офицер обращался к командиру: «Ваше благородие, время вышло!» На что командир отвечал: «Поднимайте!» После этого вахтенный офицер командовал: «Флаг поднять!», – и под звуки боцманских дудок поднималось по флагштоку бело-синее полотнище Андреевского флага, при этом офицеры снимали фуражки, а нижние чины бескозырки. Когда флаг доходил «до места», вахтенный офицер командовал: «Накройсь!»
После этого командир эскадренного миноносца спускался вниз, а ротный командир разводил матросов по работам. Начинался новый корабельный день.
Традиция торжественного подъема военно-морского флага сохранилась на кораблях и в советском военно-морском флоте и в современном российском ВМФ. Время оказалось бессильным перед этой флотской традицией. И подъем флага с широкой синей полосой внизу и красными серпом и молотом на белом фоне в советское время так же вызывал чувство гордости и сопричастности к истории российского флота, как и подъем славного Андреевского флага.
У каждого корабля своя линия жизни. Есть корабли больше, стоящие у причалов, а есть корабли труженики. Угольные миноносцы – из последних, из кораблей тружеников. Частые выходы в море эсминцев IV дивизиона для несения дозорной службы, в том числе и эскадренного миноносца «Лейтенант Пущин», чередовались погрузками угля, приемом боезапаса, масла и воды и снова в море. Через каждые 450–500 миль хода требовалась бункеровка. Погрузка «чернослива», как называли матросы уголь, на угольных миноносцах была по настоящему «адской» работой. Уголь матросы переносили в мешках на спине и ссыпали в горловины угольных ям. Переносили тонну и более на человека. Опытные матросы заталкивали в рот паклю от проникновения в легкие тонкой угольной пыли. Матросские спины заливал пот, смешанный с угольной пылью, и эта «абразивная» смесь раздирала кожу шеи, плеч, подмышек, проникала в глаза и уши. Уголь, уголь, уголь…
А на Крымском полуострове бушевала золотая осень. Бархатный сезон был в разгаре. Как никогда долго в ту осень 1914 года цвели магнолии. Каждый день с полуострова в столицу уходил паровоз с одним вагоном, в котором везли цветы ко двору императрицы. Словно и не было войны, словно и не остались лежать навечно в Восточной Пруссии тысячи погибших русских солдат!..
Настоящая война пришла в город вместе с «Севастопольской побудкой» в 6 часов 33 минуты 16 октября 1914 года, когда германский крейсер «Гебен» открыл огонь по главной базе Черноморского флота.
Двадцатиминутный обстрел Севастопольского рейда ничего не дал. Позже Морской генеральный штаб сообщал: «…несколько снарядов попало в город, не причинив значительных повреждений и не вызвав жертв в людях, один снаряд попал в угольные склады, другой ударил в полотно железной дороги и один, разорвавшись около здания морского госпиталя осколками убил двух больных и ранил восемь нижних чинов».
Крейсер «Гебен» обстрелял и 16-ю батарею имени генерала Хрулева, расположенную между деревней Учкуевка и устьем реки Бельбек. Батарея открыла ответный огонь по «Гебену». Комендант Севастопольской крепости генерал-лейтенант А.Н. Ананьев в рапорте доносил, что при обстреле «Гебеном» батареи на ней внутренним взрывом было разрушено одно из четырех 10-дюймовых орудий образца 1896 года, убито шесть и ранено одиннадцать нижних чинов, из которых один умер от ран.
После 25 минутного обстрела Севастополя, в ходе которого комендоры крейсера «Гебен» выпустили лишь 47 снарядов орудий главного калибра (боезапас 810 снарядов) и 12 снарядов орудий среднего калибра (боезапас 1800 снарядов).
Ответную стрельбу по «Гебену» вели береговые батареи крупных и средних калибров Северного и Южного отделов Севастопольской крепости. В условиях тумана и из-за отсутствия централизованного управления стрельбой батарей в «Гебен» попало лишь три снаряда. Они взорвались около задней трубы и причинили незначительные повреждения, но потери в живой силе были немалые. Крейсер «Гебен» резко снизил скорость и, развернувшись… полным ходом, на зигзаге, вышел из-под обстрела и ушел в открытое море!
В этой истории до сих пор много непонятного. Формальное объяснение отключения электрической цепи минного поля тем, что на подходе к Севастополю был минный заградитель «Прут», не убеждает. Особенно с учетом того, что еще 13 октября морской агент в Стамбуле, капитан 1 ранга Щеглов сообщал о планах Турции нанести внезапный удар по Севастополю, а 14 октября в 20 часов 35 минут было получено сообщение от идущего в Константинополь парохода «Королева Ольга» о встреченных им в 17 часов 30 минут в пяти милях от выхода из Босфора крейсерах «Гебен» и «Брелау» и турецкого крейсера «Гамидие» в сопровождении нескольких эсминцев. Наутро 15 октября другой русский пароход, «Великий князь Александр Михайлович», сообщил о встрече с «Гебеном» в районе Амасры. И даже когда прошли доклады от патрульных гидроаэропланов о появлении турецкой эскадры в 30-мильной зоне Севастополя приказа о включении минного поля не последовало. Странно!
Есть в этой истории и другая странность. Накануне был отдан приказ основным силам флота прекратить патрулирование прибрежного района Севастополя, вернуться и встать на «бочки» на внутреннем рейде.
Но есть и третья странность. Не отстреляв и десятой части своего боезапаса, крейсер «Гебен» неожиданно прекратил обстрел Севастополя и безнаказанно ушел…
Историки не могут дать вразумительного ответа на первые два вопроса. А что касается последнего, то они предполагают, что командир крейсера «Гебен» капитан 1 ранга Фридрих фон Аккерман, понимая, что после первого же его залпа может быть включено разомкнутое минное заграждение и гибель крейсера неизбежна, резко развернулся и полным ходом ушел с минного заграждения, притом что входил он на русское минное поле, даже не выслав вперед тральщика, словно зная, что минное заграждение отключено. Вопросы, вопросы…
В тот же день крейсер «Гебен», которого моряки прозвали «Летучим немцем», за его феноменальную по тем временам для крейсера скорость 28 узлов и два турецких миноносца «Ташос» и «Самсун» пересеклись с русскими дозорными эскадренными миноносцами «Лейтенант Пущин», «Жаркий» и «Живучий», вышедшими на прикрытие минного заградителя «Прут», возвращавшегося в Севастополь с минами на борту.
Исследователь Д.Ю. Козлов в работе «Странная война в Черном море» писал об этих событиях: «…Для несения дозорной службы перед Севастополем капитан 1 ранга М.П. Саблин направил эскадренные миноносцы «Лейтенант Пущин» (капитан 2 ранга В.С. Головизнин), «Живучий» (капитан 2 ранга А.А. Пчельников) и «Жаркий» (капитан 2 ранга С.А. Якушев) под брейд-вымпелом начальника дивизиона капитана 1 ранга князя В.В. Трубецкого. Уже на пути к Севастополю в 00 часов 15 минут князь Владимир Владимирович получил радио штаба флота: «В море «Прут», будьте осторожны. В случае появления неприятеля поддержите «Прут». Памятуя о приказе поддержать «Прут», который с рассветом должен был возвратиться в главную базу, князь В.В. Трубецкой направился к нему навстречу и вскоре усмотрел силуэт заградителя, находившегося к юго-западу от Херсонесского маяка.
Из-за тумана В.В. Трубецкой и его подчиненные кораблей противника не наблюдали. Начальник дивизиона распорядился увеличить ход и поспешил к «Пруту». Через четверть часа «Лейтенант Пущин» сотоварищи попал в поле зрения «Гебена», вышедшего из-под обстрела крепостной артиллерии. Князь В.В. Трубецкой, «открыв» в свою очередь грозный неприятельский дредноут, сыграл боевую тревогу».
Далее Козлов пишет: «Миноносцы подняли стеньговые флаги и еще десять минут лежали на курсе… Наконец, в 07 часов 10 минут, начальник дивизиона, видя, что «Гебен» продолжает двигаться в направлении беззащитного «Прута» решился на торпедную атаку».
Командир эскадренного миноносца «Лейтенант Пущин», флагманского корабля начальника дивизиона князя Трубецкого, капитан 2 ранга Головизнин подал команду, и на левом ноке эсминца затрепетал флаг «Рцы», сигнализирующий о минной атаке левым бортом, и, увеличив ход миноносца до полного, порядка 24–25 узлов, начал уклоняться влево.
В книге «Севастопольская побудка» писатель В.В. Шигин вложил в уста князя Трубецкого следующие слова: «Удастся ли нам выйти под выстрелами на дистанцию торпедной стрельбы или потопят раньше – это знает лишь Господь, но отвлечь немцев от «Прута», мы все же попробуем! – повернулся Трубецкой к командиру миноносца». Наверное, такие слова могли иметь место, но это и не так важно. Важно то, что экипажи миноносцев, не задумываясь, последовали завету русских моряков – «Сам погибай, а товарища выручай!».
Капитан 2 ранга А.П. Лукин, писатель русского морского зарубежья, так описывал самоотверженную и самоубийственную атаку дивизиона наших миноносцев на германский крейсер: «Это был потрясающий момент. В черных клубах валившего из всех труб дыма, в кипящих бурунах своего бешеного хода, с выдвинутыми за борт, в сторону врага, минными аппаратами неслись… миноносцы. В дыму белели их стеньговые флаги… Огромный тяжелый силуэт дредноута все ближе и ближе… Он видит атаку, но не открывает еще огня. Выжидает, чтобы лучше и вернее поразить врага. Его орудия взяли миноносцы на прицел. Еще мгновение, и он откроет по ним ураганный огонь. Опасность грозная. Притаившиеся у аппаратов люди… напряженно ждут условленной сирены минного залпа с флагманского миноносца…»
В.В. Шигин пишет: «Сначала капитан 1 ранга развернул свои эсминцы на параллельный курс с «Гебеном», а затем, приказав увеличить ход до максимально возможного, развернул свои маленькие корабли на стальной гигант. На фалах головного «Лейтенант Пущин» взвился флажный сигнал «Торпедная атака». Выжимая из старых изношенных машин все возможное, флагман Трубецкого возглавил эту атаку смерти. За головным эсминцем последовали «Жаркий» и «Живой».
Несмотря ни на что, начальник дивизиона капитан 1 ранга князь Трубецкой повел свои миноносцы на неприятельский крейсер, чтобы отвести смертельную угрозу, нависшую над минным заградителем «Прут», до которого было не более 70 кабельтовых».
Сейчас уже трудно сказать, что именно заставило командира отряда миноносцев капитана 1 ранга князя Трубецкого пойти в такую почти самоубийственную дневную торпедную атаку. Была ли это некая бравада, неразумная храбрость или же это была смелая попытка перехватить психологическую инициативу немедленным агрессивным поступком? Думаю, что именно последнее…
Исследователь Д.Ю. Козлов пишет: «Обнаружив дерзкий маневр русских, командир «Явуза» (турецкое название «Гебена». – А.Л.) тоже повернул влево, приведя дивизион В.В. Трубецкого на курсовой угол 60 градусов правого борта, открыл огонь по головному миноносцу «Лейтенанту Пущину». Дредноут стрелял шестиорудийными залпами противоминной артиллерии с дистанции 60–70 кабельтовых, которая постепенно сократилась до 45 кабельтовых. Первый залп лег с большим недолетом (8–9 кабельтовых), второй – недолетом в 1–2 кабельтова, третий – с небольшим перелетом. Четвертый залп дал три попадания 150-миллиметровыми снарядами».
В.В. Шигин подтверждает это: «…Четвертый залп накрыл головной «Лейтенант Пущин». Словно наткнувшись на стену, корабль дернуло из стороны в сторону. Над эсминцем взвился форс пламени и дыма. Отовсюду неслись крики раненых…»
В ходе этого боя, после залпов орудий «Гебена», на «Лейтенанте Пущине» вспыхнул пожар, вышла из строя вся прислуга подачи снарядов носового орудия, пострадали находившиеся на мостике сигнальщики, была разбита штурманская рубка и перебит привод штурвала.
Позже капитан 1 ранга князь В.В. Трубецкой докладывал: «От взрыва 6-дюймового снаряда, попавшего в палубу под мостиком и взорвавшегося в командном кубрике, вспыхнул пожар, и была выведена из строя вся прислуга носовой подачи. Следующим залпом с мостика смело всех сигнальщиков и разворотило штурманскую рубку и привод штурвала. Миноносец управлялся машинами. Нос миноносца начал погружаться, электрическая проводка была перебита, почему нельзя было откачивать воду из кубрика и погреба турбиною. Температура от разгоравшегося пожара быстро стала подниматься, почему начали взрываться патроны. Опасаясь взрыва патронного погреба и видя, что подойти к неприятельскому крейсеру на минный выстрел не удастся, повернул дивизион на восемь румбов от неприятеля…»
Под руководством командира капитана 2 ранга В.С. Головизнина и офицеров: лейтенанта А.А. Лиходзиевского, мичмана В.Г. Климовского, мичмана С.Я. Ярыгина, моряки «Лейтенанта Пущина» мужественно боролись за живучесть корабля. Унтер-офицер – электрик, несмотря на ранение, быстро отыскал повреждения электропроводки и заменил поврежденный провод, восстановив электропитание водоотливной турбины, благодаря чему начали осушение затопленных помещений эсминца. Трюмный унтер-офицер спустился во второй кубрик, невзирая на пожар, разгорающийся в расположенном рядом артиллерийском погребе, заделал подводную пробоину. На поврежденном ходовом мостике несколько матросов руками обдирали горящую парусину обвеса мостика, не дав распространиться огню. После того как осколками неприятельского снаряда было перебито рулевое устройство на ходовом мостике, руль был переведен на ручной привод благодаря грамотным и инициативным действия рулевого боцманмата.
Осевший носом, сильно поврежденный миноносец «Лейтенант Пущин» своим ходом в 8 часов 45 минут вернулся в Севастополь. Очевидцы вспоминали: «В Севастопольскую бухту «Лейтенант Пущин» входил с приспущенным Андреевским флагом. Над эсминцем стоял столб дыма, корма корабля была неестественно задрана вверх, а нос, наоборот, ушел в воду. Носовые надстройки были полностью снесены. Вся носовая часть эсминца дымилась». Собравшиеся на берегах бухты жители города молча смотрели на израненный корабль. Через час пришли эсминцы «Жаркий» и «Живучий», не получившие повреждений.
Несмотря на отчаянные и самоотверженные действия эсминцев минный заградитель «Прут» спасти не удалось. Под залпами «Гебена», командир «Прута» капитан 2 ранга Г.А. Быков пробил водяную тревогу и приказал старшему инженер-механику затопить загруженный несколькими сотнями морских якорных мин корабль! Экипаж минного заградителя «Прут», на котором после выхода из боя эскадренных миноносцев сосредоточил свой огонь «Гебен», вынужден был открыть кингстоны и подорвать днище корабля. Вместе с кораблем погибли лейтенант А.В. Рогузский, мичман К.С. Смирнов, боцман Калюжный и 25 нижних чинов. В этом бою принял смерть и судовой священник иеромонах Антоний, до конца соблюдавший Морской устав «находиться при раненых». Остальная часть экипажа, 268 человек, спаслась на шлюпках.
Боевое крещение офицеров и нижних чинов эскадренного миноносца «Лейтенант Пущин» было жестоким и кровавым. Пятеро погибших, двое – без вести пропавших и двенадцать раненых. Почти треть экипажа. Погибших моряков со всеми воинскими почестями похоронили на Северной стороне Севастополя на Михайловском кладбище. Позже установили памятник в виде скалы из диорита с эпитафией:
«Памяти нижних чинов
эскадренного миноносца
«Лейтенант Пущин»
доблестно погибших в бою
во время атаки 3-х миноносцев IV дивизиона
на германо-турецкий крейсер «Гебен»
в 7 утра 16 октября 1914 года.
Убиты и покоятся здесь:
кочегар II статьи Никифор Цуркан
сигнальщик Адольф Велижинский
матрос I ст. Леонтий Литвинов
матрос I ст. Иван Баран