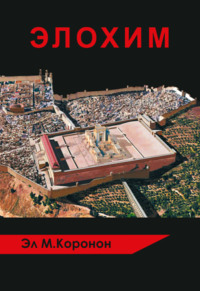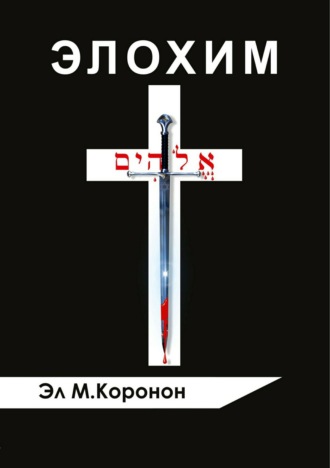 полная версия
полная версияЭлохим
– Поразительно, дада, я часто пользуюсь тем же приемом.
– Мне казалось, что я понимаю людей лучше, чем они меня. Но потом у меня пропал к ним интерес. Они не могли мне сказать ничего нового ни о себе, ни о мире, ни о Боге. Словно я их распознал целиком. Теперь меня на свете никто не волнует, кроме Тебя и Бога.
– Меня тоже, дада. И в этом наше сходство. Только Ты и Бог. Вот кто меня волнует.
– Но ты веришь в Него?
– Я Его знаю. Он мой Отец.
– Адда, это я твой отец.
– Ты и есть мой Бог. Я всегда начинаю молитву так: «Отче…»
Элохим был удивлен. Иудеи никогда не начинали молитву так.
– О Боге ничего нельзя сказать, – задумчиво промолвил Элохим, стараясь уйти в общее рассуждение. – Нельзя даже сказать, что Он существует или не существует. Мне одно ясно. Он не существует в том смысле, в каком существуют люди, животные, растения и весь этот мир. Если он существует, то существует как-то иначе и не в этом мире, а за его пределами.
– Мир сновидений также существует не в том смысле, в каком существует видимый мир, а как-то иначе.
– Адда, ты хочешь сказать, что Бог живет в мире наших сновидений?
– Не совсем. Он живет между миром сновидений и видимым миром. Это совершенно другой мир, и мы попадаем в него в тех редких случаях, когда просыпаемся во сне. Я уверена, что есть ни один и ни два, а три мира. Сон, явь и то, что между ними. Вот там-то, между сном и явью, и открывается непостижимый мир Бога. Я есть мой Мир, Ты есть мой Сон, а Бог есть Я и Ты между Миром и Сном.
– Красиво! Но слишком красиво, чтобы быть истиной.
– Ты есть мой Мир, Я есть твой Сон и Бог есть наша Любовь, – сказала проникновенно Мариам, настолько проникновенно, что слезы навернулись у нее на глаза.
Элохим не удержался, крепко обнял ее. И она прошептала:
– Любовь больше истины!
107На какое-то время они лишились чувства реальности. Словно кроме них в мире никого не было. Она сидела у него на коленях, обвив свои руки, как ребенок, вокруг его шеи. Элохим едва ощущал ее. Она казалось ему невесомой, как перышко. Только под рукой он осязал ее тоненький стан, трепещущий при каждом ее вздохе.
Чем дольше они так сидели, тем больше Элохим осознавал, что грань между отцом и дочерью стирается и что он обнимает не просто дочь, а самое желанное существо. Она положила голову ему на плечо, и он ощутил ее горячее прерывистое дыхание. И он вспомнил встречу с Анной у Шушанских ворот. У него закружилась голова.
Ему стоило больших усилий, чтобы взять себя в руки. Он осторожно поднял ее, посадил на пень, а сам уселся рядом на траву. Она недоуменно посмотрела на него.
– Адда, родная моя, мы живем в мире, где нельзя допустить, чтобы любовь перешла в кровосмешение.
– Дада, я не понимаю.
– Родная моя, в Законе ясно сказано: «Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться, чтобы открыть наготу».
– Это ко мне не относится. Я не приближалась ни к какой родственнице и не открывала ее наготу, – с улыбкой ответила Мариам.
– Зато относится ко мне, – сказал Элохим.
– И к тебе не относится. В Храме Тору я изучала ежедневно. В Вайирке перечислены пятнадцать родственниц, с кем нельзя совершать аройот – мать, сестра, тетя, жена брата, отца, сына, одним словом упомянута всевозможная родня. Даже дочь дочери не забыта. Но ни слова о самой дочери. По-твоему, это случайно? По-моему, нет. В Торе нет ничего случайного.
– Адда, очевидно, кровосмешение с дочерью настолько омерзительно, что Моисею было противно упомянуть о нем.
– Да, омерзительно, если отец берет свою дочь насилием. Закон говорит: Le-galoth ervah – не открывай наготу! А что это такое? Открывать наготу – это как бы действие. Нельзя открывать наготу родственницы против ее воли. Закон запрещает как раз насилие. Но он не запрещает родственнице самой открывать свою наготу. Это не насилие.
– Адда, Le-galoth ervah – иносказательно выражает кровосмешение.
– Не совсем так. Оно означает изнасилование. Если бы ты приблизился к своей дочери, чтобы открыть ее наготу против ее желания, то совершил бы насилие. Тора обращается непосредственно к мужчине, как бы говорит ему: не приближайся к родственнице, не открой ее наготу, то есть не насилуй ее. Совершенно другое дело взаимная любовь между отцом и дочерью.
– Адда, всякое кровосмешение запрещено законом.
– Хорошо, дада. Пусть будет так. Всякое. Но мы – исключение. Всякий закон допускает одно исключение.
– Но за исключением закона о кровосмешении. Это тоже исключение, исключение из всех законов. По-моему, адда, ты слишком буквально понимаешь закон.
– Дада, закон есть закон. Я понимаю его так, как он написан. От себя ничего не прибавляю и от него ничего не убавляю. Я уверена, что Тора намеренно исключила дочь из числа родственниц, с кем запрещено совершать кровосмешение.
– Адда, всякий закон не совершенен, поскольку написан человеком. Но оставим в стороне не нами написанный закон. Давай установим свой Закон.
– Ой, дада, как здорово! Установить свой Закон. Это мне нравится.
– Скажи, одобряешь ли ты кровосмешение?
– Разумеется, нет.
– А между отцом и дочерью?
– Тоже нет. Дочери обычно сильно любят своих отцов. Для многих из них это как бы первая любовь. А отцы бывают разные. Некоторые могут воспользоваться этой любовью, злоупотреблять своей неограниченной властью над дочерьми.
– Умница. Вот видишь, сама же пришла к запрету на кровосмешение. Если бы не было запрета на кровосмешение, то, наверно, немало отцов изнасиловали бы своих малолетних беззащитных дочерей, причиняли бы им боль и страдание. И их затем никто не брал бы в жены, поскольку мужчине нужна девственница, чтобы быть уверенным в своем отцовстве.
– Да, но мы тут причем? Вот смотри, мы думаем одинаково, согласны во многом. Знаем, что кровосмешение нежелательно, противозаконно, преступно и недопустимо. Закон мудро запрещает его. Все это так. Но если я не переношу запахов всех мужчин на свете, за исключением тебя, как мне тогда быть? И если я люблю тебя и лишь только тебя, и ты любишь меня и лишь только меня, то почему мы должны страдать? Ведь это касается только нас двоих. Мы никому ничего плохого не делаем.
– Это касается нас двоих. Но люди нас не поймут.
– Их мнения меня не волнуют. Не поймут сейчас, поймут потом. Через три тысячи лет.
– Вряд ли поймут и тогда.
– Ну, тем хуже для них. От этого я не стану беднее, но и они не станут богаче. Я живу один раз на свете. Не хочу жертвовать собою из-за людских мнений! Меня на этом свете волнует только одно – любить того, кого я хочу! Нам надо встать выше предрассудков. И тогда мне не придется нюхать тех, от кого меня тошнит.
– Адда, мне пятьдесят четыре, на сорок лет старше тебя. Я не вечен. Тебе нельзя оставаться одной. Тебе надо иметь свою семью, детей.
– А я не буду одна.
– Как не будешь одна? Если у тебя не будет семьи?
– Я буду с сыном.
108Как кошмарное наваждение вспомнилось сновидение, в котором Азаз-Эл предрек ему рождение Мессии. Он также вспомнил, что и Мариам не впервые говорит о сыне. Еще три дня тому назад в Царских Садах она сказала, что родит сына. Как же он мог забыть? Тогда она была сильно расстроена тем, что Элохим прервал ее сон. Не хотела ни о чем говорить. А когда у них еще раз этой ночью зашел разговор о ее сновидении, он не успел ее спросить, поскольку незаметно сам уснул.
Теперь предречение Азаз-Эла, слова Мариам и Великое Тайное Предсказание Мелхиседека сошлись в одном.
Он понял, что Мариам все это время молчала о самом важном. Не то что скрывала от него или недоговаривала, а ждала нужного момента.
– Адда, почему ты так уверена, что родишь сына? – спросил Элохим, стараясь сохранить невозмутимость.
Мариам ничего не ответила. Было видно, как она борется с собою, в чем-то сомневается, не знает, что и как сказать. Элохим решил не мешать ей, оставить ее на время наедине с собою. Он встал и отвел мула к роднику.
Когда он вернулся, нашел Мариам в новом настроении. От сомнений и внутренней борьбы на ее лице не осталось и следа. В ее глазах, как у Анны, весело играли чертики.
– Скажи, дада, пойдешь ли ты ради меня на все?
Вопрос был неожиданным, хотя Элохим не сомневался в ответе.
– Странный вопрос.
– Нет, ты лучше ответь: да или нет.
– Да.
– На все, на все, на все, – игриво повторила Мариам, напомнив ему чем-то свою мать.
– Да, родная.
– И, не задумываясь, мог бы убить человека по одному моему слову.
Элохим задумался: «Зачем она задает такие странные вопросы?»
– Нет, ты не думай, ответь, что придет первым в голову.
– Мог бы.
– И даже мог бы убить всех людей. И невинных младенцев. И беспомощных стариков. Всех до одного.
Элохим вновь задумался. Ничто не приходило ему в голову. Он чувствовал себя прижатым к стене. Мариам явно его испытывала.
– Мог бы, – за него ответила Мариам, – раз не говоришь «нет».
Элохим почувствовал облегчение. Но тут же Мариам сразила его наповал.
– А свою мать?
Мать Элохима давно умерла. Он ее любил безумно. В детстве не мог представить жизнь без нее. Не ответить на этот вопрос он не мог. Он посмотрел ей прямо в глаза.
– Отвечу тебе как самому себе. Если бы ты повелела мне убить мать, не знаю, как поступил бы в тот момент.
Она радостно кинулась ему на шею и покрыла все его лицо поцелуями.
– Дада, если бы ты сказал: да или нет, я бы не поверила. Авраам не знал, что способен убить своего сына. До самого последнего мига терзался в сомнениях, колебался, но все-таки занес нож над Исааком и был готов пожертвовать сыном по одному слову Бога. Теперь я не сомневаюсь, что ты также ради меня пойдешь на все. Даже на кровосмешение.
– Нет, родная моя, никогда.
Но Мариам словно не услышала его возражение.
– Ой, дада, знал бы, как много зависело от твоего ответа. Я так рада. Так счастлива. Так горжусь тобою.
Мариам еще не говорила Элохиму, что Габри-Эл, сегодня дважды посетил ее во сне. Первый раз перед рассветом, когда они уснули под дубом. А потом, когда она одна спала в шатре. Сначала он ее обрадовал благой вестью, что она родит сына. Второй раз он ее сильно огорчил, предсказав ей их судьбу.
– Мариам, – сказал Габри-Эл, – у тебя родится сын. Теперь у тебя и сына возможны две участи. Одна из них – жизнь презренного мамзера. Сын вырастет и вечно будет попрекать и пилить тебя, превратит твою жизнь в сущий ад, и, в конце концов, сведет тебя преждевременно в могилу. И сам сдохнет, как собака на обочине дороги. Другая участь – это жизнь Спасителя. Его признает сам Эл Элйон как Своего Сына. Он станет Великим Царем Иудейским и Высшим Священником Эл Элйона. До последней йоты исполнится Великое Тайное Предсказание. Сын твой изменит жизнь на земле, внесет в мир Любовь. Выбор между этими судьбами теперь всецело зависит от Элохима, от силы его любви к тебе, от того насколько он оправдает смысл своего имени. Ибо Спаситель родится от величайшей любви на земле. В первом случае ты назовешь своего сына Пантерой, по имени римлянина со шрамом на лбу, ибо тот попытается изнасиловать тебя, и люди подумают, что это его сын. А во втором случае ты посвятишь сына Эл Элйону и назовешь его именем Имману-Эл.
На прощание Габри-Эл прошептал ей на ухо сокровенную Тайну Тайн Великого Тайного Предсказания Мелхиседека. И обязал Мариам открыть ее Элохиму лишь в том случае, если она не усомнится в нем.
– Дада, теперь я уверена. У меня будет сын.
Элохим смутился. Мариам вновь поставила его в неловкое положение.
– Не смущайся, дада. Надо радоваться. Ты не сделал ничего плохого.
– Адда, кровосмешение – жуткий грех.
– Жутко согрешил Адам.
– Да, я забыл, что Ева была дочерью Адама. Вот видишь, Бог не одобряет кровосмешение.
– Нет, не перед Богом он согрешил. Бог не так щепетилен, чтобы разозлиться из-за мелочей. Подумаешь, Адам всего лишь переспал с Евой! Нет, он согрешил перед жизнью, перед источником жизни, перед всеми растениями. Нельзя было ему срывать плоды с дерева познания. Знания он так и не получил, но зато уничтожил дерево познания. Оно засохло.
– Откуда знаешь? – удивился Элохим, услышав ее необычное толкование грехопадения.
– Знаю, – уверенно ответила Мариам, – единственный грех на этой земле – это грех против растений, источника жизни всех живых существ. Все остальное дозволено. Ты ведь не уничтожал и не повреждал никакого дерева. Ты дашь новую жизнь. Разве это грех, скажи?
– Жизнь мамзера? – грустно спросил Элохим как бы самого себя.
– Нет, Спасителя, – ответила Мариам.
Элохим не поверил. Неужели злая шутка повторяется?
– Адда, я чувствую себя глубоко виноватым.
– Ты ни в чем не виноват. Мы оба ни в чем не виноваты. Разве это наша вина, что мы любим только друг друга!?
– Нет, не наша.
– И ты будешь любить меня всегда?
– Да, родная!
Элохим прижал ее к себе. Она обняла его за шею.
– Лишь двоим дано знать Тайну Тайн, – прошептала Мариам. – Тебе и мне.
Элохим узнал слова, точь-в-точь произнесенные в свое время рабби Иссаххаром, и тут же побледнел. Даже в своем самом диком воображении он не мог бы допустить, что Мариам окажется той самой таинственной женщиной, о которой было сказано в Великом Тайном Предсказании Мелхиседека.
– Ее можно прошептать тебе только на ухо.
Мариам поднялась на цыпочках и дотянулась губами до его уха. Она шептала не долго, но то, что он услышал, превзошло все его ожидания. На какое-то время он лишился дара речи. Закрыв глаза, он крепко прижал ее к сердцу.
– Я наконец-то обрел Его! – промолвил Элохим.
– Да, дада. Теперь ты тоже Его знаешь. И больше не надо искать.
– Скорее бы выбраться из этой страны.
– Но еще остается убить римлянина.
– Какого римлянина? – удивился Элохим.
– У которого шрам на лбу.
109С той минуты, когда Сарамалла сказал, что у того иудея нет жены, а есть дочь, в Пантере, словно что-то вспыхнуло. Прежде он нападал на своих жертв, не задумываясь ни о чем. У него что-то замыкалось в сознании, как только кто-то возбуждал его. Видимый мир для него сужался. Он не мог видеть ничего, кроме того, что завораживало его взор, будь это большая грудь или полные бедра. Он шел на свою жертву как на манящую цель, едва обращая внимание на то, кто это: женщина, девочка или мальчик. И никогда в его голове даже не мелькала мысль, что все эти изнасилованные им женщины, девочки и мальчики могли бы быть чьими-то женами, дочерьми и сыновьями.
– Ни разу, кхе, не е*ал ни одну дочь. А ты как? Е*ал, чью-то, кхе, дочь? – спросил он с детской любознательностью Дворцового Шута после встречи с Сарамаллой.
Дворцовый Шут тогда, еще не догадавшись о ком речь, объяснил ему, как неразумному детине:
– Видишь ли, Пантера, одно дело, когда не знаешь ничего о женщине, чья она жена, чья мать, чья сестра или чья дочь. Совершенно другое дело, когда знаешь кто ее муж, кто ее брат, кто ее сын или же, кто ее отец. Очень острое ощущение. Сечешь разницу?
– Кхе-кхе, – неопределенно прокряхтел Пантера.
– Хорошо, скажу тебе иначе. У нас на Востоке нет ничего хуже для мужчины, чем узнать, что кто-то обесчестил твою сестру, мать, жену и, особенно, дочь.
– А их у меня, кхе, нету, – заржал Пантера.
– Не о тебе речь. А о мужчине вообще.
– А-а-а-а!
– Жуткое переживание! Мрак! Конец света! Такое ощущение, будто тебя самого поимели. Ты горишь одним желанием – мстить, мстить и мстить. Во-первых, уничтожить самого злодея, и во-вторых, ответно обесчестить всех его ближайших родственниц: мать, сестру, дочь. И вот что поразительно: насколько жутко чувствовать себя рогоносцем, настолько же сладостно самому наставлять рога другим мужчинам.
Пантера вновь заржал.
– Тебе сладостно от того, что опасно тр*хать чужую женщину. Мы получаем какое-то особое наслаждение, если знаем, что натягиваем именно чью жену или чью дочь. Увы, такова уж наша мерзкая мужская природа.
Слово «дочь» завораживало Пантеру. «Дочь» казалась ему каким-то таинственным созданием, отличным от «женщины». Слово «дочь» звучало загадочно, как нечто непорочное, маняще сладкое. Его воображение впервые было возбуждено не зримым образом, а одним словом: «ДОЧЬ».
Ему скорее захотелось увидеть, что скрывается за этим словом. Увидеть «того иудея с дочерью», разорвать при нем ее одежду, вцепиться ногтями в нее, процарапать до крови, продрать ее до изнеможения. Он настолько зациклился на своей новой страсти, что почти забыл, о чем его просил Сарамалла.
Теперь у Пантеры появилась новая цель. И он шел к ней как одержимый. Ничто больше не могло его остановить или свернуть с пути. Ему бы только увидеть иудея и его дочь. Что делать дальше – он знал. Остальное его не волновало.
Накануне Йом Кипура Пантере сказали, что он должен отправиться в Храм с тремя идумеями, где ему покажут «того иудея». Он потирал руки в предвкушении.
Перед Тройными воротами, пока идумеи рассматривали проходящую толпу, Пантера непрестанно теребил их, требовал, чтобы ему скорее показали «того иудея с дочерью». Но когда им это не удалось, он взбесился. Впервые он не получал немедленно того, чего хотел.
Вернувшись во Дворец, Пантера потребовал встречи с Сарамаллой. Ему сказали, что Сарамаллы нет во Дворце. Тогда он потребовал, чтобы его пустили к царю. Царь его не принял. Он тогда сказал стражникам, что никуда не уйдет пока не увидит царя.
Пришел Ахиабус в сопровождении десяти вооруженных галлов, и приказал ему убираться вон. Пантера сперва подчинился. Но ушел недалеко. Посередине царского двора он увильнул от галлов и как настоящая пантера забрался на дерево. Галлы не могли его видеть из-за темноты и уже собрались уходить, как внезапно услышали протяжный вой. Это Пантера выл во всю глотку.
– Снимите этого идиота, пока не разбудил царя! – приказал Ахиабус.
Один из галлов забрался на дерево. Через несколько минут галлы услышали тупой удар и крик, а потом увидели, как их собрат свалился с дерева и грохнулся на каменные плиты. Его быстро уволокли в сторону. Следом упала толстая ветка. Пантера издал победоносный клич и стал выть сильнее.
Звериный вой в ночной тишине отдавался во всех углах Крепости. Он звучал назойливо и противно. Царские жены и дети проснулись. Дворцовый люд засуетился повсюду. В окнах Августова и Агриппиева домов появились люди в ночных рубашках. Никто спросонок не соображал, что же стряслось.
Царь и без воя Пантеры не мог уснуть из-за болей в теле и голове. Он лежал в постели, зажав Гермо-альбо-карло между ног. Но с каждой минутой вой Пантеры становился все более невыносимым. Терпение у царя лопнуло. Он вызвал раба Симона и приказал «снять этого долбо*ба с дерева и заткнуть ему пасть».
Но Ахиабус не знал, как это сделать. Он только мог упрашивать, уговаривать и умолять Пантеру спуститься вниз. Пантера молча внимал его словам, но как только они прекращались, начинал выть с новой силой.
Так прошло несколько часов. У всех раскалывалась голова.
Перед рассветом вой внезапно прекратился. Наступила благодатная тишина. Но в ушах все еще отзывался голос Пантеры. Галлы обступили дерево, но не могли его видеть. С верхушки дерева до них доносились тяжелые стоны и вздохи.
– Что теперь это животное там делает? – недоуменно спросил Ахиабус.
– Не видно, – ответил один из галлов, – но кажется, др*чит себя.
А рядам стоящий галл потрогал свою голову, затем понюхал пальцы и брезгливо крикнул:
– Фу! Он слил на меня!
Галлы быстро отступили от дерева, но Пантере удалось все-таки обмочить кое-кого из них мощной струей мочи. Пантера заржал от удовольствия.
– Сволочь сс*т как лошадь, – процедил сквозь зубы Ахиабус.
Как только последние капли струи ударились о каменные плиты, галлы вновь обступили дерево. Но им не пришлось стоять там долго. В этот раз на их головы посыпались обломанные ветки. Галлы разбежались. Пантера воспользовался моментом, быстро слез с дерева и убежал к себе в Агриппиев дом.
Ахиабус не знал, как поступать дальше. Взять его или нет. Вскоре от царя поступило распоряжение оставить римлянина в покое. Все облегченно вздохнули и разошлись.
До полудня во Дворце было тихо. Люди отсыпались после кошмарной ночи. Даже стражники задремали на посту. В полдень в Царском дворе эхом раздались удары топора. Ахиабус выбежал во двор. Пантера рубил топором то самое дерево, на которое забрался ночью. А каменные плиты вокруг были испещрены фаллическими рисунками и большой латинской буквой «Р». Увидев Ахиабуса, Пантера убежал обратно в Агриппиев дом.
Как только царь проснулся, раб Симон доложил ему о случившемся, добавив, что в данную минуту Пантера крушит топором двери и окна в Агриппиевом доме. Царь немедленно повелел позвать Сарамаллу и Куспия Фадия, будущего римского прокуратора в Иудее.
Первым пришел Сарамалла.
– Что за долбо*ба ты навязал мне на шею. Крушит, рушит все на своем пути. Не давал спать всю ночь.
– Знаю, Родо, знаю.
Сарамалла явно жалел, что обратился к Пантере.
– Мне Элохим, на х*й, больше не нужен. Ни живым, ни мертвым. Сними только этого вредителя с моей шеи.
– Хорошо, Родо, нет базара.
Раб Симон доложил, что пришел римский посланник в Иудее.
Куспий Фадий был статным римлянином, с волнистыми волосами и орлиным носом и происходил из знатного эквестрианского рода[71]. Ему также все было известно. В этот день он ночевал в Агриппиевом доме и не мог не услышать вой Пантеры. Но решил не вмешиваться и, накрыв голову подушкой, проспал благополучно до утра.
– Куспий, где ты откопал этого зверя? – спросил царь с нескрываемым удивлением на лице.
– Пантера не зверь, а один из самых бесстрашных легионеров, – ответил римский посланник, слегка улыбнувшись.
– Но он крушит мой Дворец! Убери его отсюда!
– Увы, должен вас огорчить. Убрать его не зависит не от вас, не от меня. Все, что я могу сделать, это написать в Рим и известить Римского легата в Сирии.
– Выходит, царь иудейский бессилен перед рядовым римским легионером в собственном дворце. Так что ли? А!?
– Ну не совсем так, – сказал дипломатично Куспий Фадий. – Надо лишь соблюдать правила протокола. И…
Куспий Фадий не успел закончить свою фразу. В комнату влетел как угорелый раб Симон.
– Ваше Величество, Ваше Величество! Он спрыгнул в Женский двор.
– Что!!!? – царь в ярости вскочил с места. – Поймать его! Связать! Бросить, на х*й, львам!
Сарамалла и Куспий Фадий также встали.
– Должен напомнить, что кроме цезаря, сената и военного начальства, никто не вправе наказывать римского легионера, – сказал спокойно, но достаточно твердо Куспий Фадий.
– Ваше Величество, – вмешался Сарамалла, – я пойду и быстро все улажу.
Было неслыханно, чтобы чужие мужчины оказались в Женском дворе. Но не было иного выхода. Галльские телохранители ринулись в Женский двор и схватили Пантеру в тот момент, когда он около Красного Пентагона бросился на Роксану, малолетнюю царскую дочь. Его свалили на землю и крепко связали.
– Хочу дочь! Хочу дочь! Кхе! Е*аться хочу! – вопил диким голосом Пантера, пока галлы волокли его с Женского двора.
Царские жены закрыли уши своим детям. В гареме Пантера произвел большой переполох, всех напугал до смерти. Особенно царских дочерей. Гонялся то за одной, то за другой вокруг Красного Пентагона под душераздирающие крики женщин и детей.
Его притащили в домик Бедуинского раба. Там-то его и дожидался Сарамалла.
– Ты, сука, кхе, – огрызнулся Пантера, как только увидел Сарамаллу, – зачем обманул меня?
Галлы посадили его на стул и привязали к спинке. Сарамалла рукой указал всем выйти.
– Никто тебя не обманывал.
– Ты, сука, кхе, обещал, дать мне, кхе, дочь того иудея.
Сарамалла сразу смекнул, что Пантера истолковал его поручение по-своему.
– Успокойся. Ну не смогли вчера.
– Меня, кхе, не е*ет. Дай мне дочь!
– Откуда мне взять тебе дочь?
– Дай, кхе, свою дочь! – нагло потребовал Пантера.
– Нету у меня никакой дочери.
– Меня, кхе, не е*ет. Хочу е*ать дочь! Ни разу, кхе, не е*ал ни чью дочь!
– Как же!? Ты-то перетр*хал столько девиц! Все они были чьими-то дочерьми.
– Я, кхе, тогда не знал.
– Но получал же удовольствие?
Ответ Пантеры удивил Сарамаллу.
– Кхе, да, но не знал, кхе, тогда, что е*у чью-то дочь. Не знал, что получаю удовольствие.
– Тогда не знал, но теперь-то знаешь.
Пантера посмотрел на Сарамаллу как «баран на новые ворота», задумался, запутался в своих мыслях и вдруг взорвался.
– Дай мне, сука, дочь иудея!
– Хорошо, нет базара, ее покажут тебе, – ответил Сарамалла и поспешно вышел.
– Чего же он хочет? – спросил царь Сарамаллу, когда тот вернулся.