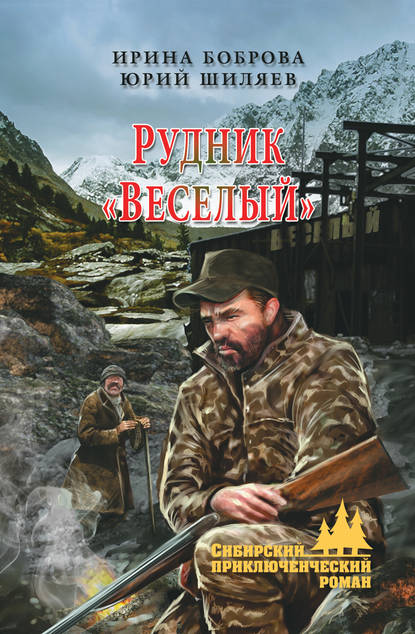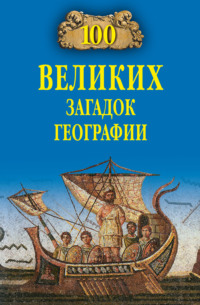Полная версия
Время дальних странствий
Поехали в Сокольники. У нас с Толей своих коньков не было – взяли напрокат. От большой круглой ледяной арены расходились лучами ледяные дорожки. Только что наступил Новый год, публики было сравнительно немного, в основном дети.
Угнаться за Мариной было невозможно, я кое-как ковылял ей вслед. Толя не смог сделать и одного круга. Упав раз, другой, он счёл за лучшее больше сидеть на льду, чем стоять на коньках. Вокруг него кружились дети, как вокруг ёлки.
После этого случая он некоторое время обижался на меня, заподозрив, что я, умея кататься на коньках, решил посмеяться над ним. Объяснение было другое: в отличие от него, я занимался спортом. Ноги были крепче и координация лучше.
Через несколько лет после памятного катания на коньках в Сокольниках мы с Мариной стали мужем и женой. Я переехал к ним в одноэтажную каменную постройку, в которой, как говорили, до революции была конюшня. Домик находился в глубине двора. Мастеровитый хозяин Сергей Николаевич Махов привёл его в порядок, оборудовал отличный подвал.
Толя оставался холостяком. У него была сестра Галя. Оказывается, она мне писала (но, вроде бы, не послала) письмо в экспедицию.
Интересней была его разношёрстная компания. У всех были прозвища, истоки которых я не знал: Абон, Гапон, Билли Бонс, Штанишка, Чиж, Сид… У Билли Бонса было внешнее сходство с пиратом из романа «Остров Сокровищ» (хотя больше бы подошёл Джон Сильвер): покалеченная нога и пояснение Толи, что это важный пахан, на которого было покушение. По-моему, в нём Толя с опаской и не без некоторого восторга видел нечто криминально-романтическое. Вскоре этот человек погиб при невыясненных обстоятельствах.
Сидом называли Исидора Хомского, младшего брата известного театрального режиссёра. Он тоже поступил в МГРИ из романтических соображений, но быстро понял, что в этой отрасли ему делать нечего. Поступил во ВГИК. Использовал свой способ «ловить бабочек». В парке Эрмитаж изображал юного невинного молодого человека. Внешне он напоминал блиставшего тогда «Фанфан-тюльпана» – артиста Жерара Филипа. Сид привлекал не слишком молодых дам, с которыми, по его словам, было особенно занятно…
Ему довелось быть помощником режиссёра Марлена Хуциева на съёмках фильма «Мне 20 лет» («Застава Ильича»). Насколько я понял из его откровений, в кино его более всего привлекала доступность красивых женщин. С Толей они обсуждали сюжет фильма, в котором главным героем будет юный цыган. Они воображали, как вечерами у костра он поёт цыганские песни… «А в маршруте, – добавил я, – пляшет «Цыганочку».
С его компанией у меня связана пренеприятнейшая история с участием КГБ. Но об этом расскажу в надлежащем месте подробнее. Возможно, это было связано с тем, что одним из давних приятелей Толи был Андрей Зализняк, лингвист, будущий академик РАН, знавший десятки языков. Как я предполагаю, такого уникума стала использовать наша разведслужба. Это версия, не более того. Не могу представить, по какой ещё причине могли компанией Толи заинтересоваться «компетентные органы».
Мне непонятно стремление некоторых людей знать несколько языков. Порой считают знание иностранного языка признаком культурного человека. По такому критерию я не имею отношения к культурному сообществу. Я – искатель смыслов. Хочу познавать Природу, человека, Бога, общество, Жизнь. Для этого достаточно знать русский язык.
…Толе хотелось быть цыганом. Он какое-то время работал осветителем в цыганском театре «Ромен». Деталей я не знаю. Один раз он привёл меня в театр на свой балкончик, откуда высвечивал сцену. Видно, в цыгане его не приняли.
Я никогда не видел его злым. Даже не представляю себе его в таком состоянии. Он, безусловно, был добрым человеком. И это замечательно. Но, как мне казалось (не знаю, насколько это верно) был трусоват. Что неудивительно, если учесть его слабое зрение и не особо крепкое здоровье. Почти отшельнический образ жизни на даче в Загорянке, который он выбрал для себя, позволял избегать конфликтов семейных и социальных.
Ему пришлось перейти на заочное отделение то ли Горного, то ли Нефтегазового института. Так он сделал по требованию матери. Она считала, что ему необходим диплом о высшем образовании. А у него без всякого диплома высшее образование было, только не по геологической специальности.
Иногда пишут, будто он участвовал в трудных экспедициях на Кавказе. Хотелось бы знать, кем и как он работал. В другом месте я прочёл, что его отчислили из МГРИ из-за какой-то подпольной студенческой газеты. Пишут, будто его отец – жертва политических репрессий. Это ложь. Да, его отца брали под стражу (за что, не пишут эти фальсификаторы) и отпустили за недоказанностью обвинения. После этого он стал доктором технических наук, профессором. Ничего себе – жертва!
Как горный инженер Толя никогда и нигде не работал. До получения диплома он числился в какой-то горной или геологической организации на Кавказе, которой руководил ученик его отца. Иначе ему не разрешили бы учиться заочно. Вот и всё.
Когда в 1957 году я проходил военные сборы в Мцыри, недалеко от Тбилиси, Толя в воскресенье приезжал ко мне с большой бутылкой белого вина. Мы устраивались в сторонке от лагеря и мило беседовали. Это было замечательно. Однажды он меня и ещё одного студента провёл по улице Руставели в Тбилиси. Мы посетили какой-то духан, где попробовали аджарские хачапури, пили вкусные воды Лагидзе.
То, что имя Анатолия Гелескула стало отчасти легендарным, это хорошо. Вот только не надо спекуляций и лжи, тем более, с политическим душком.
Меня Толя удивлял и огорчал тем, что он резко ограничивал своё творчество поэтическим переводом и отдельными эссе. Возможно, это было печальным следствием того, что я называю «комплексом отличного ученика». Я уверен, что он был способен на большее.
Ему крупно повезло: организовал свою жизнь по своим принципам. Это удаётся немногим. И ещё: во второй половине жизни он женился на Наталии Родионовне Малиновской, дочери маршала и Министра обороны СССР. Точнее, она вышла за него замуж. Она – филолог и культуролог, испанист – была очарована его переводами с испанского.
В последние годы жизни Толя тяжело болел. Сказывалось, в частности, что он был заядлым курильщиком. Благодаря жене его отлично лечили в госпитале. Он сильно ослаб, потерял зрение. Она ухаживала за ним, как сиделка, помогала переводить стихи (на слух), организовала издание его книг.
Толя относился к той небольшой категории людей, которых с полным основанием следует считать интеллигентами. Я называю так тех немногих, у кого духовные потребности преобладают над материальными.
Чтобы показать его стиль, мысли, интонации, приведу его письмо поэту и переводчику Давиду Самойлову.
Милый Давид Самойлович!
Вы будете смеяться, но я вернулся из Гранады. Прожил там неделю, питаясь кактусами (плодами, разумеется). Упомянутые плоды зреют у цыганских пещер и очень питательны; сам я жил не в пещерах – там сейчас дискотеки, – а рядом, буквально в двух шагах, на окраине старого города, мавританского до мозга костей: белизна, зной, отвесные улицы шириной в ладонь (моя называлась Cuestadecabras – «Козья тропа»), глухие стены, синие от солнца, а на стенах – изразцы с изречениями. Один мне так понравился, что мне его подарили: «Не спеши, ибо время не кончается».
Высоко над пещерами – Альгамбра (о ней молчу – это не восточный дворец, как на фотографиях, и вообще не архитектура, а замершая мысль. Принесла же нелёгкая христиан!). А ещё выше – вечные снега.
Что ещё? Дети на улицах здороваются – как в вологодской деревне, люди улыбаются – это здесь главное занятие. И когда улыбаются, становятся красивыми. Бутылка отличного вина стоит как пачка сигарет. Ни на то, ни на это денег у меня не было, но друзья не дали умереть от жажды. Но сейчас мне уже кажется, что я всё это придумал и привычно вру.
Вообще Андалузия немного похожа на Армению, только населённую украинцами (кроткими и, похоже, такими же упрямыми). Среди них вкраплены конопатые узбеки – это и есть знаменитые цыгане; какая в них кровь, не знаю, но только не цыганская. А цыганки, хитаны – те же хохлушки, но много толще (свидетельство в пользу упомянутых кактусов). Каков их родной язык, определить сложно, потому что андалузцы говорят еле ворочая языком, а цыгане вообще не ворочают.
Как ни странно, привыкаешь, и когда где-нибудь у пещерной дискотеки встречный стаскивает кепку и скорбно произносит несколько неопределённых гласных, каким-то шестым чувством улавливаешь смысл, что-нибудь вроде: «Когда нечего курить, мир выглядит иначе, сеньор, и хуже, чем он есть». Так здесь просят на выпивку (я, конечно, набирался опыта, да вряд ли пригодится). На одну такую тираду я для пробы ответил по-цыгански, что на счёт мира я согласен, да у самого нет ни гроша. Хитан страшно выпучил косые глаза, сказал: «Пардон, месье» и перешёл на французский. Я постыдно стушевался.
В Альгамбру я попал по приглашению Гранадского университета; приглашения были раньше, но как-то в меня не попадали (даже не знаю, кто по ним ездил), а это угодило. На самом деле, как я и думал, Гранадскому университету до меня такое же дело, как мне до него, а всё это устроили мои друзья. Лет десять мы не виделись, я даже не писал никому, чтоб душу не травить, думал – в преисподней встретимся. И вот – свиделись. Кто мог знать, что права человека до такого докатятся!
Кстати, рядом с Альгамброй, вплотную – не изгадить же нельзя – стоит препохабный модерновый дворец (какой-то миллиардер построил). Вот из него Чингиз Айтматов разглядел, что в Испании социализм. Скоро и коммунизм будет, потому что компатриотов наших тут перебывало изрядно, бродят по лавочкам и, матерясь, меняют крашеные ложки на средиземноморские кораллы. В местной газете я прочёл, что здесь недавно гастролировал известный русский переводчик «Цыганского романсеро» Похиляк – или Помелюк, забыл фамилию, он же корреспондент ТАСС (и читал доклады, шаромыжник. Платные, это уж как пить дать. На подобном фоне я выглядел даже прилично). Ещё две трогательные гранадские детали.
В Альбайсине (где я жил, в буквальном переводе – Сокольники) «Петя + Маша – любовь» на стенах изображается так: Pedro Сердечко Maria, а если любовь безответная, то сердце пронзается стрелой. И второе – в центре Гранады (каков город!) стоит памятник переводчику, довольно красивый. Поджарый мужчина вроде меня, в чалме и шлёпанцах, – и надпись: «Гранада – своему сыну, патриарху переводчику Иегуде ибн Тибону, врачу, философу…» Это же мавританский еврей в XII веке.
Побывал я и в Толедо. Он так же сказочен, как Альбайсин, но по-другому – мрачная, почти жестокая сказка. Но в Толедо есть Эль-Греко и две пленительные синагоги XIII века – синагога Успения Божьей Матери и синагога Божьей Матери Блондинки (так они называются, и я тут ни при чём, это дело христианских рук). Кстати, в Гранаде молодёжное поветрие – переходят на ислам. Девочкам очень идёт тюрбан и намёк на чадру. Новообразованных называют суфи…
…Самое лучшее, что есть в Испании (из того, что я успел раскусить) – это хлеб и человеческие отношения. С грустью понимаешь, как мы издерганы и злы. А хлеб был тоже грустным открытием. Я так люблю его, и, оказывается, всю жизнь ем что-то другое. И умру от несварения желудка. Либо разлития желчи.
А вообще народ вроде нашего – из-за угла мешком ударенный. Один пример. В Мадриде мы с Наташей (мы вместе ездили) жили у друга на самой окраине – дальше домов нет, пасутся овцы на плоских холмах, белеет цыганская деревенька и клубятся горы. Гвадаррама. Кастилия как таковая. Жили мы на углу Каспийского? и Антильского моря (в новостройках для удобства таксистов все улицы называются на один лад – у нас это были моря, от Чёрного до Жёлтого и т. д.). Сосед, приятный, седой, грузинского склада, кстати, таксист, спрашивает, нравится ли нам здесь и что именно. В общем, обычный разговор. Я искренне изображаю, что всё нравится. И он, как бы утешая меня: «Но в России тоже много интересного. Например… (тут я чуть не покачнулся)…Ломоносов». Оказывается, он помешан на Ломоносове, а вернее – на очень здравой мысли, что только настоящее детское образование может спасти наш грешный мир. А настоящее, оно только в России, свидетельством чему – Ломоносов. «И ПТУ», – добавил я про себя. И что бы Вы думали! На своём такси (здесь арендуют машины) он со своим другом, таким же стариком, не зная языка, покатил в Россию увидеть ломоносовские места. Уж не знаю, добрался ли он до Минска и какую кузькину мать ему показали. Из деликатности и сострадания я не стал его расспрашивать о подробностях.
Уже проникнувшись доверием, он спросил: «А что сейчас там у вас происходит? Почему все кричат? На нас кричат, друг на друга кричат, если никого нет – просто кричат». – «Ну, – сказал я, – русские народ молодой, темпераментный…» – «Как мы!» – расцвёл он в неотразимой испанской улыбке.
Давид Самойлович, не досадуйте на мою болтливость, ей-богу, она извинительна. Просто я засиделся в Загорянке, кровь застоялась. И рад, что разогнал её. А ещё – это испанское влияние. Испанцы совершенно не жестикулируют (именно это выдавало мою чужеземную суть), говорят негромко, но зато не смолкая. И пьют так же – понемногу, но зато непрерывно.
Я ведь пишу Вам по делу. В издательстве «Книга», кажется, запускается наконец-то «Конец трагедии». Вы эту Толину (Анатолия Якобсона) вещь знаете и, кажется, спорили с ним. Вы не согласились бы написать предисловие, вступление или что угодно, в той форме, какую выберете. Это было бы и прекрасно, и интересно. Я хочу спросить о том же Лидию Корнеевну, но убеждён, что она откажется – дел у неё много, а сил мало.
Крепко целую Вас и Галю! Кланяйтесь детям. Наташа также целует, почтительно, но нежно. Вечно Ваш
P.S. Слышали, что учудили грузины? Объявили Второе Крещение. Полезли в воду всей национальностью, от мала до велика, и крестились. Добро бы с перепою. Я ещё всё удивлялся – грузины такой кроткий и неподвижный народ. С места не сдвинешь, особенно если есть свежая зелень и начали тост говорить. Даже из-за стола выходить – неприлично, дозволяется только притвориться спящими и сползти под скатерть.
И вдруг куда-то движутся – толпами, племенами, то абхазцев усмиряют, то осетин. Что за муха укусила? А это у них, оказывается, крестовые походы!
Сравнительно поздно я узнал, что Толя был знаком с некоторыми диссидентами, возможно, дружил с ними. Не знаю, как ему, а мне они не нравились. Возможно, сказался такой случай.
Один из них, мерзковатый, жил примерно в 1960 году две-три недели у нас на Каланчёвке в домике во дворе. Мы куда-то уезжали, надо было у кого-то оставить двух боксёрок (собак). Толя рекомендовал мне этого типа. Когда мы вернулись, состояние собак было плохое (одна вскоре умерла), квартира была замусорена, в одном месте заблёвана. Пропали три мои книги, которые я оставил на столе: «Орфей. Всеобщая история религий» Рейнака, «Метаморфозы» Овидия с прекрасными иллюстрациями и ещё что-то не менее ценное. Появился (возможно, взамен) 1-й том Карамзина «Истории государства Российского» издания 1833 года.
Некоторое время спустя мне встретился этот хмырь в Библиотеке им. Ленина. Он шёл с какой-то женщиной, пожалуй, старше него. Я сказал ему, что надо возвращать ворованные книги, а вору в библиотеке делать нечего. Он зашипел на меня и постарался быстро исчезнуть вместе со спутницей.
Когда я встретил Толю, высказал ему своё возмущение. Он ответил, что с этим типом мало знаком, зато он теперь в Париже, женат на француженке и дискутирует с Солженицыным.
О недостатках Советского Союза, тем более, после Сталина, мне было известно, пожалуй, лучше, чем этим диссидентам. Ведь мне приходилось работать в разных регионах страны и со многими очень разными людьми. О политических свободах я не особенно беспокоился, понимая, что у нормальных людей не это главное в жизни.
В отличие от диссидентов, я был частью русского советского народа. А из них почти все были антирусскими и антисоветскими. Они (в отличие от Анатолия Якобсона, который в Израиле совершил самоубийство) прекрасно пристроились на Западе, да и в антисоветской России не прогадали.
Как честно признался поздно прозревший философ Александр Зиновьев: «Метили в коммунизм, а попали в Россию».
Повторю: Анатолий Гелескул остаётся для меня одним из подлинных и оригинальных русских интеллигентов. Редкая вымирающая разновидность человека разумного. Один из лучших в России поэтических переводчиков.
И тополя уходят –но след их озёрный светел.И тополя уходят –но нам оставляют ветер.И ветер умолкнет ночью,обряженный чёрным крепом.Но ветер оставит эхо,плывущее вниз по рекам.А мир светляков нахлынет –и прошлое в нём потонет.И крохотное сердечкораскроется на ладони[1].Глава 2. Южная Сибирь
Нет у меня ничего,Кроме трёх золотых листьев и посохаИз ясеня,Да немного земли на подошвах ног,Да немного вечера в моих волосах,Да бликов моря в зрачках.Анри де Ренье (перевод М. Волошина)Прежде, чем я второй раз попал в Сибирь, прошёл всего лишь год, но был он плотно наполнен событиями порой невероятными. Решалась моя дальнейшая судьба как геолога и как личности. Если бы мне не удалось преодолеть роковые трудности, которым я был обязан самому себе, не было бы не только этой книги, но и меня таким, каков я есть.
Остаться самим собой
Итак, меня вышибли из МГРИ. Ощутил себя неприкаянным, никчемным и никому не нужным. Меня ждали только на армейской службе. Я предпочёл отправиться куда-нибудь в экспедицию. Но это не удалось: полевой сезон начался давно. Оставаться в Москве было опасно. Однажды к нам домой заглянула милиция.
Избрал лучший вариант: проводить дни в Библиотеке имени Ленина (дом Пашкова), где никто меня искать не будет, а ночевать у знакомых. Уезжал в Монино к бабушке.
Я «косил» от армии не из боязни трудностей. В экспедициях было и трудней и опасней. Но пропустить три или четыре (в Морфлоте) года могло означать, что геологом вряд ли стану. А где-то служить или выполнять механическую работу я категорически не желал.
Учитывая своё положение тунеядца, обходился рублём в день и не пользовался транспортом. В библиотеке читал разную литературу, преимущественно по философии. Изучал стили писателей. Сделал вывод: настало время пользоваться разными стилями в зависимости от литературной задачи. Но звание писателя надо заслужить своей жизнью, трудом и знаниями значительно выше среднего уровня.
…Памятный март 1953-го. Смерть товарища Сталина я не осознал и не прочувствовал. Однако побывал у его гроба в Колонном зале Дома Союзов.
У меня с детства анархический склад характера. Ближе всех мне по душевному складу Пётр Алексеевич Кропоткин, не только анархист и коммунист, но учёный, путешественник-исследователь, философ.
Моё отношение к Вождю менялось по мере того, как я узнавал историю страны и набирал жизненный опыт. Восхваление Сталина мне не нравилось. Как будто, вознося его над всеми, этим унижали меня. Но в то время, по молодости лет, я не огорчался: взрослым виднее. Теперь я понимаю, что у некоторых людей такой культ вызывал злую зависть (скрытую от самих себя). Мол, я же лучше него! Такие индивиды стараются унизить его ниже своего уровня или вовсе втоптать в грязь.
Вообще славословия за некоторым пределом переходят в свою противоположность. (Из книги Фейхтвангера «Москва. 1937» я узнал, что Сталин это понимал.) В избытке восхвалений есть нечто лакейское, лицемерное. В официозе так, пожалуй, и было. Но большинство советских людей, в чём я со временем убедился, искренне любили Сталина.
В день его похорон я ещё оставался студентом и поехал в институт. Центр был оцеплен. Меня пропустили по студенческому билету (форма у нас была солидная, с погонами). Занятий не было.
У меня запрет пройти в Колонный зал пробудил желание попасть туда только из-за запрета. Дворами вышел к пустынной улице Горького, увидел двух мужчин, пробежавших во двор, в сторону Пушкинской улицы. Я бегом бросился за ними через улицу под милицейский свист.
Они полезли на высокий дом по пожарной лестнице. И я тоже. На высоте было страшновато, руки судорожно вцеплялись в холодные железные перекладины. Мы побежали, громыхая, по крышам. Снизу на нас кричали, но никто за нами не полез. Спустились во двор, выходящий на Пушкинскую, вошли в неширокий поток людей, идущих в Колонный зал.
Торжественности момента я не ощущал. Был доволен, что пробился сюда вопреки запрету. Вид мёртвых тел у меня вызывал тягостное чувство: как будто это имитация человека, горькая насмешка над ним, победа смерти над жизнью. А тут ещё скорбная музыка.
…С конца 1953 года я начал работать, встречал разных людей. Кому-то из пожилых, из трудящихся, а не служащих, я сказал, что с похоронами Сталина, с толпами, давкой и жертвами произошло что-то нелепое. Умер старый человек, а жизнь продолжается, вот о чём надо думать.
Он ответил, что я ничего не понял, и наше поколение ещё узнает на своей шкуре, что произошло. Так и вышло…
В годы социализма я работал как геолог, журналист, писатель с чувством страны и народа, которым я приношу пользу. Мой вклад был мал, но причастность к общему делу придавала смысл моей работе.
Многое из того, что происходило в ту пору, я не понимал, не мог понять, да и не пытался этого сделать. Таким я мог бы остаться на дальнейшую жизнь.
Говорят, история не терпит сослагательного наклонения. Иначе говоря – что случилось, то случилось. Мысль убогая. Но есть смысл провести умственный эксперимент. Что будет, если я в определённый момент поступил бы не так, как было в реальности?
У Софьи Ковалевской, математика и литератора, есть драма в двух частях «Борьба за счастье» (1887), где показано, как развивались события при одном и при другом поступке в определённый момент. И каждый из нас много раз осознанно или бессознательно делал такой выбор из нескольких вариантов.
Бытие давит на нас, заставляет прилаживаться к текущим обстоятельствам, поступать так, как проще и легче, как в подобных ситуациях поступает большинство. Короче, приспосабливаться к окружающей среде.
У нас есть возможность сознательно противостоять давлению среды, определять своё бытие. Зачем это делать? Зачем идти против течения? Зачем лезть в гору, если известно: умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт? (В последней экспедиции пренебрежение этим мудрым заветом едва не стоило мне жизни.)
На мой взгляд, так нужно делать, чтобы сохранить свою личность от внешнего давления. Потому что оно направлено прежде всего на интересы материальные (мы живём в Техносфере, искусственной среде, где приоритет за техникой, производством и потреблением). Для нормального человека этого слишком мало. Как я полагаю, у него должны быть ограниченные материальные и безграничные духовные потребности.
Впрочем, каждый выбирает то, что считает нужным. О себе могу сказать, что невольно жил по такому принципу. После изгнания из института и крещения Сибирью ждал меня ещё более жестокий удар судьбы. После него шансов оставаться самим собой, то есть таким, каким остаюсь до сих пор, было слишком мало.
Не знаю, внятно ли я рассуждаю. Судите сами: ведь каждый из нас в какие-то моменты мог иначе выбрать линию жизни. И стал бы не совсем тем, каким является сейчас.
Удар судьбы
Вернулся я из Забайкалья летом 1954 года, чтобы проситься обратно в МГРИ. Заработал за полгода 600 рублей. Оброс тёмно-каштановой бородой. Ехал из Читы в Москву в плацкартном вагоне, можно сказать, со всеми удобствами.
Прибыл на Казанский вокзал, рядом с домом на Каланчёвке, где мы жили. Поднялся на шестой этаж, позвонил в свою квартиру. Слышу перестук каблуков матери. Она приоткрыла дверь, закрытую на цепочку, взглянула на меня и резко захлопнула дверь. Каблуки выбили дробь, удаляясь. Вдруг тишина. Быстрое возвращение, распахнутая дверь… Я – дома!
С тех пор маме не нравилось, что я из экспедиций возвращался бородатым. Её испуг можно понять. Было лето 1954 года; по городам и весям разносились слухи о беспределе уголовников.
Нас, изгнанников, волновало совсем другое. Нас осталось человек десять-двенадцать. Кого-то забрали в армию, кто-то избрал другой институт.
Мы собрались у двери кабинета директора, ожидая аудиенции. Делились впечатлениями от проведённых месяцев. Выяснилось, что погиб один из нас, изгнанников, Ванадий Мартынов, как-то странно, пошёл через озеро, покрытое льдом, хотя ему это запретили, и провалился.
Вдруг невысокий тёмно-русый Коля, похожий на Сергея Есенина, вытащил из-за пазухи книжку Ивана Ефремова, грохнул её на пол, затоптал ногами и заголосил:
– Три тыщи метров!.. Сердце не мотор!.. Романтика чёртова!..
Мы опешили. Постарались его успокоить. Он показал своё темя, на котором белел клок седых волос. Рассказал о своих злоключениях.