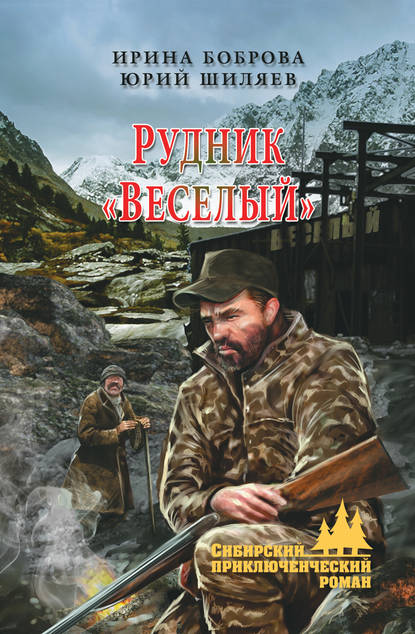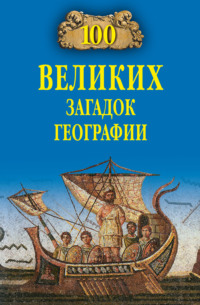Полная версия
Время дальних странствий

Рудольф Баландин
Время дальних странствий
© Баландин Р.К., 2023
© ООО «Издательство «Вече», 2023
Предисловие. Поиски сути и смысла
Бесплодна и горька наука дальних странствий.Сегодня, как вчера, до гробовой доски –Всё наше же лицо встречает нас в пространстве:Оазис ужаса в песчаности тоски.Шарль Бодлер «Плавание», перевод Марины Цветаевой
Эти стихи я привёл в одной из первых своих книг. Потом задумался: сказано о тех, кто путешествует для смены обстановки, в поисках новых впечатлений и приключений. Не обо мне.
Моя наука дальних странствий была порой горька, трудна и опасна, но не бесплодна ни в коей мере.
В пространстве путешествий видел я лик Природы и облик родной страны – России, Советского Союза. Наблюдал характеры и поступки людей, изменчивые под давлением обстоятельств. Работа геолога (на производстве, а не в научном учреждении) обтачивала мой характер, порой не без душевной и телесной боли.
Специалист видит по-своему мир и порой говорит на непонятном для непосвящённых языке. Любая профессия исподволь меняет наши жесты и походку, прорезает новые морщины на лбу и ладонях.
Вот и я с некоторых пор научился заглядывать – пусть и не очень зорко – в бездну прошлых веков, где, как в океане, с глубиной становится темнее. Земные недра для меня теперь не так уж темны, как прежде. Даже растения и животные, люди и машины предстают в новом, необычном качестве, и проясняется их смысл на Земле и во Вселенной.
Мне приоткрылся удивительный мир геологии. Я – искал приключений не в экспедициях, где надо избегать экстремальных ситуаций, а в познании природы, цивилизации, человека.
Удивительны не выдумки фантастов, искажающие реальность. Необычайна сама реальность – загадочная субстанция, которую всякий сознаёт в меру своей честности, своих знаний, ума и жизненного опыта.
Геологические экспедиции начались и завершились для меня в Сибири. О них я постараюсь рассказать без прикрас и выдумок. И без этого было немало неожиданного, а то и неправдоподобного.
Завершение «Плавания» Бодлера:
Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!Нам скучен этот край! О смерть, скорее в путь!Пусть небо и вода – куда черней чернила,Знай – тысячами солнц сияет наша грудь!Обманутым пловцам раскрой свои глубины!Мы жаждем, обозрев под солнцем всё, что есть,На дно твоё нырнуть – Ад или Рай – едино! –В неведомого глубь – чтоб новое обресть!Моё счастье – в обретении нового, проникновении умом в миры, где ещё не бывала мысль человека. Правда, иной раз выяснялось, что там уже кто-то побывал. Но это лишь радовало: значит, я на верном пути.
Приключений было немало. Открытий – неправдоподобно много. Не раз мог погибнуть. Мне повезло: дожил до солидных лет, хотя не надеялся дотянуть до пенсии.
Меня с юности тревожат вопросы: зачем я живу? Зачем люди живут? Есть ли в этом какой-то смысл? Зачем на Земле и во Вселенной человечество, наука, философия, религия, искусство? Зачем этот Мир?!
В Интернете нажатием клавиш получишь ответы. Без напряжения мысли. Без проникновения в суть.
Какое время – такие читатели. В первой половине XIX века в Англии публика увлекалась научными трудами геолога Чарлза Лайеля, а затем Чарлза Дарвина. В наше время такое невозможно.
Люди стали образованней? Как бы не так! Ныне читателю чужды прорывы в неведомую реальность.
…Эти мысли мешают мне писать. Привык воображать тех, к кому обращаюсь, с которыми духовное общение через книгу. Кто это теперь, и сколько их?
У меня была (завершаясь) личная жизнь: учёба, работа, влюблённости, женитьбы. Остаётся сверхличная жизнь. Она продлится некоторое время и после моей смерти. Она связана с моей работой как геолога и с моими усилиями в познании бытия.
Глава 1. Крещение Сибирью
Ты говоришь, что ещё не совсем созрел. Чего же ты дожидаешься? Пока не сгниёшь?
Жюль РенарЖутким транспортом – в Сибирь
В ноябре 1953 года мне посчастливилось найти работу. В такое время экспедиции, вернувшись на базы, сокращают рабочих. До следующего летнего сезона далеко. Только тогда появится нужда в помощниках, которые часто вербуются из студентов-геологов.
Куда ни придёшь, после недолгой беседы вежливо выпроваживают. Назначают свидание весной, когда геологи, как перелётные птицы, собираются в стаи перед дальней дорогой.
Мой хороший знакомый старшекурсник Юра Алешко (мы играли в одной баскетбольной команде) посоветовал мне обратиться в одну из партий ГИНа (Геологического института АН СССР), где, по его сведениям, требуется рабсила.
В ГИН я пришёл рано утром и приткнулся в углу вестибюля. Оттаивал с мороза и наблюдал геологов. Двери открывались, вкатывались клубы морозного пара и, словно кристаллизуясь, появлялись люди, мало похожие на суровых землепроходцев и отважных покорителей недр. Портфели и шапки, пиджаки и модные ботинки, ровные проборы и какие-то по-домашнему розовые плеши, гладко выбритые лица, пиджаки… Много женщин: старых и молодых, нарядных и неказистых на вид.
Это – геологи? Чем отличаются они от канцеляристов, заводских рабочих, инженеров? Где волевые челюсти, суровые брови, стальные плечи, твёрдая поступь, оленьи унты и куртки на волчьем меху?
Работник требовался в Забайкальской партии. Там меня стали стращать предстоящими трудностями: придётся отправиться в Читу вместе с грузом отряда зимой самым жутким транспортом – в автомашине на железнодорожной платформе. Я был согласен на всё. Осведомились, есть ли у меня допуск к секретным документам.
Допуск у меня был, причём по первой высшей форме ОВ (особой важности), потому что наши группы геофизиков нацеливали на поиски и разведку радиоактивного сырья. В первом отделе МГРИ (Московского геологоразведочного института), из которого меня отчислили, мне, как это ни странно, выдали такой допуск.
У меня оказалось два начальника: молодой – Анатолий Александрович, повзрослее – Сергей Иванович.
До отъезда мне поручили выписать в таблицу кое-какие сведения о забайкальских месторождениях молибдена, вольфрама и олова.
Странные названия – Борзя, Ципикан, Баргузин, Шерлова гора – уводили меня прочь из этой тусклой и пыльной комнаты, заставленной шкафами, ящиками и книгами, – в таёжные буреломы, на берега затерянных рек, опечатанные следами медведей и оленей…
В Забайкалье обилие гранитов и связанных с ними полезных ископаемых. Мне пришлось поближе познакомиться с этими горными породами.
Граниты рождены магмой. Магма поднимается из глубин. Она раскалена и подвижна. Вырываясь из подземелья, она ищет слабые слои и трещины, разрывает их, переплавляет породы, выпускает в разломы перегретые газы и пар, вспучивая земную поверхность.
Дерево пускает корни сверху вниз, магма тянется вверх, сквозь земную кору, к свету. Но пробиться ей не всегда удаётся. И тогда она, исчерпав свою силу и жар, постепенно остывает. И наконец, каменеет.
Из глубин Земли я вновь возвращался в полутёмную комнату, ощущая особенный сухой и чуть пряный запах каменной пыли от образцов, лежащих в бумажных пакетах на столе и в шкафах, в ящиках и на полу.
Анатолий Александрович объяснил мне, что с гранитами не всё так просто. Возможно, они произошли из переплавленных в недрах земной коры осадочных пород. А мне казалось, что их давно уже изучили досконально. Прошло много лет, пока я понял: чем человек меньше знает, тем меньше сомневается.
Пришла пора готовиться к отъезду.
– Ну, брат, для того геологу и трудности, чтоб их превозмогать, – весело сказал Анатолий Александрович, подводя меня к высокому лобастому автомобилю ГАЗ-63, кузов которого был оборудован фанерой на манер кибитки кочевников.
Меня представили степенному шофёру Николаю Николаевичу, с которым суждено мне было коротать в кибитке неблизкий путь до Читы.
Стоял январь. Ноги мои в тесных ботинках озябли. Я постукивал ими, приплясывая и не чувствуя пальцев. Мне казалось, что вместо ступней у меня копыта.
Николай Николаевич взглянул на меня и мрачно сказал:
– Лишняя забота в дороге.
Внешность моя не внушала ему уважения.
– На безрыбье и рак рыба, – успокоил его Сергей Иванович.
Мы поехали на склад и стали грузить снаряжение нашего отряда. Шофёр покуривал в сторонке. Работали мы трое.
Вскоре от меня пар валил. Я старался показать свой энтузиазм, перетаскивая мешки, баулы, деревянные ящики, вьючные короба и множество других тяжёлых и лёгких вещей. Не прошло и двух часов, как заполнилась вся кибитка до потолка.
Шофёр посмотрел сначала в кузов, затем на небо, сплюнул и сказал:
– Езжайте там сами!
Пришлось перегружать машину. Сергей Иванович лично уплотнял груз. Вылез из кибитки красный, как из бани. Николай Николаевич, оглядев внутренность кибитки, пробурчал:
– В гробу и то просторней.
В кибитке чернела плоская низкая нора под самой крышей и оставалась крохотная площадка перед дверью, где впору было примоститься только примусу.
После долгих пререканий и уговоров сошлись на добавочной оплате Николаю Николаевичу и на литре спирта, как было сказано, для техники безопасности.
Телогрейками, ватными брюками и кусками кошмы из верблюжьей шерсти мы с шофером оббили потолок кибитки. К дверце приспособили кусок кошмы, оставив небольшое стеклянное окошко.
Вечером на товарной станции Лихоборы мы поставили ГАЗ на платформу, застопорили колёса деревянными колодками и, ожидая отправления, завалились в свою берлогу.
Мы были тяжелы и неуклюжи, как медведи: полушубки поверх телогреек, ватные брюки, валенки.
В тесной тёмной норе, кряхтя и чертыхаясь, мы долго и трудно вползали в спальные мешки, как дождевые черви в землю. А когда вползли, Николай Николаевич философски изрёк:
– Всякое неудобство человек перетерпит. Не помирать же!
По случаю отъезда мы выпили спирта, запили водой, закусили специфической сырной колбасой. Спирт мы привезли в Читу с ничтожными потерями.
Из дневника 1954 г.
23 февраля. Первый день.
Утром второй раз простился дома. Поехал в Лихоборы. Весь день пришлось пробыть там. Переночевали. С утра сидели в товарной конторе. Тепло. Люди приходят и уходят, разговор продолжается. Говорят больше об Алтае. Молодёжь с соседнего завода и некоторые из железнодорожников едут туда. Об Алтае никто толком сказать ничего не может. Каждый рассказывает о тех местах, где был сам: об уссурийской тайге, сибирских болотах, казахских степях.
К вечеру подали платформу. Заезжать на неё было неудобно. Крутились долго, мы кричали и советовали, шофёр потел, дело двигалось плохо. Наконец, сломали борт, а затем встали на платформе. Теперь можно ехать. Залезли в кузов. Холод собачий, тесно. Подвесили фонарь, разложили колбасу, хлеб (всё замороженное). Налили грамм по 100 спирта. Выпили за отъезд. Но после этого отнюдь не поехали, а пошли в контору отоспаться в тепле.
К 11 часам подали паровоз. Отъехали от станции. Спать приходится, залезая в спальный мешок в ватнике и шапке, а сверху с головой укрываться шубой. Когда начинаешь задыхаться, немножко приподнимешь её, и сразу становится прохладнее. В кибитке, наверное, градусов 20 мороза, так что на жару жаловаться не приходится. Едим по-поросячьи, в остальном – аналогично. Где и как только не живут люди! На севере в тундрах и тайге, в горах, на болотах, в пустынях и даже в таких кибитках, как наша. Живуч человек!
Пишу карандашом: чернила в ручке замёрзли. Вода и квас превращаются в один продукт – лёд. Утром 24-го вылезли греться на улицу. Днём рискнули зажечь примус. Первый час сидели в дыму, второй час – в тепле. Вскипятили воду. Выпили чай. Дым остался, тепла нет.
Сейчас вынул зеркало и посмотрел в него. Себя узнал. Николай тоже посмотрел в зеркало и тоже узнал себя. Сказал, что через недельку это пройдёт. Я с ним согласен. На станции я говорил по телефону с домом. Сказал, что всё хорошо. Мать советовала следить за чернилами, чтобы не пролились. Ответил, что этого опасаться не приходится. Но не сказал, по какой причине.
…Открыв глаза, я ничего не увидел, будто и не открывал их. Мой нос, торчащий из спального мешка, замёрз. Кибитка покачивалась, стучали колёса, где-то вблизи истошно вопил паровоз, пахло гарью. Возле меня шевелился Николай Николаевич. Он сказал глухо, как из-под земли:
– Вставай. Утро.
Я не торопился покидать уютную нору. Николай Николаевич тоже не спешил. Первым, однако, не выдержал он и, обиженно сопя, стал выбираться из мешка, одновременно натягивая ушанку, телогрейку, полушубок…
Так начинались первые из двадцати утр нашей поездки. Я был терпеливее своего спутника и выползал наружу обычно после того, как он разжигал примус и в кибитке становилось теплее.
Этот свой манёвр я не считал вполне честным. Успокаивался тем, что у Николая Николаевича мешок особо тёплый – из собачьей шерсти, а у меня – простой, ватный. И разве я виноват, что мой «ночной пузырь», как выражалась моя младшая сестра Люся, крепче, чем у соседа?
Легко найти оправдание любому своему поступку.
Я бегал на остановках за кипятком и помогал варить похлёбки (сам варить не умел). Мыть посуду не приходилось: мы ели из одной кастрюли и готовили следующее блюдо лишь после того, как съедали предыдущее. Хлопот было мало. Главное – не замерзнуть в лютый сибирский январь.
Еду варили на примусе, в полутьме (маленькое оконце в двери, где у входа мы сидели). Примус неустойчив, когда на нём стоит кастрюля с водой, а вагон раскачивается и дрожит сильной дрожью. Поэтому старались варить еду на стоянках. Они продолжались неопределённое время. Порой закипит вода – и вдруг издали гудок и лязг, стремительно приближающийся. Не всегда успеешь схватить кастрюлю, как вагон дёрнется, да так, что порой едва усидишь.
Однажды примус вспыхнул, огонь брызнул вверх, искры пошли по кошме. Хорошо, что нас он не опалил. Небольшие очаги огня мы быстро потушили. К счастью, так было лишь один раз.
Двадцать суток вдвоём в тесной, тёмной и морозной конуре очень утомительно. За это время мы не раз поругались и помирились, переговорили обо всём. Сначала беседовали охотно. Иногда я заводил разговор о природе, Боге, загадках Мироздания, осторожно затрагивал политические темы. Он уклонялся от споров:
– На это у Маркса и Ленина всё сказано.
– Почему вы думаете, что они не могли ошибаться?
– Они ж выродки.
– Это как?
– А так. Такие рождаются раз в сто лет.
Я пытался понять, почему он так думает. Вразумительного ответа не получил. Он имел обыкновение высказывать своё мнение по какому-нибудь вопросу, но объяснить его толком не мог. Это бывает с людьми разными, не обязательно глупыми, но непременно удовлетворёнными своими знаниями, обычно не слишком обширными.
С тех пор от разных людей доводилось мне слышать нечто подобное, когда речь заходила о выдающихся личностях: гении, мол, и этим всё сказано. Но почему одни гении, а другие – нет? Ответ: у них голова так устроена, то ли серых клеточек много, то ли извилин в мозгу. Меня такие объяснения не устраивали.
Много лет я выяснял эту проблему, читал книги, статьи, писал о выдающихся мыслителях. В общем виде ответ прост: все мы рождаемся гениями, а не гениями становимся по воле своей и обстоятельств.
Итак, мы с Николаем Николаевичем коротали непростые дни и ночи на платформе товарных составов, которые, меняясь, продвигали нас всё ближе к Чите, сквозь мороз и ветер.
Со временем каждый стал капризней и обидчивей. Он, вдобавок, обижался на меня за то, что чаще всего ему приходилось первым вставать и раскочегаривать примус.
Мне надо было бегать за водой. Задача непростая. Товарные составы редко останавливались возле станции. И неизвестно, сколько времени продлится остановка.
Запомнился небольшой вокзал. Вошёл, огляделся. На стенах портреты классиков. Прочёл: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста». Ушёл в глубокой задумчивости.
Однажды в нашем составе оказались платформы с военным грузом. Там была теплушка с солдатами. Я часто гостил у них в тепле и уюте. Николай Николаевич кузова не покидал и, пожалуй, завидовал мне.
…В Новосибирск прибыли вечером. Состав наш встал недалеко от пассажирского вокзала. Я направился к нему, перешагивая через рельсы.
Притворяя трёхметровую входную дверь, рассчитанную на таких великанов, которые не только в Сибири, но и нигде не водятся, я в кровь защемил ею палец и сорвал ноготь. Тотчас для меня исчезли все красоты вестибюля, обширных залов, колонн и лестниц. Всё заслонила боль. Туго затянув палец платком, еле сдерживая слёзы, я слонялся по вокзалу, проглотил пирожок с повидлом, послал матери бодрую, как предпраздничный рапорт, телеграмму, и отправился восвояси.
Спотыкаясь о рельсы, побрёл я к своей кибитке… И не увидел её! Нашего состава не было.
Я бросился в другую сторону. Мимо бесшумно, как в кошмаре, проскользнул одинокий вагон. От мороза в глазах набухали слезы, и огоньки станции лучились, расплывались и расцветали радугами.
Мне стало тоскливо и зябко среди блестящих, как лезвия ножей, рельсов; среди огромной безлюдной станции, запорошённой снегом. У меня не было при себе ни документов, ни денег. К тому же меня предупредили, что еду без ведома железнодорожников, то есть «зайцем».
Больше часа я бродил среди вагонов и составов, переходя порой на бег, чтобы согреться и держа ноющую руку осторожно, как младенца.
Какое было счастье увидеть родную кибитку! Я взвыл от восторга и бросился к ней.
Там гудел огнедышащий примус, булькал закипевший чайник и ждал меня Николай Николаевич. Я протиснулся в тёплый наш домик, едва не опрокинув примус, достал пирожки, купленные на вокзале, стянул полушубок и чуть было не прослезился от умиления. Подумать только: на этой налитой морозом пустынной станции такое прекрасное жилище и такой заботливый спутник!
Недаром говорится: чтобы узнать цену чему-нибудь, надо это потерять.
После Новосибирска я начал было подниматься утром первым. Но уже на второй раз Николай Николаевич, слыша, как я мучаюсь с примусом (мешал повреждённый палец), сказал:
– Ну, отдежурил, и ладно. Инвалид.
Теперь он всегда распалял примус и разогревал заледеневшие за ночь похлебку и чай.
Плоские низины Западной Сибири стали как бы коробиться. Словно великан тяжело прошёлся здесь, вдавливаясь и вспучивая землю. Начались сопки. Они становились всё выше и круче, вытягиваясь хребтами. Горы были запорошены снегом, и чёрные гряды гребней напоминали рёбра.
Наш состав тянули два паровоза. Мы приближались к Байкалу.
Я захватил две книжки об этом озере. Стояли солнечные дни. Я забирался в кабину автомобиля, которую нагревали солнце и моё дыхание до пяти или десяти градусов мороза.
С особым удовольствием перечитывал я первые описания озера, ощущая на губах сладость старинной русской речи:
«Лежит Байкал, что в чаше, окружён каменными горами будто стенами и нигде же не отдыхает и не течёт, опричь того, что из него течёт Ангара-река…»
Миновали Иркутск. Вечерело. Из-за сопок открылась багровая Луна, словно ссадина на небе. Своими очертаниями она напоминала Байкал.
Я стоял на платформе, прижавшись к борту машины. Морозный ветер полосовал лицо.
Луна утонула в облаке. Стало темно. Справа торчали чёрные скалы. Слева, за обрывом, угадывалась просторная низина.
Состав врезался в тоннель. Гулко загремели колеса и буфера. Вой паровозов ударил в уши, дым сдавил горло…
Вынырнули из туннеля. Отдышался. Справа по-прежнему скалы. Слева вверху вспорол облака острый серп Луны. Низина под нами замерцала и…
Вновь туннель, грохот, гарь…
И так из туннеля в туннель, ночью, в пробиваемом ветром полушубке, со слезами, замерзающими на ресницах, мчался я мимо Байкала, безнадёжно вглядываясь туда, где за изменчивым пологом тумана скрывалось самое замечательное озеро в мире.
Угрюм-река
В начале марта мы прибыли в Читу. Для нашего отряда на окраине города было арендовано помещение в деревянном доме. Во дворе поставили машину и отправились в баню.
Там выяснилось, что у нас нежно-белого света кисти рук. Всё остальное тело было смуглым, как тело шахтёра, вылезшего из забоя.
Запись в тетрадке.
Чита (20 дней спустя).
Прибыли в день выборов. Первым делом – в баню. Там убедились, что телом более смахиваем на негров. Только кисти рук белые и холёные. Это потому, что они служили нам, кроме ложек, столовыми приборами.
Здесь есть улицы: Подгонная, Лесная, Песчаная. Таких названий достойны многие местные улицы. Нет названия «Пыльная» возможно потому, что все улицы такие. Часть Читы называется Островом. Причина этого не разгадана. Тайна ждёт неутомимых исследователей: географов, океанологов, геологов, психологов (практически, достаточно только последних). Впрочем, только физически развитый человек способен переплюнуть реку Читинку.
Можно считать Читу курортным городом. Этому способствует сухой климат и обилие грязи, целебные свойства которой ещё недостаточно изучены. Чита – город контрастов. Наряду с шаткими деревянными двухэтажными домами тут имеются добротные одноэтажные деревянные избы. А если бы зацвели все читинские деревья, которые пошли на постройку домов, был бы это самый лесообильный город мира, исключая Монино. Интересно сравнить эти два города.
В Монино есть высотное здание, превышающее любую постройку Читы. Оно подобно Эйфелевой башне, и в простонародье зовётся Водонапорной. Зато в Монино нет площади, ресторана, забегаловок и вытрезвителей, и взрослому населению негде проводить свой досуг. Милиции в Монино тоже нет, зато есть порядок, в отличие от Читы. Кроме того, есть в Монино водопровод и канализация, чем обделена значительная часть Читы.
Говорят, надо сочетать умственный труд с физическим. В Чите я их сочетал. Главная работа – сидеть в Геологическом управлении, изучая отчёты разных экспедиций и выписывая из них всё, что относилось к редким металлам, делая выкопировки. Отчёты были толстые, многотомные, совершенно секретные.
По стилю геологический отчёт заметно отличается от художественных сочинений. Многие из них были насыщены цифрами и графиками, смысл которых был для меня смутен. Путался я в бесконечных схемах, картах, чертежах и разрезах, как щенок в незнакомой квартире.
Нечего сказать: приехал за тридевять земель в Забайкалье, чтоб киснуть в четырёх стенах! До обеда, как говорится, борешься с голодом, а после обеда – со сном.
Временами прибывало из Москвы снаряжение. Его требовалось перевозить со станции на склад. Тут уж не задремлешь!
Мне нравилось угадывать характер каждой вещи, прилаживаться к ней, соразмеряя свои усилия с её формой и весом. Тяжёлые мешки перекидывать через плечо, как кувыркают своих противников бравые киногерои. Ящики переносить, прижимая к животу, от чего ноги идут вразброс, как у конькобежца.
Часть снаряжения следовало переправить на север, в поселок Ципикан, где находилась база одного нашего отряда.
Выехали 5 апреля, утром. Ворчал наш ГАЗ-63, взбираясь на пологие сопки. Ворчал и Николай Николаевич:
– Полтыщи километров… А если что? Сезон кончился. В эту пору только дураки ездят.
Мы ехали именно в эту пору. И ругали начальников. Так уж положено. С ними от этого ничего не случится, а нам облегчение. Говорят, на японских фабриках ставят резиновые чучела хозяев. Обиженные рабочие могут бить их (чучела) палкой. Вот и мы как бы били чучела своих начальников.
Сопки вдали были светлые, с чёрными каёмками, будто вырезанные из картона. Приближаясь, они медленно поворачивались, открывая затенённые склоны, и становились выпуклыми.
Шоссе стало петлять, поднимаясь на Яблоновый хребет. Неожиданно стемнело. Через дорогу наискось заструилась позёмка. Началась пурга. Снежинки, словно притягиваясь к машине, липли к стеклу.
Снежный хоровод то и дело сбивал нас в кювет.
За день проехали совсем немного. Заночевали в селе Романовке, со всеми удобствами, в просторной деревянной комнате. До поздней ночи стучало домино, всплывали к потолку клубы папиросного дыма и хохотали на скрипящих кроватях заезжие шоферы, развлекаясь анекдотами.
За Романовкой свернули на запад и спустились на Угрюм-реку – Витим, как на широкое заснеженное шоссе. За зиму машины накатали здесь гладкие колеи.
Грузовик скользил по льду, изредка подскакивая на трещинах.
Повсюду сутулились сопки, усыпанные, как иголками, хилыми лиственницами. Ветер сметал снег с обрывов. В излучинах поблескивал лёд, и у машины заносило задние колеса. Плавание!
Застывшая река текла и текла навстречу. Редкие, чернеющие над обрывами зимовья спокойно провожали нас узкими щелями окон. Мотор гудел по-домашнему, как примус. В кабине было уютно и скучно.