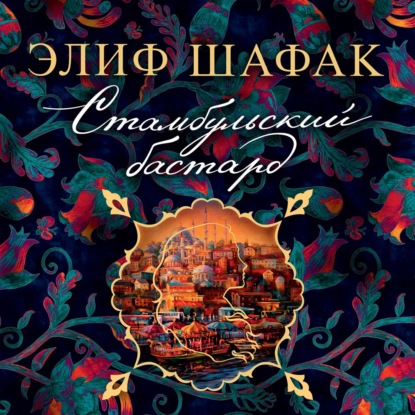Полная версия
Дом на берегу
Прямо подо мной, там, где в моем времени был обрыв и внизу железная дорога, простирался гораздо более отлогий склон, и посередине его проходила широкая дорога, ведущая к морскому рукаву, прямо к причалу, возле которого на якоре стояли суда. В этой части залив был достаточно глубоким и образовывал естественную гавань. В центре фарватера стоял большой корабль с приспущенными парусами. С его борта доносилось пение. Затем я увидел, как от него отчалила небольшая шлюпка, – видимо, чтобы доставить кого-то на берег. Человек в шлюпке поднял руку, требуя внимания, и пение тут же прекратилось. Я осмотрелся: живой изгороди не было и в помине, склон у меня за спиной порос густым лесом, как и тот, что напротив, а слева, где только что росли кусты и утесник, теперь тянулась длинная каменная стена. За ней, в глубине, стоял дом – из-за деревьев выглядывала верхушка его крыши. От причала наверх, к дому, вилась тропа.
Я подошел ближе к краю и посмотрел вниз: человек вылез из шлюпки на причал и начал взбираться по тропе, направляясь прямо ко мне. Снова закуковала кукушка – вот она пролетела низко над землей. Человек остановился, поднял голову и проводил ее взглядом, заодно переводя дух после быстрого подъема. Все его действия были такими естественными и обыденными, что, сам не знаю почему, я сразу проникся к нему симпатией, – впрочем, может быть, именно потому, что он-то как раз и был живым, а я лишь неким призраком из другого времени. Интересно, что всякий раз я попадал в новый временной отрезок: вчера была осень, Мартынов день, а сегодня, судя по кукушке и цветущим примулам, настоящая весна.
Он поднимался все выше и был уже довольно близко, и тут я сообразил, кто это, хотя выражение его лица было гораздо серьезней, я бы сказал, мрачней, чем вчера. Мне подумалось, что лица этих людей из прошлого, словно карты из потрепанной пасьянсной колоды – трефы, черви и пики: как ни тасуй, все равно заранее не угадаешь, какая выйдет комбинация. Ни мне, ни им самим не ведомо, как сложится игра.
Это был Отто Бодруган, за ним следом карабкался его сын Генри, и, когда Отто в знак приветствия поднял руку, я тоже инстинктивно махнул рукой в ответ и даже улыбнулся. Конечно, мой жест не имел ни малейшего смысла – отец и сын, чуть не задев меня, проследовали к воротам дома, откуда им навстречу вышел управляющий Роджер. Он, вероятно, стоял там давно, наблюдая, как они приближаются, но я не видел его. Ничего общего с царившей вчера праздничной атмосферой, никакой насмешливой улыбки на лице вчерашнего претендента на роль любовного посредника. Все трое были одеты в темные туники, и все были одинаково серьезны и собранны.
– Что нового? – спросил Бодруган.
Роджер покачал головой:
– Он быстро угасает. Надежды почти никакой. Моя госпожа, Джоанна, и вся семья в доме. Из Бера приехал сэр Уильям Феррерс с супругой Матильдой. Сэр Генри не испытывает страданий, мы позаботились об этом, – вернее, мы должны благодарить за это брата Жана, который не отходит от постели больного ни днем ни ночью.
– Но все же что с ним?
– Ничего нового, просто общая слабость да простуда, которую он подхватил во время последних заморозков. Он бредит, говорит о своих страшных грехах и просит его простить. Приходский священник исповедовал его, но этого ему показалось недостаточно, и он настоял, чтобы его еще исповедовал и брат Жан.
Роджер отошел в сторону, пропуская Бодругана и его сына в ворота. Теперь можно было как следует разглядеть дом: сложенный из камня, с черепичной крышей, он стоял в глубине двора. В покои второго этажа вела наружная лестница – такие лестницы в наше время используют в фермерских амбарах. За домом находилась конюшня, и за каменной оградой, извиваясь, бежала вверх дорога на Тайуордрет – там, в крытых соломой жилищах, обитали крестьяне, те, кто обрабатывал все эти земли по обеим сторонам дороги.
При нашем приближении во двор с лаем выбежали собаки, но Роджер прикрикнул на них, и они, поджав уши, приникли к земле; из-за дома вышел слуга с испуганным выражением лица и увел их. Бодруган и его сын Генри в сопровождении Роджера прошли через двор к дому, а я, как тень, неотступно следовал за ними. Мы вошли в длинный, во всю ширину дома, зал со створчатыми окошками по обеим сторонам, на восточной стене они выходили во двор, на западной – прямо на залив. В дальнем конце зала был открытый очаг, в котором едва тлел уложенный горкой торф, а поперек зала стоял стол и вдоль него – скамьи. Зал был очень темный, отчасти из-за маленьких окон и висевшего в воздухе чада, а отчасти из-за красного цвета стен, придававшего этому помещению торжественный, но мрачноватый вид.
На скамьях, сгорбившись, сидели дети: два мальчика и девочка. Судя по их позам и понурому, подавленному виду, они не столько были удручены горем, сколько растеряны и напуганы близостью смерти. Я узнал старшего – это был Уильям Шампернун, которого представляли епископу. Он встал и первым подошел к дяде и двоюродному брату поздороваться. После некоторого замешательства его примеру последовали и двое младших детей. Отто Бодруган наклонился и обнял всех троих. Затем, как это делают все нормальные дети, когда в напряженную минуту внезапно появляется кто-то из взрослых, они воспользовались случаем, чтобы покинуть комнату, и заодно увели с собой кузена Генри.
Теперь у меня появилась возможность рассмотреть остальных присутствующих. Двоих, мужчину и женщину, я никогда прежде не видел: мужчина светловолосый, с бородой, а женщина тучная, выражение ее лица было крайне неприветливым и ясно говорило, что с ней шутки плохи. Она заранее оделась в траур, готовясь к печальному исходу: белое покрывало на голове и черное платье. По всей видимости, это были сэр Уильям Феррерс, который, как сказал Роджер, поспешно прибыл из Девона, и его жена Матильда. Ну а третью персону я узнал без труда – на низком табурете передо мной сидела моя Изольда. Печальные события нашли весьма своеобразное отражение в ее облике: платье у нее было траурного лилового цвета, но при этом отливало серебром, а волосы, заплетенные в косы, были изящно подвязаны лиловой лентой. Атмосфера, похоже, была накалена до предела, лицо Матильды Феррерс пылало от негодования – казалось, вот-вот разразится скандал.
– Мы ждем тебя целую вечность, – набросилась она на Отто Бодругана, едва тот направился к ней. – Сколько же нужно времени, чтобы переплыть залив? Вы, может, по пути еще и рыбу половить успели?
Он поцеловал ей руку, не обращая внимания на злобный выпад, и посмотрел на человека, стоявшего за ее стулом.
– Как поживаешь, Уильям? – спросил он. – Ровно час от моего причала до здешнего – не так уж и плохо, если учесть, что ветер на траверзе. Верхом было бы дольше.
– Да я-то понимаю, – пробормотал он. – Раньше ты никак не мог прибыть. И в любом случае здесь уже ничем не поможешь.
– Ничем? То есть как? – отозвалась Матильда. – А нас всех поддержать в трудную минуту, скорбеть вместе с нами, выгнать французского монаха, а из кухни вышвырнуть этого пьяницу, приходского священника? Если он не сможет использовать свое право брата и заставить Джоанну прислушаться к голосу разума, то кто же тогда сможет?
Бодруган повернулся к Изольде. Он едва коснулся ее руки, а она даже не подняла головы и не улыбнулась ему. Их сдержанность, несомненно, была вызвана осторожностью: любое слово, сказанное слишком доверительно, могло бы быть превратно истолковано.
Ноябрь… Май… Со времени приема, устроенного в монастыре в честь приезда епископа, прошло целых полгода, которые я перепрыгнул одним махом.
– Где Джоанна? – спросил Бодруган.
– В комнате наверху, – ответил Уильям.
И только тут я заметил его сходство с Изольдой. Это был Уильям Феррерс, ее брат, но только лет на десять-пятнадцать старше: его лицо было испещрено морщинами, волосы припорошены сединой.
– Ты ведь знаешь, что нас беспокоит, – продолжал он. – Генри никого к себе не подпускает, кроме французского монаха Жана. Ни от кого, кроме него, он не принимает помощи, отказался от услуг хорошего лекаря, которого мы привезли с собой из Девона. Теперь уже ясно, что монах не справился: больной без сознания, и конец близок – вероятно, остались считаные часы.
– Но если такова воля Генри и он при этом не испытывает страданий, о чем тогда говорить?
– Потому что все делается не так, как положено! – воскликнула Матильда. – Генри дошел до того, что высказал желание быть похороненным в монастырской часовне. Этого просто нельзя допустить. Всем известна репутация монастыря, недостойное поведение самого приора, распущенность монахов. Нечего сказать, подходящее место, чтобы такой человек, как Генри, – с его-то положением! – обрел там вечный покой. Это значит – опозорить нас на весь белый свет!
– Какой такой свет? – спросил Бодруган. – Этот твой свет охватывает всю Англию или только Девон?
Матильда побагровела.
– Не думай, что мы забыли о твоих подвигах семь лет назад, – сказала она. – Изменник, вставший на сторону развратной королевы, которая осмелилась пойти войной против своего сына, нашего законного монарха, – вот кто ты! Немудрено, что французы имеют в твоем лице надежного союзника, чего ни коснись: ты с одинаковым рвением будешь приветствовать неприятельскую армию, если она одолеет Английский канал[3] и вторгнется на наши земли, и защищать распутных монахов какого-то иностранного ордена.
Уильям положил руку жене на плечо, пытаясь ее успокоить.
– Не стоит бередить прошлое, так мы ничего не добьемся, – сказал он. – С кем был Отто во время бунта – сейчас это не важно. Однако… – Он посмотрел на Бодругана. – Матильда кое в чем права. Все же не подобает Шампернуну покоиться рядом с французскими монахами. Было бы во всех отношениях пристойнее, если бы ты позволил похоронить его в Бодругане, учитывая, что к Джоанне в качестве приданого отошла изрядная часть твоих земель. Я, со своей стороны, почту за честь похоронить его в Бере, в нашей церкви, которую мы сейчас перестраиваем. В конце концов, Генри мой кузен: он мне такой же близкий родственник, как и тебе.
– О, ради бога, – вдруг раздался голос Изольды, – пусть Генри лежит там, где сам того желает. И вообще, не пристало нам делить шкуру неубитого медведя.
Я впервые услышал ее голос. Она, как и все, говорила по-французски сильно гнусавя, но либо потому, что она была моложе других, либо я был просто необъективен, однако мне показалось, что речь ее гораздо музыкальней, а звуки чище. Не успела она договорить, как Матильда вдруг разрыдалась, к полному ужасу ее супруга, а Бодруган отошел к окну и стал угрюмо смотреть на улицу. А сама Изольда, которая вызвала этот всплеск эмоций, нервно постукивала ногой с выражением надменного презрения на лице.
Я оглянулся на Роджера – он с трудом сдерживал улыбку. Затем он сделал шаг вперед и с большим почтением ко всем присутствующим (хотя, как мне показалось, он пытался обратить на себя внимание Изольды) сказал:
– Если вам будет угодно, я доложу госпоже о прибытии сэра Отто.
Его слова остались без внимания, и, приняв молчание за знак согласия, Роджер поклонился и вышел. Он поднялся по лестнице в верхние покои, и я не отставал от него ни на шаг, как будто мы были связаны с ним одной веревкой. Он вошел без стука, откинув тяжелые портьеры, прикрывавшие вход в комнату, которая была размером, наверное, с половину нижнего зала – большую ее часть занимала застеленная кровать. Маленькие окошки почти не пропускали свет, поскольку в них использовался промасленный пергамент, и горящие свечи на столе, стоявшем в изножье кровати, отбрасывали огромные тени на выкрашенные в желтый цвет стены.
В комнате находились трое: Джоанна, монах и умирающий. Безжизненное тело Генри де Шампернуна было обложено подушками – казалось, что он сидит, подбородком почти касаясь груди; голова его была обмотана белой тканью наподобие тюрбана, который придавал ему нелепое сходство с арабским шейхом. Глаза были закрыты, и, судя по мертвенной бледности лица, мучиться ему оставалось совсем недолго. Монах, наклонившись, что-то помешивал в чаше на столе. Когда мы вошли, он поднял голову. Это был тот самый молодой человек с лучистыми глазами, который служил секретарем или клириком у приора во время моего первого визита в монастырь. Он не проронил ни слова и продолжал заниматься своим делом, а Роджер повернулся к Джоанне, сидевшей в другом конце комнаты. Она сохраняла полное самообладание, никаких следов скорби на лице, и вышивала на пяльцах цветным шелком.
– Все здесь? – спросила она, не поднимая глаз от своей работы.
– Все, кто был приглашен, – ответил управляющий, – и уже переругались друг с другом. Леди Феррерс сначала бранила детей за то, что они громко разговаривают, а сейчас сцепилась с сэром Отто; леди Карминоу, по-моему, не рада, что приехала. Сэр Джон еще не прибыл.
– И навряд ли прибудет, – ответила Джоанна. – Я предоставила это решать ему самому. Если он слишком поспешит со своими соболезнованиями, это может показаться подозрительным, – да его же сестрица, леди Феррерс, первая не преминет устроить из этого скандал.
– Уже устраивает, – заметил управляющий.
– Не сомневаюсь. Чем быстрее наступит конец, тем лучше для всех.
Роджер подошел к кровати и посмотрел на своего умирающего господина.
– Сколько еще осталось? – спросил он монаха.
– Он больше не очнется. Можешь до него дотронуться, если хочешь, он ничего не почувствует. Остается подождать только, чтобы остановилось сердце, и тогда госпожа сможет объявить всем о его смерти.
Роджер перевел взгляд с кровати на стол с чашами:
– Что ты ему дал?
– То же, что и раньше, – мак, сок цельного растения в равных пропорциях с беленой.
Роджер взглянул на Джоанну:
– Уберу-ка я лучше все это от греха подальше, а то могут возникнуть ненужные вопросы. Леди Феррерс говорила о каком-то своем лекаре. Они, конечно, вряд ли посмеют идти против вашей воли, но мало ли что.
Джоанна, по-прежнему поглощенная вышиванием, пожала плечами.
– Если хочешь, забери, что осталось, – сказала она, – хотя все настои мы уже вылили. Чаши можешь на всякий случай убрать, но я думаю, что брату Жану опасаться нечего. Он действовал с предельной осмотрительностью.
Она улыбнулась молодому монаху, который в ответ промолчал, только посмотрел на нее своими выразительными глазами, и я подумал, уж не снискал ли он, по примеру отсутствующего сэра Джона, ее особой благосклонности за те несколько недель, что провел у постели больного. Роджер и монах собрали посуду из-под зелья, хорошенько завернули ее в мешковину. Тем временем снизу, из зала, доносились голоса: по-видимому, миссис Феррерс оправилась после рыданий и вновь обрела красноречие.
– А что говорит мой братец Отто? – спросила Джоанна.
– Он промолчал, когда сэр Феррерс высказал мнение, что лучше похоронить Генри в фамильной часовне Бодруганов, а не в монастыре. Мне кажется, он не будет вмешиваться. Сэр Уильям Феррерс предложил еще один вариант – похоронить его у себя в Бере.
– Зачем?
– Может быть, ради собственного престижа, кто его знает! Я бы не советовал соглашаться. Если они завладеют телом сэра Генри, хлопот не оберешься. В то время как монастырская часовня…
– Все будет хорошо. Воля сэра Генри будет исполнена, и нас оставят в покое. А ты, Роджер, проследи, чтобы не возникло никаких проблем с крестьянами. Люди здесь не слишком жалуют монастырь.
– Если их хорошо угостить на поминках, никаких проблем с ними не будет, – ответил он. – Можно пообещать уменьшить размеры штрафов в конце года, простить им прошлые провинности. И они будут довольны.
– Будем надеяться. – Она отложила пяльцы, поднялась со стула и подошла к постели. – Еще жив?
Монах взял в свою руку безжизненное запястье и нащупал пульс, затем наклонился, чтобы послушать, бьется ли сердце.
– Почти остановилось, – ответил он. – Если хотите, можете зажигать свечи – к тому времени, когда все семейство соберется, он уже скончается.
Они говорили о муже этой женщины, лежавшем на смертном одре, как о какой-то старой, уже никому не нужной вещи. Джоанна вернулась к своему стулу, взяла черную вуаль и покрыла ею голову и плечи. Затем протянула руку и взяла со стола серебряное зеркало.
– Как ты считаешь, оставить так или лицо тоже закрыть? – спросила она управляющего.
– Если вы не можете выжать из себя хоть одну слезу, – сказал он, – то лучше, конечно, закрыть.
– Последний раз я плакала, когда выходила замуж, – ответила она.
Монах Жан скрестил умирающему руки на груди и крепче затянул повязку под подбородком. Затем отступил на шаг, чтобы взглянуть на свою работу, и, словно нанося последний штрих, вложил ему в скрещенные руки распятие. Тем временем Роджер отодвигал стол.
– Сколько ставить свечей? – спросил он.
– В день смерти полагается пять, – ответил монах, – в память о пяти ранах Господа нашего Иисуса Христа. Найдется черное покрывало на постель?
– Там, в комоде, – сказала Джоанна, и, пока монах с управляющим застилали постель черным покрывалом, она, прежде чем опустить на лицо вуаль, в последний раз взглянула на себя в зеркало.
– Осмелюсь дать совет, – пробормотал монах, – все выглядело бы трогательней, если бы госпожа соблаговолила опуститься на колени у постели, а я бы встал в ногах усопшего. И когда члены семьи войдут в опочивальню, я мог бы прочитать молитву по усопшему. Хотя, возможно, вы желаете, чтобы ее прочел приходский священник.
– Он слишком пьян – ему и по лестнице-то не подняться, – сказал Роджер. – Если только он попадется на глаза миссис Феррерс, песенка его будет спета.
– Тогда не трогайте его, – сказала Джоанна, – и давайте начинать. Роджер, спустись вниз и пригласи всех сюда. Первым пусть идет Уильям, как наследник.
Она опустилась на колени у постели, скорбно склонив голову, но, когда мы выходили, вновь подняла ее, бросив через плечо своему управляющему:
– Когда умер наш отец, похороны в Бодругане обошлись брату в пятьдесят марок, не считая скота, забитого к поминкам. Мы не должны ударить в грязь лицом, так что денег не жалей!
Роджер отодвинул полог на дверях, и я вышел за ним на лестницу. Контраст между ярким светом на улице и мраком в доме, должно быть, поразил его не меньше, чем меня, так как он на миг приостановился на верхней ступени и посмотрел поверх каменной стены забора на сверкающую водную гладь залива. Корабль Бодругана стоял на якоре, паруса были убраны, какой-то парень в маленькой лодке крутился возле кормы, пытаясь, видимо, поймать рыбу. Юные члены семьи спустились к подножию холма и рассматривали судно. Генри, сын Бодругана, что-то показывал своему кузену Уильяму, вокруг них с лаем прыгали собаки.
В этот момент я особенно отчетливо осознал, насколько все это фантастично, я бы сказал даже, жутковато, – то, что я находился среди них, никем не видимый, еще не родившийся – некий выродок вне времени, свидетель событий многовековой давности, которые бесследно канули в Лету. Странное дело, стоя вот здесь, на этой лестнице, все видя, но сам невидимый, я чувствовал себя соучастником всего происходящего, искренне переживая чужие любовные страсти и кончины. Как будто это умирал мой близкий родственник из давно ушедшего мира моего детства или даже мой отец, который тоже умер весной, когда мне было приблизительно столько же, сколько юному Уильяму там, внизу. Телеграмма о том, что он погиб в бою с японцами, пришла в тот момент, когда мы с мамой, только что отобедав, вышли из ресторана гостиницы в Уэльсе, где жили во время пасхальных каникул. Мама поднялась наверх в свой номер и заперла дверь, а я слонялся вокруг гостиницы и понимал, что случилось непоправимое, но не мог заплакать – боялся войти в гостиницу и поймать на себе участливый взгляд дежурной.
Роджер со свертком, в котором лежала посуда, еще хранившая следы от настоев трав, спустился во двор и прошел под аркой в дальнем его конце к конюшням. Здесь собралась, по-видимому, вся челядь, но при виде управляющего они тут же прекратили сплетничать и быстро разошлись. Остался только один паренек, которого я видел в первый день, и по его сходству с проводником еще тогда догадался, что это брат Роджера. Роджер кивком головы подозвал его к себе.
– Все кончено, – сказал он. – Поезжай сейчас же в монастырь и сообщи об этом приору, чтобы он распорядился звонить в колокол – пусть крестьяне прекращают работу, уходят с полей и собираются на лугу. Как только переговоришь с приором, сразу поезжай домой, спрячь этот мешок в подвале и дожидайся моего возвращения. У меня много дел. Возможно, я приеду только завтра.
Мальчик кивнул и исчез в конюшне. Роджер снова вернулся во двор. У входа в дом стоял Отто Бодруган. Немного поколебавшись, Роджер направился к нему.
– Моя госпожа просит подняться к ней, – сказал он. – И вас, и сэра Уильяма, и леди Феррерс, и леди Изольду. Я пойду кликну Уильяма и детей.
– Сэру Генри хуже? – спросил Бодруган.
– Он умер, сэр Отто. Всего несколько минут назад, не приходя в сознание, – почил тихо, во сне.
– Жаль его, – сказал Бодруган, – но хорошо хоть не мучился. Дай Бог, чтобы и мы с вами, когда пробьет наш час, ушли бы так же тихо, хотя, наверное, мы этого не заслуживаем.
Оба перекрестились. Машинально перекрестился и я.
– Пойду сообщу остальным, – добавил он. – У леди Феррерс может случиться истерика, но ничего не поделаешь. Как сестра?
– Сохраняет спокойствие, сэр Отто.
– Так я и предполагал. – Бодруган еще секунду помедлил, прежде чем войти в дом, и как-то неуверенно сказал: – Ты знаешь, что Уильям, поскольку он несовершеннолетний, лишен права пользоваться своими землями – они временно конфискуются в пользу короля?
– Да, сэр Бодруган, знаю.
– На этот раз конфискация не будет простой формальностью, как при обычных обстоятельствах, – продолжал Бодруган. – Поскольку я дядя Уильяма по матери и, соответственно, его законный опекун, меня должны были бы назначить управлять его поместьем, – при этом король, естественно, останется нашим сюзереном. Но все дело как раз в том, что обстоятельства необычные, ведь я принимал участие в так называемом бунте.
Управляющий благоразумно хранил молчание. Его лицо было непроницаемо.
– Поэтому, – продолжал Бодруган, – управление поместьем от имени несовершеннолетнего владельца и самого короля, скорее всего, будет поручено кому-нибудь более достойному, чем я, – по всей вероятности, его двоюродному дяде сэру Джону Карминоу. И я не сомневаюсь, что для моей сестры он все уладит наилучшим образом.
В его голосе звучала неприкрытая ирония. Роджер не произнес ни слова, лишь слегка склонил голову, а Бодруган вошел в дом. Довольная улыбка, появившаяся было на лице управляющего, мгновенно исчезла, как только юные Шампернуны и их кузен Генри вошли во двор, смеясь и болтая, на какое-то время забыв, что в дом стучится смерть. Генри, старший в этой компании, первым интуитивно почувствовал что-то неладное. Он велел малышам замолчать и подтолкнул Уильяма вперед. Я увидел, как изменилось лицо мальчика: от беззаботного смеха не осталось и следа, а в глазах – предчувствие чего-то ужасного. И я мог представить, как от страха у него подвело живот.
– Отец? – спросил он.
Роджер кивнул.
– Возьми брата и сестру, – сказал он, – и ступай к матери. Помни, ты теперь за старшего: она сейчас нуждается в твоей поддержке.
Мальчик сжал руку управляющего.
– Ты ведь останешься с нами, правда? – спросил он. – И дядя Отто тоже?
– Посмотрим, – ответил Роджер. – Но не забывай, ты теперь глава семьи.
Видно было, что Уильяму стоило большого труда взять себя в руки. Он повернулся к брату и сестре и сказал:
– Наш отец умер. Прошу следовать за мной.
И он вошел в дом – очень бледный, но с высоко поднятой головой. Перепуганные дети безропотно повиновались и, взяв за руки своего кузена Генри, молча пошли за Уильямом. Взглянув на Роджера, я впервые увидел на его лице что-то похожее на жалость и одновременно – гордость: мальчик, которого он, вероятно, знал с колыбели, достойно выдержал испытание. Он постоял немного и последовал за ними.
В зале никого не было. Занавес, висевший на противоположной стене у очага, был отогнут, открывая проход к узкой лестнице, ведущей в верхние покои, – видимо, по ней Отто Бодруган, Феррерсы и дети поднялись наверх. Я слышал звуки шагов наверху, затем все стихло, и послышался тихий голос монаха, бормотавшего молитву: «Requiem aeternam dona eis Domine: et lux perpetua luceat eis»[4].
Я сказал, что в зале никого не было, – так мне показалось в первую минуту, но затем я различил изящную фигуру в лиловом: Изольда, единственная из всех, не поднялась наверх. Увидев ее, Роджер остановился на пороге, а затем с почтительным поклоном сделал шаг вперед.
– Леди Карминоу не желает отдать последнюю дань уважения покойному вместе со всей семьей? – спросил он.
Изольда не сразу заметила, что он стоит у входа, но, когда он заговорил, она повернула голову и посмотрела на него в упор. В ее глазах было столько холода, что даже я, стоя рядом с управляющим, почувствовал на себе все презрение, которое она вложила в этот взгляд.