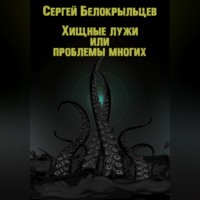Полная версия
Сага о призраках: Живым здесь не место…
Отдельные крики одобрения, и вот уже толпа швыряет шапки и кричит: “Браво, кородент!” и “Мы любим тебя, Кластер!”.
– Если я ваш кородент, а вы мои подданные, то верно и обратное! – прокричал Кластер Великий, когда шум толпы стих именно настолько, чтобы оттенять речь кородента, как бы питать её своей энергией и возвышать над собой. – Вы мои короденты, а я ваш подданный! Поэтому прежде всего я возлагаю ответственность на себя, ибо именно я, ваш правитель, должен был предвидеть и предотвратить случившееся. Но я не смог…
– Ишь как завернул, сучий потрох! – восхищённо прошептал кто-то позади Хейзозера.
– Да тише ты! – испуганно цыкнул на него сосед. – Тут повсюду доносчики.
– Плевать на них, я уже мёртвый, – не очень уверенно огрызнулся шептун.
– Мы потерпели поражение, – со скорбью в голосе сказал Кластер Победонос и, устремив тревожный взгляд куда-то вдаль, поверх толпы, вскричал:
– Да, мои подданные, мы умерли! Но мы по-прежнему живы, мои ненаглядные! Да, вы, как и я, полупрозрачны, бледны, но вы по-прежнему принадлежите своей родине, как и страна принадлежит вам. Мы продолжаем жить на своей земле, поэтому необходимо и дальше делать всё для её развития и процветания.
– Для развития какой ещё земли?! – изумился шептун. – Мы на кладбище живём, с которого нам никуда не деться! Кородент собрался кладбище развивать и процветать?!
– Тссс!!! – страшно зашипел на него сосед. – Идиот, хочешь в застенках сгнить заживо?!
– Как ты сказал… заживо?.. Да и в каких застенках?
– Так за что же тебя уважать, кородент, а? – раздался смелый крик с задних рядов.
Шептуны позади Хейзозера мгновенно заткнулись. В толпе раздались отдельные ахи.
– Кто крикнул, покажись, – спокойно предложил кородент.
– Я! – смельчак поднялся над своим рядом. Это был толстяк с бородой почти до самого пупа и откровенно глупым выражением лица. – Я не боюсь тебя, это самое, Кластер! Я потерял к тебе, это самое, всякое доверие и, ну, уважение. Благодаря тебе мы тут все и оказались, на этом острове, с которого, это самое, никуда не деться. Разве для этого, ну, мы честно платили тебе все полагающиеся налоги? Я, ну, не прав, други?
Бородач окинул взглядом свой и соседние ряды. Ряды потупились.
– Как зовут тебя? – спросил Кластер. – Кто ты по профессии?
– Это самое, Осим. Ну, кучер я.
– Кучер Осим, может быть, ты знаешь, почему драконы не унесли нас в царства?
– Ну, это самое, ну, не знаю я, – сказал Осим.
– Или, может быть, ты знаешь, почему Кладбищенский остров держит нас? – с едва уловимой насмешкой поинтересовался кородент.
– Нет.
– Или ты думаешь, смерть освобождает тебя от законов и обязанностей?
– Ну… нет, это самое.
– А, ты наверняка знаешь выход из сложившийся ситуации?
– Ну не знаю я. Так никто, это самое, не знает этого, ну, это самое, выхода-то.
– Ничего ты не знаешь, Осим, а кородента своего перебиваешь, глупый ты кучер. А я вот знаю, Осим, знаю. Собственно, потому и собрал вас всех, чтобы объявить об этом. Или ты думал, я собрал всех вас единственно для того, чтобы дать понять, кто тут самый главный? Не хочешь ли ты сказать, Осим, что я думаю только о себе?
– Не-нет, мой кородент, ну, не-не думаю я, это самое, такого, – зазаикался Осим от такого короденского напора.
– Так почему же ты смущаешь людей тем, что вскакиваешь и перебиваешь меня, своего правителя, который даже после своей смерти не бросил вас в столь смутное время?
– Ну, это самое… – сглотнул Осим.
– Ничего, – молвил кородент, с неожиданной ласковостью посмотрел на вконец сдувшегося кучера и медленно кивнул. – Я понимаю. Мы все сейчас на взводе. Не каждый день приходится умирать, и с непривычки смерть поначалу немного нервирует.
Раздался разрозненный хохот, и через несколько мгновений смеялась вся толпа. Вообще, хохот и рукоплескания всегда брали начало где-то в передних и средних рядах и подобно кругам на воде от брошенных камушков захватывали всю толпу. Да, пока до задних дойдёт, смеяться надо или плакать…
– Осим, опустись, – предложил Кластер. – Я с тобой потом поговорю, если ты чего-то не поймёшь сейчас.
– Ну да чего уж там, – пробормотал Осим, опускаясь на своё место.
– Тогда я продолжу, – сказал Кластер, – если, конечно, кучер Осим не против.
Толпа ответила смехом, как бы показывая, что прекрасно понимает, каким дурачком выставил себя кучер Осим.
– А теперь о серьёзном и даже мрачном, – голос кородента резко посуровел. Толпа стихла и даже, казалось, перестала дышать… – Многие из вас потеряли своих родных и близких во время нападения нелюдей магов-рыцарей. Я прекрасно понимаю, как тяжело сейчас приходится вам. И это не просто слова… Вместе со мной погибла и моя семья.
Кородент обвёл толпу скорбным взором.
– Но любовь победила смерть. Сейчас мы с женой и сыном снова вместе, чего желаю и всем вам… В том смысле, чтобы ваши души воссоединились после смерти и нигде не потерялись. Сейчас на эту природную трибуну поднимется и встанет рядом со мной мой сын Шпиндель Кох. Многочисленные смерти людей, которых он знал, зверства, учинённые в замке маг-рыцарями, смерть родной матери, до последнего прикрывавшей его своим телом, всё это повергло Шпинделя в глубочайшее оцепенение. И в этом оцепенении мой сын написал стихотворение, которым в отчаянной мольбе отгородился от ужасов, свидетелем которых он стал. Прошу снисходительно отнестись к его творчеству. Это первое поэтическое творение Шпинделя, а ему всего 12 лет.
Кластер полуобернулся назад и позвал:
– Шпиндель, прошу, взберись ко мне на эту природную трибуну.
На валун взлетел призрак мальчика в сапожках, штанах и курточке поверх камзола. “При жизни Шпиндель был чистым блондином, а умерев, стал чистым блюдином”, – пошутил кто-то в задних рядах. Кластер склонился и что-то прошептал сыну на ухо. Шпиндель деревянно посмотрел на призрачный народ, отцовых подданных, резко распахнул руки, будто собрался тут же свалиться с природной трибуны вниз головой, и, невпопад повышая и понижая высоту голоса и меняя интонацию как попало, пронзительно протараторил, захлёбываясь, сглатывая и запинаясь на каждой третьей строчке:
Вот напали они, подлые маги.
Боятся нас, в броню попрятались.
Боятся нас, светом убили меня.
Отца убили, мать, всех-всех-всех.
Я мечом одного убил, второго убил мечом,
Третий убил меня, вот!
Боги, видать, забыли нас.
Может, мы забыли их, а они забыли нас?
Тут надо подумать. Я хочу молиться за всех.
Давайте все молиться за всех, не любить тех,
Кто не любит богов.
Нам друг друга надо любить, уважать,
Но прежде богов.
Может, тогда они вызволят нас с острова могил,
Заберут к себе тех, кого любят?
Две последние строчки юный наследник трона так надрывно провизжал, словно боги забирали в святую обитель Эженату только самых отчаянных визгунов и пискунов, которые и там были рады стараться как можно чаще и громче визжать и пищать, чтобы боги не разочаровались в них и не изгнали в страну пустынь и холодных скал Энжахиму на корм чипекве, эмела-нтукам, цератозаврам, колибри и прочим исчадиям, порождённым неистощимой фантазией Бебе Асги, мрачного короля Энжахиму. А исходя из никуда не годных условий существования душ в Энжахиму, надо полагать, визгунов и пискунов там и без того хватало.
Наступила откровенная тишина. Но длилась она недолго. Раздались отдельные хлопки, причём с тех же мест, с каких раздавались и раньше, и несколько голосов наперегонки закричали:
– Браво!
– Какое мастерство!
– Лучше, чем у Ветрокрылого!
– К демонам Ветрокрылого!
– Да, к демонам! Мы этому хрену под задницу дали, чтоб не выпендривался!
– Точно! А надо было ещё и по зубам надавать, дабы свои песенки только шмакать и мог! Ха-ха!
– Слог будущего мастера поэзии!
– У Кикосеца-то?
– К херам собачьим Кикосеца!
– Ну да, это самое, его! Я это, это самое, и хотел тогда тово, ну! Сказать!
И вот вся толпа в едином порыве восхваляет поэтический дар кородентского отпрыска, даже те, кто не имел ни малейшего понятия, что означает слово “стихотворение”, и был уверен, что Шпиндель прочёл вполне себе обыкновенную речь, пусть корявую и неуклюжую, зато искреннюю. И сделали вывод: стихотворениями называют любые слова, произнесённые представителями кородентского рода. И считали кретинами всех, кто утверждал, что слово “стихотворение” означает несколько иное.
Особенно крепко засел этот предрассудок в стихийно образованной таверне “Синий рог” в северо-восточной части острова. Таверну образовали из кочек, пеньков и ствола-стойки. Новоявленные менестрели лишь однажды пытались выступить на том районе. Синерожцы дали понять, что раз барды не короденты, не жёны кородентов и не их дети, значит не имеют права высказываться стихами. А первым потерпел неудачу Кикосец Ветрокрылый. На том районе можно было получить по голове даже за совсем безобидные рифмы, например, за “ёлки-моталки”, “ядрён батон” и даже за “тудым-сюдым” и “пам-пам”. Только короденты и их семьи могли говорить “ёлки-палки”, “тудым-сюдым” и “пам-пам”. Ведь “пам-пам” тоже своего рода рифма. Созвучно? Созвучно. Получалось, только короденские семьи могли говорить “ядрён батон”, в том числе и дети. А может не только могли, но и говорили.
После счастливого выступления Шпинделя наступил краткий период всплеска бардомании или трувермании. Многие принялись сочинять стишки в духе Шпинделя, образовалось целое шпиндельское течение в поэзии. И чем надрывнее и визгливее читались и пелись стишки, чем ломче ритм и грубее рифма, тем лучше. В свите кородента недели две царил кромешный Энжахиму. Придворные наперебой нещадно визжали и пищали, как полоумные, сочиняя действительно полоумные стихи. Но, конечно, ни у кого не получалось достичь виртуозности и неподражаемой естественности одарённого наследника трона.
– Спасибо, сын, – сдержанно поблагодарил Кластер, и сын молча скатился за валун. А кородент обернулся к толпе и повысил голос: – Как известно, устами детей глаголит истина. Это проникновенное стихотворение я воспринял как знак, ниспосланный нам богами. Многие из вас успели заметить, что с Кладбищенского острова никуда не деться. Он держит нас словно в клетке. И многие задали себе вопрос: Почему?! Неужто боги покинули нас?! Но ведь мы построили храмы, мы вели благомереную жизнь. Да, все мы не без греха, но, может, кто-то из присутствующих таит в себе особо тяжкие грехи? Ради общего блага, призываю его приблизиться ко мне, чтобы облегчиться самому и облегчить других. Ведь, возможно, боги только того и ждут, чтобы мы очистились от скверны и вознеслись на драконах в царства, достойные нас. Потому выйдите, грешники, и предстаньте перед нами!
Призраки в толпе подозрительно переглядывались меж собой, словно только по одному внешнему виду можно было определить грешника.
Никто не вышел.
– И что ещё сказать, – молвил Кластер Великий. – Через две недели, утром, как только край солнца выглянет из-под земли, мы все соберёмся здесь для всеобщей утренней молитвы богам. Неявившиеся будут наказаны. Основных богов девять, и каждый из нас будет молится своему покровителю. Теперь, когда мы не нуждаемся в еде, отдыхе и освобождены от бремени плоти и его требований, мы можем молиться всегда. Но я понимаю, каждому из нас по-прежнему необходимо свободное время. Думаю, часовой молитвы по утрам будет вполне достаточно. Вот и всё, мои дорогие подданные, родные мои и ненаглядные, это и есть тот самый выход из положения. Через замечательные стихи, написанные моим сыном, боги дали нам ещё один шанс. Это значит только одно: Мы не забыты! Никто не забыт! У нас есть надежда быть услышанными в своём раскаянии и преданности богам! Молиться и взывать к высшим, молиться и взывать к высшим до тех пор, пока мы не очистимся полностью, до тех пор, пока вся скверна не выйдет наружу!
Кластер в последний раз поднял руку, оглядел толпу, спустился вслед за сыном и исчез под звуки обязательных аплодисментов и криков одобрения. Командор Щеногго Адав, подняв на уровень лица рукоять меча, острием смотрящего в землю, прошёл вперёд. Его отряд двинулся за ним, смыкая хвосты и тем самым захлопывая развёрнутый клин в прямоугольник. Вскоре и они скрылись за валуном-фигой. Как и кородентская свита, стоявшая за валуном, пока Кластер держал речь.
Толпа понемногу таяла. Призраки расходились кто куда. Бухвала Мудрик затесался среди знати, Киксоец куда-то запропастился, учёного Зенниспара тоже было не видать, поэтому Хейзозер Краснощёк, не потерявший ещё надежду отыскать Шаулину и Листу, бродил среди привидений и всматривался в их лица и фигуры. Семью он так и не нашёл, зато, к своему величайшему изумлению, повстречал одну знакомую женщину с её дочуркой, лет девяти на вид, и младенцем на руках.
Первый и последний раз он видел их семь лет назад во время прогулки возле прибрежных скал. Женщина, несмотря на присутствие дочери и младенца, стояла слишком близко к обрыву. Это насторожило его, и он направился к ним. Дворянка, судя по одежде, крепко стискивала руку дочери, которая сквозь слёзы упрашивала мать что-то не делать.
Хейзозер успел в самый последний момент. Он схватил повыше локтей уже шагнувшую с обрыва женщину и рывком повалил её с детьми за собой на землю. Поваленный младенец, до этого относящийся к происходящему совершенно спокойно, вдруг страшно перекосил рот и разревелся так, будто именно сейчас надумал вызвать на дуэль чудо-юдо рыба-кита. Как оказалось, при падении он стукнулся своей огромной розовой и лысой головой о лицо матери, в кровь разбив ей нос. Перепугавшаяся вусмерть дочка наоборот – перестала плакать и таращила на поднявшегося Хейзозера перепуганные глазища.
Краснощёк, как упавший столбик, поставил девочку и протянул руку её матери.
– Всё в порядке, милая, – утешал Хейзозер слащавым голосом в ожидании ответной благодарности, – всё самое страшное позади. Нужно крепиться. Крепиться!
Но женщина вместо благодарности посмотрела на него с ненавистью, отбила протянутую руку и поднялась сама. Извлекла из кармана какую-то тряпицу и зубами и рукой разорвала её. Одним куском заткнула кровоточащую ноздрю, а вторым принялась обтирать запачканную кровью макушку ревущего младенца и укачивать его.
– Я понимаю, вы немного поддались чувствам, – слегка опешил от такой реакции на спасение Хейзозер, – но как бы тяжело ни приходилось, это не выход из положения, поймите. Каждому из нас уготованы лишь те испытания, какие мы можем преодолеть, иначе никакого смысла в жизни нет.
– А в жизни и нет никакого смысла! – зло ответила женщина. Она закончила обтирку младенца и сунула тряпицу в карман. – Пошли, Листа!
– Надо же какое совпадение! – поразился Хейзозер и заволновался: – Понимаете, мою дочь тоже зовут Листа. Это знак Клитофрунати, милая женщина. Находясь на самом краю гибели, вы спаслись в самый последний миг и тем самым получили просветление. Вы должны жить если не ради себя, то ради своих детей. Теперь у вас всё будет хорошо.
– Я никому ничего не должна! – огрызнулась женщина. – Мало мне напастей, так вдобавок ко всему меня спас напыщенный олух. Или ты думаешь, раз спас меня, то отныне всё у меня будет хорошо? Да в твоей башке пусто, как в моих тарелках.
Хейзозер догнал решительно уходящую женщину и протянул ей десять реалов, спешно вытащенных из кармана:
– Вот, возьми, пожалуйста. Я отдаю тебе все деньги, что у меня есть с собой. Этого хватит на первое время. А там дела наладятся, обязательно наладятся! В этом тебе поможет Клитофрунати. Знай, теперь ты под её покровительством.
Женщина вдруг остановилась, будто бы её внезапно осенила какая-то догадка, и с подозрением пополам с презрением посмотрела на Хейзозера.
– Уж не намекаешь ли ты на то, что раз ты якобы спас меня, так теперь я обязана переспать с тобой? Или, может, посягаешь на мою дочку?
– Нет, нет, что ты! – Хейзозера как кипятком ошпарили. – Клитофрунати не только богиня любви и размножения, но также хранительница жизни и домашнего очага. Это она направила меня сюда, на берег, именно тогда, когда ты решилась на столь ужасное злодеяние.
– А превращать в ад жизнь ни в чём не повинной одинокой матери – это не ужасное злодеяние?! – горько спросила женщина. – Моя смерть и смерть моих детей остались бы на их совести, а не на моей. Сбереги эти гроши для своей Листы, а моей Листе подачки не нужны.
Хейзозер, всё ещё стоявший с протянутой рукой, со вздохом сунул деньги обратно в карман. Для него эти “гроши” составляли заработок за полмесяца.
– Милая женщина, может быть, не деньгами, так чем-то ещё я могу помочь тебе? – предложил он, сделав при этом странное выражение лица, плаксивое и неестественно сморщенное.
– Ты? – женщина громко рассмеялась. – Кто ты?
– Я простой каменотес, но я сделаю всё, что в моих возможностях.
Женщина снова рассмеялась.
– Ты идиот, каменотес. Не лезь в чужие несчастья, если тебе дороги спокойствие и жизнь. Отстань от меня по-хорошему и прощай.
И зашагала прочь. Её дочка едва устояла на ногах, но выровнялась и засеменила за мамой.
Хейзозер был очень горд тем, что спас целую семью от преждевременной гибели, а может и вселил в них уверенность в том, что теперь сама Клитофрунати будет присматривать за ними. Это ничего, что женщина несколько раз обозвала его и отнеслась к нему с насмешкой. Главное, теперь всё у них будет хорошо.
И вот Хейзозер снова встретил эту женщину с тем же младенцем на руках и дочкой Листой на вид всё тех же лет девяти, а это могло означать только одно. Они стояли поодаль от остальных, скрытые кустами черноплодки. И Хейзозер вполне мог пройти мимо, если бы не был настроен нарочно выискивать силуэты. Женщина между тем тоже узнала его.
– Да, – криво усмехнулась она, – кто самодоволен, тот и глуп. То, что ты помешал мне сделать в тот день, я сделала на следующий в другом месте. А ты, похоже, после нашей встречи тоже долго не прожил.
– На город напали некие маги-рыцари и многих убили…
– Это я уже знаю, – перебила женщина. – А ещё знаю, что человек, уничтоживший мою жизнь, здесь. И именно это заставляет меня жить дальше, думать, действовать. Но никак не твои дурацкие уверения об этой Клитофрунати, которую я никогда не видела.
– Я… я рад за тебя, – кое-как ответил растерявшийся Хейзозер. – Так ты на этом острове уже семь лет? И… пожалуйста, скажи своё имя.
– А, зови меня Эринией. Знать твоё имя мне ни к чему. Семь лет… да, семь лет… Мне нужно побыть одной, – вдруг заторопилась женщина. – Прощай.
– До свидания, – сказал Хейзозер лишь потому, что больше ничего путного на язык не легло.
Чуть ли не единственный повод для гордости оказался пустым звуком, пшиком, фатой-морганой. Какая недальновидность. Но почему же так? Почему Клитофрунати сначала спасла их, а потом отвернулась от этой женщины? Причина тут могла быть только одна. Женщина отказалась верить в свою покровительницу. А боги не могут помогать тем, кто в них не верит… Кородент Кластер, конечно, прав, через стих Шпинделя боги дают понять, что, оказавшись взаперти на этом острове, души ещё не забыты. Им дан шанс на спасение, который не следует упускать, ведь это, скорее всего, последний шанс.
Хейзозеру любопытства ради захотелось достичь северного края Кладбищенского острова, раньше ему не приходилось там бывать. Живые понимали: дорогу туда преграждает портал в юдоль тоскующих мертвецов. Но, как оказалось, никакого портала не существует. Да и не могло существовать. Теперь Хейзозер твёрдо уверился, что в глубине сердца он всегда знал: все эти россказни не более чем порождения дремучих суеверий.
Повсюду коричневел ползунец, который по цвету легко путался с корнями деревьев. И вообще, путался. В чахлой травке, отдающей бледной сиренью, выделялись ворсистые тёмно-малиновые ползунчики, словно подгнившие и поросшие бахромой плесени глаза исполинских существ, способных отращивать себе новые сенсорные органы, а устаревшие катапультировать из впадин. Наверняка по выходным эти исполины состязаются между собой, обстреливая отлетевшими глазюками остров со своего берега. “Поди, воздух распирает от сладковатого дурмана, оттого-то здесь и нет живности, а вовсе не из-за ерунды вроде тоскующих мертвецов”, – сердито сообразил Краснощёк. Ему совершенно не понравилась собственная фантазия. Демоны бы побрали этих кощунственных исполинов. А то ещё не хватало, что с помощью старых глаз они подсматривают… за кем? Ох, хватит! Взбредёт же подобное. Уже и посмотреть никуда нельзя. Чур меня, чур. Это Бебе Асга внушает мне крамольные мысли. Он, окаянный, кувшин его раздери, он совращает меня.
Как бы там ни было, кто бы Хейзозера не совращал, не внушал ему всякие крамольные гадости, на северную оконечность Кладбищенского он не попал. Север острова соединялся с его серединой тонким перешейком. И проход к нему преграждали трое крепкосбитых кородентских гвардейцев. Приближаться к ним Хейзозер не стал. Жизнь закончилась, а страхи перед теми, кто мог запросто покалечить или убить, никуда не делись. Краснощёку ничего не оставалось, как повернуть обратно и отправиться назад, несколько восточнее первоначального маршрута.
И немного погодя наткнуться на сборище привидений у загрибованого ствола упавшей сосны. Почти всем телом дерево лежало на подмятых ветвях и корнях, хоть вздыбленных и вытянутых, будто рассерженный внезапным исчезновением воды да так и усохший кальмар, но всё ещё крепко врытых. Тем самым ствол образовал природную стойку, прилавок, если угодно.
Собственно, сосну-прилавок уже облюбовал и сам трактирщик, раннее красномордый, а ныне с физиономией околевшего бульдога и усами вконец замёрзшего моржа пузатый здоровяк Чичас. Он, вкупе с кочками-табуретами и рассевшимися на них призрачными посетителями, образовал природную таверну “Красный рог” и переименовал её в “Синий рог”. Хейзозер знавал Чичаса с тех пор, как впервые, ещё шестнадцатилетним юнцом, перешагнул порог “Красного рога”. Да кто в Радруге не знает Чичаса! Чичас, чичас! И так целый час. В первое своё посещение таверны Хейзозер предпринял неудачную попытку побеседовать с краснорожцами о вере. Местные в тему не въехали, но отдельный их представитель въехал Хейзозеру по зубам. Что же, извечные ошибки молодости. С тех пор, будучи в этом достопочтенном заведении, Краснощёк предпочитал пить молча, а если и говорил, то больше о погоде, времени суток и других весьма интересных и познавательных вещах.
Ах, эти премилые пьяные драки с использованием всех подручных средств: ног, рук, локтей, коленей, зубов, лба, бутылок с отколотыми горлышками, табуреток, столов, свечей и подсвечников, оленьих и кабаньих голов, портретов, пейзажей и натюрмортов с отличными крепкими рамами, люстр, людей, дверей, полов, стен, потолка и попавших под руку животных. Вас когда-нибудь лупили по спине живой уткой? А орущим котом по лицу колошматили? Нет? Ну что же, юноша, я вам не завидую, у вас всё впереди. Один раз кто-то сгоряча выгреб из ящика охапку салфеток и яростно обрушил её на голову противника, но ничего интересного из этого не вышло. Салфеткобоец потерпел поражение. Но поговаривают, поговаривают, где-то в Закаракэтии есть непобедимый ханси салфеточных боёв. По крайне мере, другие салфеточные мастера одолеть его не могут вот уже много-много лет.
Любая уважающая себя таверна начинается с пьянки, а заканчивается мордобоем. Не всегда, конечно, но бывает. Кто-то перекусить забежит на скорую руку, а по морде всё равно получит. Закажет себе тарелку борща со свининкой, а его самого в этот борщ и окунут. Как писал великий поэт, по усам хоть и бежало, в рот ни капли не попало. И голодный остался, и сам как свининка несолоно хлебавши отправился восвояси, на ходу вытирая щёки, губы и подбородок с таким усердием, что со стороны могло показаться, что человек только что очень вкусно и сытно пообедал.
Вообще, в природной версии таверны “Красного рога” “Синий рог” собралась отборнейшая шваль, будто по городскому дну прошлись скребком и собранную грязь гущей плюхнули сюда. Бродяги, попрошайки, мусорщики, продажные женщины и мужчины и их покупатели, скупщики краденого, работорговцы, содержатели притонов, воры, убийцы, бездарные учителя… Изредка более приличный люд: торговцы чем-то менее разумным, чем рабы (например, мебелью), ремесленники… Затесалась даже парочка монахов и какой-то угрюмый коротыш в камзоле и треуголке, сунувший пальцы меж пуговиц жилетки. И то ладно, что “Синий рог” не унаследовал от “Красного рога” стен с крышей, иначе вряд ли бы он вместил всех желающих, которые в свои более живые дни собирались, как правило, в разное время.
Кому-то повезло, и он оказался на острове вместе со своей подружкой. Или не повезло, если теперь он совершенно не знал, что с ней делать. Мало того, несчастный и близко не представлял, как ей такое поделикатней сообщить. Ну, знаете, когда любовь проходит, а уважение остаётся. Женщины убийц, мусорщиков и бездарных учителей ведь такие чуткие люди, что в общении с ними деликатными становятся даже инквизиторы и прапорщики. Попробуй таких не уважь. Можешь не любить, но уважать обязан, хотя бы иногда. Один такой ходил всё, хорохорился, говорил, разлюбил я тебя и уважать не хочу. Не буду, говорил он, и всё тут, так, мол, честно и правильно будет. Не хочешь, сказала она в ответ, как хочешь. И теперь, сказала она, уважать ты никого не будешь, даже если захочешь. И уважалку-то ему секатором отсекарила. Сказала как отрезала. Или отрезала как сказала.