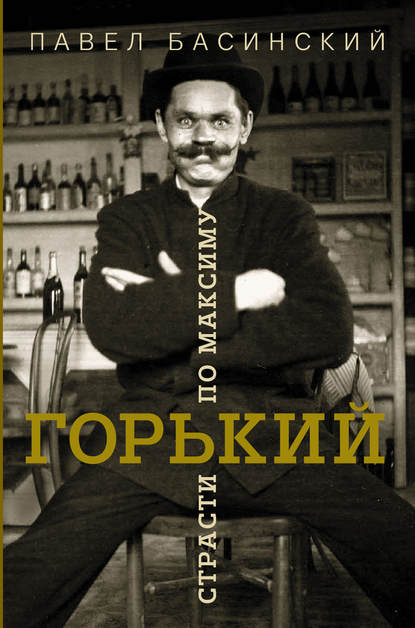Полная версия
Джордж Оруэлл. Неприступная душа
Скажете, не любила детей? Да нет: боготворила. Когда однажды в Лондоне, развлекаясь, получила вдруг телеграмму из дома, что «бэби заболел», то уже через полчаса, запыхавшись, сидела в поезде до Хенли. Она для того и вырвалась из Индии, оставив мужа, чтобы дать детям, особенно сыну, достойное образование. И, конечно, благоговейно заботилась о его здоровье. Об этом краткий, не больше десяти абзацев, отрывок ее дневника от 1905 года.
«Понедельник, 6 февраля: ребенку нехорошо. Я послала за доктором, который сказал, что у него бронхит». «Четверг, 9 февраля: ребенок поправляется с каждым днем». И только 6 марта записывает: «Бэби вышел сегодня из дома впервые после более чем месячного перерыва». Потом он заболеет в августе, потом – в ноябре. «Так что тревоги по поводу легких Эрика, – приходит к выводу Б.Крик, – бронхиты, мучившие его всю жизнь, начались рано». А что касается дневника Айды, то он, пишет биограф, «создает о ней впечатление как о женщине, которая может очень сильно заботиться о своих детях, но не всегда бывает при них и, быть может, компенсирует это “сверхзаботой”». Оруэлл назовет это «сверхопекаемостью». Признается, что недолюбливал отца («Был долг любить отца… Но нежных чувств не питал»), а в любви матери «чувствовал себя и сверхопекаемым ею, и придушенным этим». «Придушенным» любовью!.. Так что, вывалившись из окна, он не только «проявлял» тем самым любопытство к миру, но и рвался – можно ведь и так сказать! – освободиться от присмотра, глотнуть свободы. А слово «скотские», первое слово, зная жизнь его, вообще звучит фантастично. Критик мироустройства, кажется, и не мог не начать свою жизнь с этого слова. Последняя запись в дневнике Айды так и говорит об этом. «Суббота, – пишет. – Ребенку намного лучше. Называет все “скотским”». До публикации сказки Оруэлла «Скотный двор» оставалось ровно сорок лет…
Вообще же, покинув Индию, мать Оруэлла сняла маленький домик в старинном, основанном чуть ли не в XII веке Генрихом II городке Хенли-на-Темзе в графстве Оксфордшир – в нем и сегодня чуть больше десяти тысяч жителей. Оруэлл обмолвится потом в одном из романов, что городок был полон «сонно-пыльной тишины», с единственным рынком в центре, где он ярче всего запомнил лошадей, которые, «зарывшись мордами в длинные торбы», вечно жевали свой вечный овес.
Уровень жизни семьи Блэров, конечно, резко упал: не было ни повара, ни садовника и сторожа, ни заботливых индийских «нянюшек» и вышколенных горничных. В Индии Блэры были «сахибами» – господами, – и там почти всё было сравнительно дешево; в метрополии же всё дорого, а главное – не просто. Тот же Киплинг, прямо назвав всех англо-индийцев «сущими бедолагами» (написав, что ему их «искренне жаль», ибо, несмотря на трудолюбие, «жить красиво они так и не научились»), тем не менее отметил не то чтобы бесчувственность их, но – предельную сдержанность в эмоциях. «Про человека, который заболел, даже если заболел серьезно, скажут всего-навсего: “Ему нездоровится”. Про мать, оплакивающую смерть своего первенца, говорят, что “ей немного не по себе”… а если кто-то… совершит вдруг какой-то героический поступок, про него только и скажут: “Что ж, недурно”… Вывести англо-индийца из себя, – то ли восхищался, то ли осуждал Киплинг, – чем-то поразить его было невозможно». С этим качеством – с чувственной сдержанностью – мы еще столкнемся и у Оруэлла. Меня не раз удивит какая-то нечеловеческая глухота его, например, в дневниках, которые он начнет вести сложившимся уже человеком. Там, к примеру, вы не найдете описаний и уж тем более переживаний по поводу смерти любимой матери и даже жены. Он вообще не упомянет про эти события.
Не такой была Айда. Нет, конечно, она не работала – семья жила на деньги отца, оставшегося в Индии. Но дома, всего с одной помощницей, эта тридцатилетняя быстрая дамочка, которой хотелось еще чувствовать себя femme libre (свободной женщиной), сумела стать и поварихой, и садовницей, и сторожихой, да еще успевала при этом и ловко «вытирать носы детям» – воспитывать их. Более того, как дочь француза, делала всё легко и изящно. А деньги? Да плевать. Она никогда не беспокоилась о них, ибо у нее «было умение – очень французское – делать нечто большее из того, что есть». Если не могла позволить семье дорогую еду, тогда могла сойти и недорогая, но приготовленная так изобретательно, что Рут Питтер, поэтесса, подружка Марджори, и через много лет вспоминала Айду как хозяйку, что подавала на стол «капусту “en casserole”, со вкуснейшей приправой, которая совсем не походила на капусту “a l’anglaise” (“по-английски”); ее бритты варили-варили и вываривали до полной потери вкуса». У Айды вообще было врожденное умение «управляться с делами». Кое-что из этого унаследует и Оруэлл: он так же будет выращивать розы и картошку, переплетать книги в своей трепаной библиотеке и даже столярничать, когда заведет в одном из подвалов собственную мастерскую.
Через много лет он как-то небрежно заметит, что жил в детстве в «благородной нищете». Слова эти можно перевести – и переводят – и как в «благородно-обедневшей» семье, и даже (если по словарям) как в семье, «пытавшейся скрыть, замаскировать свою бедность». Но среди родни писателя слова его о «благородной нищете» вызвали едва ли не возмущение. Племянница Оруэлла Джейн Морган, дочь его старшей сестры, уже в 1976-м, в письме к Бернарду Крику, биографу, гневно напишет, что они, родственники, «всегда отвергали это представление Эрика». Напишет, что Айда, ее «бабушка Блэр», и в Хенли-на-Темзе, и потом, в 1920-х в Саутволде, была все той же «полуэмансипированной, полуартистичной натурой», которая держала свой дом «комфортабельно и очень ухоженно». Дом был «весьма экзотичным, – пишет Джейн. – Мебель была, может, и подержанной, но по большей части из красного дерева. Радужные шелковые занавеси, масса стульев с вышивкой на матерчатых вставках, подушечек для булавок, шкатулок из слоновой кости, наполненных блестками, игольниц, бусин из сердолика и янтаря из Индии и Бирмы. Всё завораживающее детей… Бабушка и тетя Эврил (сестра Оруэлла. – В.Н.) завтракали в постели. Чай Earl Grey, тосты, джем… Но особенно нас интриговало, что рядом, на постели, сидели при этом и две таксы…»
А еще и племянница, да и сам Оруэлл вспоминали потом, что Айда и подруги ее, обсуждая что-либо, попросту сплетничая за чаем, ужасно отзывались о мужчинах. «Эти животные, знаете, что они натворили? – округляли глаза. – Это и показывает, какие скоты эти мужчины… Конечно, она слишком хороша для него…» Так что, пишет Крик, можно не сомневаться, «от кого “бэби Эрик” выучил свое первое словцо». Хотя это еще полбеды. Хуже, что, любя мать, Эрик именно из этих подслушанных разговоров, из огульного осуждения мужчин вывел, что является «нежеланным ребенком»: он же мужчина. Это стало для него аксиомой: «Женщины не любят мужчин и смотрят на них как на неких больших, уродливых, вонючих и смешных животных, – вспоминал. – И не ранее, чем мне исполнилось тридцать, – закончит не без печали, – меня вдруг поразило, что в действительности я был для матери самым любимым ребенком». Не отсюда ли, рискну спросить, его скрытность, замкнутость, вечный «уход в себя», застенчивость и неумение найти верный тон в отношениях с женщинами – этими «существами высшего порядка»…
Отца недолюбливал, а мать любил, но пишет, что «даже ей не доверялся… застенчивость принуждала прятать большинство глубоких переживаний». Отца, по сути, увидит впервые в четыре года. Тот приедет в единственный отпуск на три месяца в 1907-м, после чего и родится младшая сестра Оруэлла – Эврил. Смешно, конечно, но, как дословно пишет племянница Оруэлла, отец его тоже «как-то “выпадал” из дома». Не «из окна» – из стиля семьи. Позже и Оруэлл заметит про отца: «Как было не стыдиться такого – поникшего, бледного, очень сутулого, плохо, совсем не модно одетого? От него так и веяло тоской, беспокойством, неудачей. Он был для меня престарелым занудой, хмуро ворчавшим постоянно: “Нет, нельзя”…»
Короче, всё в семье, начиная с брака отца и матери «с кондачка» и кончая даже «именем» нового, более просторного дома – «Скорлупа ореха», в который Айда с детьми переехала там же, в Хенли-на Темзе, в 1905 году, все те противоречия и «нестыковки», которые зорко наблюдал мальчик, неумолимо питали и в конечном счете воспитывали в нем некую двойственность. Ему «не хватало равновесия, и это, возможно, объясняет как его двойственное отношение к своему детству, так и причудливое смешение в нем отстраненности и общительности… – пишет биограф. – Я полагаю, – заканчивает, – что многие “пунктики” Эрика порождены тем, что он думал, что обязан любить ближних, но при этом не мог даже легко раговаривать с ними». И главный «пунктик», заметим, – неосознаннная обида на всё, что ощущалось именно как «скотское».
«Он был весьма неприятным толстым маленьким мальчиком с постоянными обидами», – скажет про семилетнего уже Эрика Хэмфри Дакин, сын семейного доктора Блэров, который женится потом на Марджори, старшей сестре Оруэлла. Заводила окрестных пацанов, Хэмфри весьма неохотно брал в компанию будущего писателя. «Он слишком чувствительный и слабый… Опять будет плакать и скулить, что никто его не любит», – кривился он. Но брал ради Мардж.
«В семье я был средним из трех детей, но между нами было по пять лет разницы, а кроме того, до восьмилетнего возраста я почти не видел своего отца, – напишет Оруэлл за три года до смерти. – В силу этих и некоторых других причин я рос довольно одиноким ребенком и быстро приобрел некоторое неприятное манерничанье, которое… отталкивало от меня товарищей… И, думаю, с самого начала мои литературные притязания были замешаны на ощущении изолированности и недооцененности. Я знал, что владею словом и что у меня достаточно силы воли, чтобы смотреть в лицо неприятным фактам, и я чувствовал: это создает некий личный мир, в котором я могу вернуть себе то, что теряю в мире повседневности. Тем не менее том серьезных (то есть всерьез написанных) произведений моего детства и отрочества не составил бы и полдюжины страниц…»
Мы помним: первый стих он «сочинит» в пять лет. Забегая вперед, скажу: сочинять стихи будет всю жизнь. Правда, не только всё написанное им «в рифму» не потянет на приличный сборник (стихотворений в собрании его сочинений окажется ровным счетом двадцать шесть), но и оценивать его «поэзию» будут весьма скромно. «Не стоит предъявлять больших претензий к стихотворчеству его, – заметит, к примеру, писатель и критик Дэвид Тейлор, – его стихи были порой просто незначительны, но зато они всегда были важным оружием в его литературном арсенале». Ведь даже первое напечатанное стихотворение его – «Проснитесь, юноши Англии!», – опубликованное в 1914-м, когда Эрику было лишь одиннадцать, уже было своеобразным «оружием», ибо и посвящено было великой теме – началу Первой мировой, и – до последней строки – пропитано просто оглушительным патриотизмом.
Но вот что приходит на ум в связи с этим и что уж никак не сбросишь со счетов. В начале его стихотворчества, а значит, в начале всей «литературной карьеры» Оруэлла стояла Айда – больше некому! – которая, как видим, успевала не только «вытирать носы» детям. Не сам же он отнес свой стих в редакцию местной газетки Henley and Oxfordshire Standart? И второй факт – и тоже неопровержимый. Самое первое его стихотворение, то, «о тигре», которое записала Айда, было, по его признанию, навеяно стихом Уильяма Блейка «Тигр». Но сам ли он читал «Песни невинности» Блейка, или их также прочла ему мать? И если это так, то именно ее дóлжно благодарить за рождение будущего писателя! И есть, наконец, третий факт, связанный с матерью. Он – про главную Книгу его детства. Да что там – про Книгу всей жизни его. Не про Библию, нет. Он прочтет ее в семь лет. Мы знаем даже день этого события – в ночь на 25 июня 1911 года. Начнет – и в чем-то перестанет быть прежним, глупым и обидчивым на весь свет Эриком.
Надо сказать, упоминаний, с каких лет наш Кролик начал читать сам, я, увы, не нашел. По косвенным признакам – вроде бы с трех-четырех. Где-то в биографиях его промелькнет, что, научившись складывать буквы, он радостно начал «опредмечивать» мир: читал вывески на улицах, рекламные объявления, какие-то проспекты к товарам, подписи к карикатурам и заголовки в газетах. А осенью 1908 года, в пять лет, когда его вслед за Марджори отдали в монастырскую школу, он, кажется, читал уже вполне сносно.
Монастырская школа, вернее, начальная англиканская школа при католическом монастыре, где заправляли всем французские монахини, высланные когда-то из Франции, запомнится ему главным образом тем, что там он впервые платонически (в том смысле, что издалека, «из-за угла») влюбится в Элси, девочку из последнего, старшего класса. Он вспомнит об этой влюбленности даже за два года до смерти. «Когда я влюбился, – напишет, – мне она увиделась взрослой. Снова я встретил ее, когда мне было тринадцать, а ей – года двадцать три, и она мне показалась отцветшей дамой средних лет. Старость воспринимается детьми почти непристойным бедствием… Перешагнувшие за тридцать в глазах ребенка – это безрадостные гротески… которым жить уже недолго, да, собственно, и незачем». Вот после этих слов он и выведет предложение, начисто отрицающее все те мнения и даже концепции о его «несчастливом детстве» – оно, дескать, сделало его мизантропом. «Только у ребенка, – напишет, – подлинная, стóящая жизнь». Настолько подлинная, что именем Элси он наречет первую любовь самого симпатичного из всех героев своих книг – Джорджа Боулинга из романа «Глотнуть воздуха». Да и то сказать: разве любовь – не жадный глоток воздуха?..
Что же касается чтения, то он взахлеб читал всё, что передавала ему Марджори. «Робин Гуд» (он, разумеется, сразу захотел стать похожим на него), «Том Сойер», какая-то «Ребекка с фермы Саннибрук», какой-то «Коралловый остров» некоего Баллантайна… Но Главной книгой, повторю, стала та, которую он начал читать в ночь на 25 июня. Айда купила ее в подарок ему на день рождения, и собиралась вручить завтра. Но Эрик, обнаружив сверток и догадавшись, что тот для него, тайно вскрыл его и… влип! Так началась его единственная «литературная приверженность», книга, которой в 1946-м он посвятит выдающееся эссе – «Политика против литературы». Какой заголовок, а? Впрочем, полное название этой статьи, давно переведенной и у нас, звучит так: «Политика против литературы. Взгляд на “Путешествия Гулливера”». Да, в растерзанном пакете именинника лежал великий Свифт и его «Гулливер», который в прямом смысле станет Библией Оруэлла. Он восемь раз перечитает эту книгу потом, и, как утверждают, каждый раз – «по-новому, на новом жизненном этапе». Ведь книга эта вобрала в себя все более или менее важные вопросы жизни человека: религии, политики, власти, даже любви и, более того, – секса. Эта книга и ныне для каждого – как дверной косяк, на котором можно отмечать зарубками «рост» читателя. Без Свифта не было бы, думается, ни «Скотного двора», ни романа «1984». И ведь это Свифт за три века до Оруэлла сказал: «Если на земле появляется действительно великий человек, то его сразу можно узнать, ибо все дураки мира мгновенно объединяются против него». Разве это не про Оруэлла?..
Ныне только ленивый не сравнивает Оруэлла со Свифтом. Но первым сделал это Артур Кёстлер. Он, чуть ли не на другой день после похорон друга опубликовал некролог «Путь мятежника». Цитируя Оруэлла, Кёстлер напишет о внимании этого сурового человека «к людям больших городов с их комковатыми лицами, плохими зубами и робкими жестами; к толпящимся в очередях у биржи труда, к старым девам, спешащим на велосипеде сквозь туман осеннего утра к святому причастию…» Вспомнит Кёстлер и про Испанию, где Оруэлл «присоединился не к фальшивому братству интернациональных бригад, а к самым пропащим из отрядов испанской милиции – к еретикам из ПОУМ». А всё потому, закончит, что был «единственным, кого суровая цельность сделала невосприимчивым к ложной мистике, кто не стал попутчиком и не поверил пророкам конфетного рая – ни на небе, ни на земле…» И сравнит, подравняет его по таланту как раз со Свифтом. Но, в отличие от него, от Свифта, Оруэлл, напишет Кёстлер, «так и не потерял веры в несчастных йеху… и никогда не изменял свободе».
Глава 2.
«По канату над выгребной ямой…»
1.Он мочился в постель. Это было невозможно скрыть, это сразу становилось известно ученикам, учителям и мгновенно, в первую голову, – этой ужасной миссис Флип.
«Господи, прошу, не дай мне опи́саться!» – жарко молился восьмилетний мальчик, раздеваясь на ночь в дортуаре, снимая короткие вельветовые штанишки и соскальзывая в кровать. Так начинается его автобиографическая повесть «Славно, славно мы резвились» о приготовительной школе-пансионе Святого Киприана, где Оруэлл проведет пять лет.
«Сегодня ночное недержание видится следствием естественным, – пишет он, – нормальная реакция ребенка, которого воткнули в чуждую среду. Но в ту эпоху это считалось мерзким преступлением, подлежащим исправлению путем порки…»
И порка, разумеется, случилась. Порол сам директор школы и владелец ее, мистер Уилкс по прозвищу Самбо – «Негритос». Отстегал отличным стеком с костяной ручкой.
– Вздули тебя? – спросит Эрика кто-то из поджидавшей у дверей кучки малышни.
– А мне не больно! – выкрикнет он.
Увы, на беду, это услышит та самая миссис Флип, жена Самбо, мадам Уилкс, директриса, которую как раз за пристрастие к тумакам и тычкам звали миссис Флип, то есть миссис Хлоп-Шлёп. «Что ты сказал? – гаркнет эта краснощекая коротышка. – Так-то ты понял урок? Ну-ка иди еще раз…»
Второй раз Самбо отделал его уже как следует. Сломался даже стек, и ручка его, крутясь в воздухе, отлетела в угол. Вот после этой экзекуции Кролик и разревелся. Не от боли, пишет, – от «детской глубинной горести». Правда, в дом Блэров в те же примерно дни полетело первое и вполне бодрое письмо Эрика: «Дорогая мама. Я надеюсь, ты в полном порядке, – пишет 11 сентября 1911 года. – Спасибо за то письмо, которое ты послала мне и которое я еще не читал. Я думаю, ты хочешь знать, как тут у нас в школе. Нормально, развлекаемся по утрам. Когда мы в постели». И подпись – «Э.Блэр».
Вопрос из будущего: Зачем, зачем вы трясли этими «мокрыми простынями» на весь свет? Детский энурез – это же обычное явление? Зачем вы пишете, что в этой школе начали мастурбировать? Что однажды даже донесли на своих товарищей? Или самоуничижение, как говорят у нас, – паче гордости?
Ответ из прошлого: Автобиографии можно верить, только если в ней раскрывается нечто постыдное.
В.: Но есть правда – и правда? Подобное самораздевание, я замечал, вообще характерно для западных автобиографий. И не вы ли в одной из статей довольно язвительно разоблачаете некий публичный эксгибиционизм одного всемирно известного художника?
О.: Но пи́саться-то я перестал… Я вообще сомневаюсь, что успехов в классическом образовании можно достичь без плетки. А пишущему о своем детстве следует остерегаться как преувеличений, так и жалости к себе…
В.: А жалости к родным, к родителям? Это ведь они «затолкали» вас именно в этот пансион? Что, не было других?
О.: Страшная штука этот «образовательный» психоз!.. Нет, вероятно, большей жестокости к ребенку, чем отправить его в среду деток значительно богаче. Никакому взрослому снобу не приснятся муки такого малыша. Послать сына в приличную (то есть какую-никакую, но закрытую частную) школу, ради чего немало лет влачить существование, которым побрезговала бы и семья слесаря… Но именно так я и попал в стены Киприана… Не утверждаю, что я был страдальцем… но я солгал бы, не сказав об отвращении… к этой школе…
Отвращение внушало всё, кроме морского ветерка, остужавшего его горящие щеки, – школа располагалась почти на берегу Ла-Манша. Через много-много лет он запишет: «Стóит, закрыв глаза, шепнуть себе: “Школа”, и сразу передо мной – плешь игрового поля с павильоном для крикета, сарайчик на стрельбище, продуваемые сквозняками дортуары, пыльные облупившиеся коридоры… и молельня из грубых, занозистых сосновых досок… И почти отовсюду лезет какая-нибудь гадкая деталь. Например, кашу мы ели из оловянных мисок, под загнутыми краями которых всегда скапливалась и ленточками шелушилась засохшая овсянка. Сама каша содержала столько комков, волос и загадочных черных крупинок, словно эти ингредиенты входили в кулинарный рецепт… Помню себя, – пишет, – крадущимся часа в два ночи через неизмеримые пространства темных лестниц и коридоров – босиком, обмирая от тройного ужаса перед Самбо, грабителями и привидениями, – чтобы украсть из кладовой кусок черствого хлеба». Или – убирая посуду после воскресных ужинов Флип и Самбо – подъедающим остатки с их тарелок… А гнусноватая вода в бассейне – в нем по утрам плескалась вся школа… А вечно влажные полотенца, пованивающие сыром… А не вычищенные от сальной грязи ванны… Нелегко мне вспомнить школьные годы без того, чтобы вмиг не шибануло чем-то противным и зловонным – смесью потных чулок, веющего по коридорам запаха фекалий, вилок с… навек застрявшими между зубцов остатками жилистого бараньего рагу…»
Но домой в Шиплейк (а Блэры к тому времени переехали в другой, такой же маленький городок Шиплейк-на-Темзе, по соседству с Хенли) письма по-прежнему летели бравурные. «Я на первом месте по арифметике и уже приступил к латыни» (8 октября 1911 года). «У нас была славная лекция про луну, это было ужасно интересно… и был футбол потом и сахар в конце… Я пятый во французском и английском и первый по латыни…» (25 февраля 1912 года). Последнее из сохранившихся писем от 17 марта 1912-го (и, как и предыдущие, с обязательным рисунком корабля) было ненамного содержательней: «Любимая мамочка… У нас снова было много футбола, было шесть игр, причем одна из шести была самой лучшей, когда никто не смог забить гола. Видели ли вы уже подготовку лодочных рейсов на Темзе? Я надеюсь, что всё в порядке, и все животные дома. Я первый в латыни и арифметике и третий в английском и французском. Шлю всем мою любовь. Тут проплыл сказочно большой корабль, и можно видеть стоящие на нем мачты…»
Ах, если бы он мог оказаться на палубе того корабля в своей бескозырке с надписью «Непобедимый», если бы тот корабль каким-то чудом перенес его – нет, гордо подплыл бы к Шиплейку! Как бы прыгал от радости Того, терьер, как бы сам он тихо и радостно замирал над коллекцией марок, которую стал собирать по совету полковника Холла, соседа и приятеля отца, – или над поплавком у прикормленных мест заветного пруда!
Отец к тому времени, выйдя в отставку в пятьдесят пять, занялся вдруг садоводством (даже пытался вырастить на участке какие-то диковинные деревья, черенки которых привез из Индии), увлекся гольфом в местном клубе и даже организовал какое-то общество «почтенных отставников». Там-то, среди отставников, между «своими», и прозвучало, видимо, впервые название этого пансиона – подготовительной школы Св. Киприана в шестидесяти километрах от Лондона. «Дельце» казалось выгодным. Идею, кажется, подал Чарльз Лимузин, брат Айды, который тоже увлекался гольфом и, через Королевский Истборнский гольф-клуб, знал мистера Уилкса – Самбо, – директора этой «правильной школы». Какие уж там шли переговоры – дело темное, но директор нахваливал свое заведение (в пансионе, дескать, учатся всего сто отборных мальчиков, в классах – не больше двух десятков, а в комнатах вообще живут по четыре человека, но главное – лучшие ученики легко поступают и в знаменитые Харроу, Веллингтон, Винчестер, и даже в Итон – самый престижный колледж Британии, где по традиции учились – «вы прикиньте только!» – почти все наследники королевского престола). А Чарльз и отец Оруэлла в свою очередь нахваливали уже «товар» – то есть Эрика. И какой он способный, и сколь начитанный, и что даже пишет стихи. Словом, Самбо убедили, что Эрик, конечно же, легко поступит в Итон на «стипендиальное место» (это было выгодно директору, ибо именно так он рекламировал свой пансион перед родителями будущих своих учеников), а тот со своей стороны согласился принять «способного мальчугана»… за половинную плату. Удача! Иначе Блэрам было бы не потянуть тех 180 фунтов в год, которые брали со всех – ведь это почти треть годовой пенсии отца. В общем, когда ударили по рукам, больше всех, думаю, обрадовалась Айда: ее сын должен пойти «дальше отца».
Разницу между «коконом» дома и «клеткой» школы, где он чувствовал себя «золотой рыбкой в цистерне со щуками», вопиющее неравенство с теми «отборными» учениками Эрик почувствует не только исполосованной задницей. Замечу: по свидетельству второй жены писателя Сони Браунелл, он считал потом, что именно в этом пансионе начали «бессознательно копиться материалы для романа “1984”». О том же напишет и друг его Тоско Файвел: «Оруэлл говорил мне, что страдания бедного и неудачливого мальчика в приготовительной школе – может быть, единственная в Англии аналогия беспомощности человека перед тоталитарной властью, и что он перенес в свой “Лондон 1984 года” “звуки, запахи и краски своего школьного детства”…»