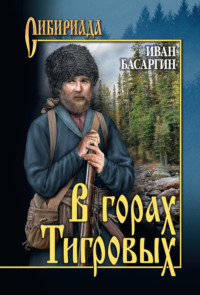Полная версия
Распутье
– У нас много лучше, но и здесь война всех подкосила, – начал рассказ Ломакин. Солдатки стали злее тигриц аль медведиц. Будешь зол. В пятнадцатом всё водой снесло – и хлеба, и овощи на полях. Голод у солдаток, а никто не чешется. Собрала твоя мать солдаток – и в Ольгу. Драку учинили с казаками. За наших ольгинские солдатки вступились, наводнение-то и их не обошло, там и пермские поднялись – и пошла писать губерня. Казаков загнали в их контору. Обложили, как медведей в берлоге, едва пристав упросил, чтобы выпустили его дать телеграмму в город. Пришёл корабль, с ним вице-губернатор Суханов[45]. Во всё вник, во всём разобрался, подкинул мучицы, зерна, семян, крупы. Ожили. Марфу как зачинщицу подержали чуток в каталажке, но вскорости отпустили. Потом они же взяли в шоры нашего купца Розова.
– Розов купец? – удивился Козин.
– Купе-е-ц. Да еще какой! Вона сам идет. Кормилец солдаток. Заставили стать кормильцем. Коней дает на пахоту. Заартачился было, но солдатки пригрозили дом сжечь, сдался.
Вошел Розов, его было не узнать: борода лопатой, усы закручены, одет в дорогой костюм, обут в хромовые сапоги со скрипом, золотая цепь через живот, который заметно выпирал, при шляпе, с тросточкой в руке. Козин не удержался и захохотал: чисто буржуй, которого он как-то видел на карикатуре в газете.
– Чего ржешь? – насупился Розов. – Сказал бы спасибо, что ваших от голодухи спасаю.
– С того и ржу, что вырядился ты, будто царя встречать. А у Козина и завалящего креста нет. Зря старался. Эх, господин Розов, а ить мужицкая-то лопотина[46] тебе куда больше к лицу, чем этот маскарад. Сидит все это на тебе, как на корове седло. Правду говорит народ, что на войне один худеет, а другой жиреет. Всех бы вас «розовеньких» взять, да на штык, чтобы люд чуток вздохнул. Не против германца воевать надо, а против вот таких, как ты, господин Розов.
– А землю германцу отдать?
– Корова ты яловая, землю отдать! А ты видел ту землю? Нет. Она уже кровями захлебнулась! Не дуй мне в ухо! – взревел Козин, подавшись к Розову.
– Я што? Я так, к слову, – попятился Розов.
– Как заговорил! Давно ли вместе лямку тянули? У кого-то в заднице засвербило – затеяли войну. Всех бы вас на одни вожжи – и на сук! Германскому мужику эта война тоже уже в горле застряла костью. Дарья, принеси стул купцу. Не обижайся, злы мы все стали.
– Да уж не обижаюсь, война и ангела сделает чёртом, – отступал Розов. – Всем иду на уступ, коли что…
– Идёшь на уступ, только всегда твой уступ начинается с рёва бычачьего, – проговорила Марфа, скромно угощая гостей.
– Как бы ни было, я за вас и за Россию радею. Недавно бросил на войну пять тыщ. Раньше о таких деньгах и не мечтал. Теперь и такое могу.
– Лучше бы солдаткам роздал, – проговорил Козин.
– Нельзя, царь из милости просил, не откажешь.
– А чего не бросать? С нашего пота нажиты. Дурак был Безродный, людей убивал, кровя лил, душу свою маял, а этот чисто гребет деньги лопатой. Умней других оказался, – вмешался Ломакин. – Всю долину, и дальше долгами опутал. Шныряет, не спит, деньги делает. Куда ты девать их будешь, когда усопнешь?
– Тебе на гроб чутка завещаю, – начал огрызаться Розов.
– Гад, а не человек!
– Без ножа каждого режет!
– Таким место в проруби!
– Хватит, бабы, галдеть! Вдруг опять не даст коней аль еще чего там.
– Утихомирим!
– Вишь, Федор, каково мне с ними жить? Для всех душа нараспах, а они меня же костерят почем зря. Пусть я гад, но где вы найдете такого купца, коий бы жил без разбоя торгового? Нету такого дурака. Был один дурак – энто Иван Пятышин из Ольги, но и того упёк на каторгу Андрей Силов. Да и сам купец ходил в холщовых штанах. А может быть вера такому? Нет. Купец должен иметь вид, дородность и осанку. Один берет ножом, а другой тароватостью. Ведь я корюсь вам до той поры, пока не вырвусь в большие купцы, а уж там, вот вы где у меня будете! – сжал волосатый кулак Розов. – И не пикнете! Потом узнаете, кто был для вас отцом и благодетелем! – с запалом, но как само собой разумеющееся, говорил Розов.
– Не пужай, пужаны. Знаем, с чего начал, но вот не знаем, чем ты закончишь.
– А где Гурин? С его ведь овец начал господин купец, – перебил перебранку Козин.
– На войне. Был слух, что ранен, лежит в лазарете, будто шрапнелью его посекло.
– Значит, и он побывал в том пекле, еще одним злоумышленником станет больше, – уверенно проговорил Козин. – Там зло быстро копится. Еще быстрее светлеют мозги. Ладно, вы уж не обессудьте, но мне пора на печь, кости ломит от окопной сырости, а тут еще и над тайгой мокреть.
Разошлись сельчане по домам. Лишь староста на чуток задержался.
– Ну, сказывай, как там и что?
– Что сказывать? Война там, чего больше. Я раньше думал, что родня, друзья, как говорится, на всю жизнь – это самые близкие люди. Там понял, что роднёй может быть и неблизкий человек, да такой роднёй, что только за него и болеешь. С Петьшей Лагутиным породнились. Как он там? Хочется убежать к нему, при случае защитить, свой дых ему отдать, душу новую вставить.
– Ладно, все это хорошо. Не крути, о деле говори. Как нам быть, к чему готовиться? Верить перестал?
– О деле? К революции надо готовиться, она не за горами, она за плечами. Всё на пределе, всё готово враз вспыхнуть. Готовить боевые дружины, патронами и винтовками запасаться. Полыхнет революция, а мы тут как тут.
– Вот это дело! Неужели начнется переворот?
– Как пить дать. Сама буржуазия к тому готова, а уж мы и подавно. Но, как говорят большевики, это преддверие революции, наша революция впереди. А пока война, голод и разруха. Солдатам пули вместо хлеба. Солдаты перестали верить их превосходительствам и царю. Петьша Лагутин за одно только упоминание царя ударил подносчика снарядов под дых, едва тот оклемался. Дела царя и его генералов никудышные. Будь сила у царя, то он бы всем крамольникам головы посёк. Но тогда надо сечь большей половине армии. Гудит фронт, уж не столь от боев, сколь от споров и разговоров.
Ехал я сюда с одним большевиком, некто Никитин, он сказал, что и здесь уже закручиваются дела. Будто Костя Суханов[47], сынок вице-губернатора Суханова, создал во Владивостоке тайный кружок «Молодая Россия», коий шумел за прекращение войны. Но будто в тот кружок попали три провокатора и завалили всё дело. В августе на массовке их всех поарестовала жандармерия. Сейчас всё заново надо гоношить. Звал меня в помощь. Обещал устроить на работу, я не отказался. Вот оклемаюсь – и в город, чтобы быстрее кончать войну и делать свою революцию.
– Значит, ты большевик?
– Всякий понимающий человек должен быть только большевиком. Только недоумок может остаться в стане врага. А наш враг – это буржуи, кои куют деньги с нашей крови, это помещики, кои живут нашим трудом, вся сволота, что наживается на этой войне.
Стукнула щеколда, открылась калитка, во дворе показался Федор Силов. Как всегда, при винчестере и с котомкой. С той же хитрющей улыбкой в глазах. Вошел в дом.
– Бог в помощь беседующим и страждущим! – поклонился друзьям.
– Федор Силов? Какими судьбами? Какими ветрами? – обнял его Козин.
– Теми же, что носят людей по земле, гуляют над сопками. Прослышал, что ты пришел, и завернул. Ну, сказывай, как там и что?
– Всё так же. Слышал, ты пристроился в Питере? Скоро назад?
– Скоро. Дарья, ходи сюда, подарунок занес детишкам.
– Не часто ли подарунки заносишь? – усмехнулся Козин.
– Пустое, в год по заказу. А ты откуда прознал, что в Питере?
– Каждый на виду и на юру[48]. Пока шел сюда, всё обсказали. И такое слышал, будто тебя от фронта спас Крупенской, мол, за его спиной прячешься. Да и братья тоже от фронта увильнули.
– На каждый роток не накинешь платок. Спешу вот снова туда. Пока ты воевал, девчушка и мальчонка подросли. Ну, ничё.
– Спасибо, дядя Федя, – поклонились дети.
– Чем я расчитываться буду с тобой? В прошлом году деньгами одарил, нонче тоже, – застенчиво улыбнулась Дарья.
– На том свете угольку под бок подсыплешь, чтобы сквознячку не было. Не люблю я сквозняков-то. Спешу в Петроград. Дела, похоже, круто заворачиваются. Учиться надо, тезка, шибко учиться, чтобы и здесь делать революцию. И все же как там солдаты?
– Худо. Ждут мира, но его не будет. Мечутся, большая половина хоть завтра в революцию.
– Ну и хорошо, ну и добре. Шишканова не встречал ли?
– Тот весь в революции. Солдаты вокруг него колготятся.
– Ну, тогда до свидания. Потопал дальше. Тороплюсь на пароход. А наговоров не слушай. Воевать за правду вместе придется.
Ушел Силов в ночь, дело привычное.
– Хороший он человек. Тоже спешит в революцию. Может быть, она и нужна, но боюсь я одного, Федя, что трудно будет расшевелить здешний народ. Тяжек он на подъем. Живет каждый тем, что, мол, моя хата с краю. Таких, как Силов, немного можно набрать. Он сегодня подарунок Марье, завтра – Дарье, и всё без корысти. А ты ляп – и обидел человека подозрением. А он ни однова здесь и не ночевал. Всё спешит, всё торопится.
– Ладно, ежли обидел, то прощения попрошу. Но ты на нашего мужика не клевещи. Запахнет жареным, то подымется. Конечно, заводские парни надежнее наших. Воевал я с ними: дружны, языкасты, дерзки. Ладные парни. Терять им нечего. А мужик сидит на земле, боится, как бы ее не отняли. Да и зад будет трудно от земли оторвать. Но я уверен, что оторвет. Нас, солдат-мужиков, наберется больше, чем рабочих. А каждый солдат – это уже большевик, почти большевик, – поправился Козин.
– Может быть, и так, но как только доберется до дому, так и обмякнет, забудет о войне, – заметил Ломакин.
– Я не обмяк, другие тоже не обмякнут. Конечно, здесь зла поубавилось. Но мы его не выживем своей мягкотелостью. За тоску по дому, за смерть друзей, за зуботычины и подозрения – не забудем вражинам.
– Рабочему люду, и верно, терять нечего. Был я на руднике Бринера, – продолжил разговор Ломакин. – Как только там живы люди? Мы живём, мы дышим, а там заживо гниют. Голод, в бараках холод, спят вповалку на нарах, тут же дети копошатся. Вошата́, духота, грязища. Все смотрят на пришлого, как на кровного врага. Не пришел ли ты отнять у них работу, заплесневелый хлеб изо рта вырвать? Ропщет народ, но Бринер начхал на тот ропот. У него казаки, он дает фронту свинец. Чуть что – крамольника под арест, на каторгу, а его ме́ста ждут другие, чаще манзы. Эти тише и покладистее. Был даже бунтишко, казаки нескольких человек застрелили, и всё стало на свои места. И другое, недавно встретил на тракте Силова Андрея Андреевича с Широкой пади. Так он первый спрыгнул с вершной, первый же и руку подал, еще и сказал, мол, ежли будет беда, чтобы заходили, чем сможет, тем поможет. Я ажно поперхнулся от удивлённости. Выходит, Силов умней Бринера?
– Может, и так. Но у Бринера казаки, а у Силова ограда хуторская. Бринер может убежать в город, а Силову бежать некуда. Вот и линяют люди, другую личину на себя надевают. А потом, есть люди побогаче Силова, но тоже идут за революцией, за большевиками. Взять Суханова Костю: отец вице-губернатор, а он на ро́сстань[49] с отцом пошёл, потому что честный человек и нет у него сил смотреть на измывательства над народом. Если Силов честный, то найдет себя и свою дорогу.
– А Розов?
– Что Розов? – хмыкнул Козин. – Этот, как милый, будет работать на революцию. Расскажи, как это он успел прорваться в купцы?
– Был помощником у Дряхина, что заменил Безродного. Пил с ним, но голову не терял, а тот терял. Под пьяную лавочку заставил Дряхина подписать на себя завещание, потому как он один был как перст, тот Дряхин. Подмахнул, а через неделю нашли утопшим в Голубинке. Копал то дело пристав, но не докопался. Так и стал Розов купцом.
– Выходит, и верно, нельзя стать купцом без разбоя?
– Выходит так, Федя. Есть разговор, что и Бринер разжился с разбоя. Он был управляющим купца Шувалова. Шувалов помер. Наследником остался один сын-полудурок. Ему бы лишь баб, яхты. Бринер все спроворил: и бабу, и яхту со матросами. Гуляй. Сам стал всем править. А потом благополучно утопил яхту, наследника и бабу, шуваловское же хозяйство себе прибрал. Был слух, что Шувалов раньше хунхузил, даже пытался русских грабить. А кто Бринер? Есть сказ, что он из голландских купцов-пиратов, грабил проходящие суда. Словом, немец обмишулил русского разбойника.
– На фронте тоже нами командуют немцы, может, с того и бьют нас. Как ты ни говори, что любишь Россию, а кровь-то немецкая. Знать, Германия ближе к сердцу. Да и царица-то двух слов по-русски связать не может. Около неё пророком крутится поп Распутин. Бабник, сводник, а на поверку сволочь. А та дура смотрит ему в рот, верит его предсказаниям. Э, что говорить! Продают Россию оптом и в розницу! Гады! – грохнул кулаком по столу Козин. – Каждый тянет одеяло на себя. А земля большая, ладная, продать есть что.
За околицей провыла собака, Федор Козин вздрогнул, подался на вой. Уж не Черный ли Дьявол голос подает? Обмяк. Нет, у Черного Дьявола вой гуще, тоскливее. Спросил Ломакина:
– Ничего не слыхал про Черного Дьявола?
– Канул в тайге, – заторопился домой. Не укорил Козина, что тот не доверил им пса.
Федор не задерживал гостя. Вышел в ночь и долго слушал тишину, забытые голоса тайги, деревенские звуки, тоже уже забытые. Тосковал по Черному Дьяволу, по тихому прошлому.
3
Начались затяжные осенние дожди. Редкая осень в этой тайге, чтобы с дождями, недобрая осень. Плачут окна, зябнут деревья под дождем. Дым из печных труб низко стелется к земле, тает в этой мокрети. Тайга серо-рыжая, потемневшая, насупилась и насторожилась.
Не любил Степан Бережнов осень, тем более такую слякотную. Родился он осенью, годы жизни отсчитывал по осени. А прожитый год – это безжалостная отметина в жизни. Даже день своего ангела не справлял. Страшился Бережнов смерти. А со страхом шла тоска, тоска по несбыточному, тоска по утраченному. Еще больше тосковал, когда подводил итог удачам и потерям. Потерь было больше, чем добрых дел, суета, чаще злобная. Понимал, что жизнь прожита зря. А как прожить годы, что еще остались? Как? Пойти за Шишкановым, Силовым и их братией? Нет. Царь смутил сердца людские, война перемешала народы. А большевики принесут еще худшее, страшное – революцию и за ней гражданскую войну. Это уж точно. Ни Бережнов, ни Хомин, ни Андрей Силов, ни Вальков не согласятся отдать свои земли за спаси Христос. Значит, война, война против бедных. В тайге их наберется немного, но их много на западе. Запутается народ, запутают его большевики так, что никто не разберётся. Но и держать руку царя нет смысла. Смешно помогать упавшему. Они, цари, вечно укоряли раскольников. Да что укоряли! Прочь гнали как бунтарей, инакомыслящих. Обвиняли их в косности, глупости.
– А царишко-то, и верно, туп и глуп, – сам с собой заговорил Степан Бережнов. – Аль не поймет, что бит, что война проиграна? Солдат зол, народ в накале. Цены на жратву растут, а заработки падают. Катится наша Россия в пропасть, и некому, что ли, подсказать царю, что и как. Я тоже не от ума гоношу какое-то «войско». Жамкнут, и мокрого места не останется. А что делать?
Может быть, прав Алексей Сонин, который недавно кричал на сходе: «Дурни, за кем тянетесь? Царь – дурак, а наш командир еще дурнее. Надо держаться тех, кто супротив царя и его недоумков. Большевиков держаться. Мы были супротивниками царя, ими и должны быть. Обмякли, по головке царь погладил. Не идти надо на ту наживку, а первым выходить на царя войной. Мы должны притулиться к тем мильёнам, что идут против царя. «Войско Христово!» Дураки! Поверните свою рать не за царя, а против! Я буду с вами, другие будут с вами!»
– Стоит ли брать тебя с собой, тезка-наоборот? – шепчет Бережнов, водит пальцем по запотевшему окну. Обвисли его плечи, замочалилась борода. – Напиться, что ли? Нет, надо трезво разобраться в этой правде-неправде, сумятице, распутье… – Косит глаза в сторону, будто уже видит черту небытия, голос дьявола слышит. Никого там и ничего там нет за той чертой. Дьявол – это от хмельного, от тяжких дум. Нет ни дьявола, ни Бога. А тогда кто и что есть?
– А ничего и никого там нет, – громко ответил себе Степан Бережнов. Даже оглянулся, не услышал ли кто?
Впервые вслух сказал Бережнов то, что вынашивал годами. Вот еще бы насмелиться и сказать эти слова братии, то-то было бы шуму! Нет, не поймут братья и сестры его откровения. Как не поняли или не захотели понять Макара Булавина. Да что Булавина, они отринули деда Михайло, учителя и пророка. А ведь каждый черпал из его уст и доброту, и знания. Каждому дед отдал частицу души своей. Нет, устрашатся безверия, отринут, как отринули тех правдолюбцев. Сумасшедшим наставником назовут. Есть за что: дьявола в хмельном бреду гонял, срамные песни пел, все мелочи припомнят, что накопила жизнь. Все! Пока при власти, не посмеют, а потом всё в одну кучу свалят, и тогда смерть – и физическая, и духовная.
Неужели все люди, кто грамотен, кто чуть мыслит, к концу жизни вот так же приходят к безверию? Может быть… Что было непонятно еще вчера, сегодня видно, как на ладони.
– Поди, хватит воду мутить? – спрашивал себя Бережнов. – Честно признайся, что был неправеден. Что, человек – бог? Добро – бог? По-макаровски? А? Но тогда надо уходить в пустыню! Утерять власть над братией? Нет, без власти, пусть она и малая, я не жилец. Познал её сладость, познал её неповторимость. Сразу пасть, как плохой всадник с горячего коня? Нет!
…И снова терзался:
– Нет! Нет! Без власти душа захиреет, тело умрет. Только власть, только сила власти держит нас в узде. А как же царь? Ить он, ежли у него отберут власть, должен бы пулю пустить в лоб. Должен, ежли он человек при уме и при силе.
Вот и Мартюшев познал сладость власти. А что творится с Хоминым? Оба хунхузят с хунхузами. Третью осень хунхузят. Прижали. Те в ответ, что не хунхузят, а воюют с хунхузами. Десятки людей свалили на дезертиров и хунхузов. Чем оправдались, когда их хотел прижать Бережнов? Боем с бандой Кузнецова, с которым на самом деле не поделили тропу разбойную. Сказали, что хотели уничтожить банду. Зиновий Хомин снова стрелял в отца, но промазал на этот раз. Осталось на тропе с десяток убитых с той и с другой стороны. Были и раненые, но, чтобы не тащить их через тайгу, добили.
Мир спутался в огромный клубок, как его распутать? Что есть правда? Где она?
– Хватит раскисать! – приказал сам себе Бережнов. – Надо наперво взять свата Алексея за хрип, потом Мартюшева и Хомина. Ежли и не построю Выговскую пустынь, то хоть многим насолю. Войско не распускать, готовить к новым схваткам. Братию надо приструнить. Заставить её пасть к ногам, из милости просить прощения. Отринули – так не раз еще попро́сят за обиду, – распрямился, глаза блеснули волчьим огнем. – Я вам устрою Варфоломеевскую ночь!
Приказал Красильникову и Селедкину явиться к нему. Пришли. Что-то наказал, они поспешно ушли.
Позвал наставника Мефодия Журавлёва. Ему сказал:
– Вы отринули меня как человека и как командира нашего войска. Вы не верите мне. А я уже говорил, что, ежели солдат не верит генералу, то тот должен застрелиться или, на худой конец, подать в отставку. Стреляться, по нашим законам, грешно, значит, я подаю в отставку. Передайте это народу, пусть выбирают себе нового командира. Аминь.
Мефодий с легкой усмешкой выслушал Бережнова:
– Передам. Народ примет твою отставку.
Бережнов шел домой и думал: «Что творю? Будь бог, то он тотчас же наказал бы меня. Значит, его нет. Пусть нет, я могу и не верить, но другие должны верить. Я их заставлю поверить. А дьявол, что блазнит меня? Пустое, я сам его придумал, это от болести душевной. Нет бога, нет дьявола, есть я – человек, коий должен вершить делами, как божескими, так и мирскими: миловать и карать. Властвующий может и не верить, но веру в людях крепить обязан. Сам не верь, но народ заставь верить в то, во что ты давно не веришь. Аминь».
Всю ночь люди видели свет в молельне: это молился Степан Бережнов, показывая свою веру в бога, свое прилежание к Творцу. А на заре, когда люди спали сладко и крепко, тишину разбудили выстрелы, даже взорвалась граната. Заполыхали дома Алексея Сонина, Мартюшева, Журавлёва, всех тех, кто не столь крепко верил в бога, кто шарахался с одной стези на другую. Как частые и тихие громы, отгремели выстрелы, затихли. Бандиты, или кто еще там, напали на деревню, угнали табун коней и скрылись, лишь оставили редкие следы на мокрой от дождя траве. Дать команду, чтобы преследовать бандитов, было некому. Журавлёв тушил свой дом, Сонин – свой, Мартюшев – свой. Бережнов же был в отставке. Бережнов молился. Даже когда пожар готов был перекинуться на его дом, он лишь посмотрел в окно, продолжая моление.
Дома догорали. Сухие, под краской, сгорели, будто порох. Бережнов сделал последний поклон, вышел из молельни, пропахший воском и ладаном, пришел на пожарище. Перекрестился и промолвил:
– За грехи наши шлёт нам бог эти наказания. Но ничего, дружно, со всепомощью построим новые. Однако надо кое-кому и задуматься. Аминь! – Повернулся и ушел в дом.
Народ загудел, народ зашумел, начал ругать Сонина за его богохульные разговоры, Журавлёва – за его плохое наставничество, мол, так просто принял отставку командующего, так тайком именовал себя Бережнов. Отринули самого верующего, самого святого человека, коий живота своего не жалел во имя веры в бога. Гнать Мефодия из наставников взашей, гнать из деревни Алексея Сонина! Будя, побулгачил, посмущал народ. Уже кое-кто добирался до шеи Сонина, другие тырчками гнали Журавлёва, ругали Мартюшева за его бандитизм. Ругали тех, кто оказался погорельцем.
Бережнов через щелочку в занавесках наблюдал за толпой. Вот она повалила к его дому. Пала на колени, здесь же стоял на коленях Журавлёв, Мартюшев, только не было видно Сонина. Тот вырвался из рук братии, взял винтовку и ушел в тайгу. С ним ушли Арсё и Журавушка. Ушли они, как думал Бережнов, по следам банды, чтобы отомстить дезертирам. Раздались крики, чтобы Бережнов вышел к народу. Не шёл. Пусть от криков перейдут к мольбам. Он, как царь Иоанн Грозный, долго не выходил к народу. За просьбами начались стоны и мольба. Вышел. Вышел насупленный, вышел грозный. Посмотрел на народ из-под кустистых бровок, тихо проговорил:
– Ежели просите, я готов порадеть за народ, но с тем уговором, чтобы всё сказанное мною тут же исполнялось. Как я понял, Журавлёв не осилил место наставника, кое я ему доверил, дабы не отвлекать себя от укрепления дружины; снова буду наставником. Второе: вы должны тотчас же изгнать из деревни богохульника Алексея Сонина и тех, кто пойдет за ним. Третье: мои слова, мои дела, и вы этому верьте, идут от бога, во имя веры в бога. Ежели согласны, то я готов снова служить вам верой и правдой.
– Согласны! Делай с нами, что хошь, но оборони нас от хунхузов!
– Веди, как раньше вёл, все дела наши, будь наставником и командиром.
– Добре, все в молельню, все дадут клятву на Святом Писании. Клятву в праведность дел моих, клятву на верное служение мне.
Это уже были заявления царя, а не наставника. Но люди пошли за Бережновым, люди отдались в его власть, испугались кары божьей, бандитов, да мало ли еще кого… При Бережнове никогда не было нападений на деревню, редки были пожары. А тут стоило отказаться от всего, и случилась беда. Народ во власти Бережнова.
Изгнать Сонина? Все за изгнание. И даже заявление бабы Кати, что она тоже уйдет, пойдет за мужем, не остановило людей, которые лишались великой лекарки. А где же сам Сонин? Баба Катя ответила:
– Пошел по следам хунхузов.
Арсё не терял следа, скоро нашли дезертиров спящими на берегу Улахе. Открыли пальбу, меткими выстрелами перебили половину отряда. Бежало десять человек. С ними ушли Кузнецов, Зиновий Хомин. Это главари банды. Старый и малый – сдружились.
Одного раненого привели в Каменку, он на допросе, который учинил наставник и командир Бережнов, сказал:
– Кто-то нам заплатил большие деньги, чтобы мы напали на деревню и подожгли дома Сонина, Журавлёва, Мартюшева. Приходили, как нам сказал Кузнецов, Селедкин и Красильников. Мы просьбу исполнили, а вы за что напали на нас? Говорили же, что не нападете!
– Куда ранен? В руку? Добре. Счас я тебя вылечу. Вот настой, сразу глотни весь стакан лекарства, и все пройдет, – сурово приказал Бережнов. – Это я просил ваших сделать доброе дело. Пей.
Выпил, тут же полезли глаза из орбит, перехватило дыхание, язык стал большим, немым. Пытался закричать пленник, но голос пропал. Настой борца сделал свое дело. Умер. Бережнов вышел к народу, сказал:
– Умер от отравной пули. Сказал, что напасть на деревню их просил Алешка Сонин с дружками, да они перепутали дома.
Сонин улыбнулся, спокойно ответил:
– Напасть их за пять тыщ рублей просил Степан Бережнов, и дома они не попутали. Кузнецов каждый дом знает. Отравил свидетеля. Но царей не судят, они могут казнить и миловать. Пошли, Катя, пошли в тайгу, там и будем жить. Ты, Саломка, тоже с нами. Отравителю не могу оставить свою дочь. Пойдешь ли?