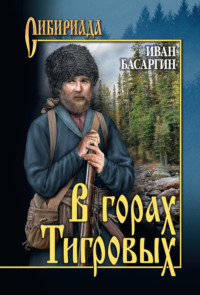Полная версия
Распутье
Война. Над родиной нависла опасность. Всех горных инженеров перевели в казённую разведку искать руды, работать на войну. Работали дружно, не вспоминали старое.
Год войны. Задохнулась Россия, выбилась из сил и Германия. На заводах некому работать. Всех, кто хоть чуть разбирался в железе, был мастеровым и немного грамотным, – всех призвали. Никто не смог защитить и Федора Силова от призыва. Сколь ни бегали, ни хлопотали Ванин и Анерт за Силова, его призвали. Ванин – либерал, застенчиво улыбался, разводил руками, мол, не получилось. Анерту чужд либерализм. Он жёстко говорил:
– Есть приказ, надо выполнять. Зиму все равно ты без дела сидишь. Там нужнее. На лето будем вызывать. Хорошо, что еще на завод, а не на фронт. Не дуйся, не так уж ты велик, чтобы держать тебя под стеклянным колпаком.
Мог бы этого и не говорить Анерт, не обижать Силова, но от фронта его отстоял именно он. Боялся потерять голову Силова, в которой еще много тайн. Сгодится. Силов себе на уме: памятные рудные точки у него явно есть на примете. Есть! Думает, что если покажет все, то его ценить не будут. Так понял Силова Анерт. Берёг как мог. Выдал удостоверение, рекомендовал использовать на геологической службе: «Федор Андреевич Силов, хуторянин из Широкой пади близ п. Св. Ольги, в 1914 и 1915 годах служил в моей партии. Он оказался человеком весьма смышлёным и трудолюбивым. Вместе со своими братьями производил все починки сельскохозяйственных машин (слесарные, кузнечные и столярные работы), хорошо знаком с горными породами и рудами и их поисками и разведками, умеет обращаться с простым и горным компасом и наносить наблюдения, почему может быть весьма хорошим мастеровым, десятником и т. п., посему вполне могу его рекомендовать на всякую подобную службу. Горный инж. Э. Анерт. 7.08.1915 г. СПб.».
Вспомнились события годовой давности: туманный Петроград, как на извозчике добирался до Путиловского завода, предъявил документы.
– Экая простота твой Анерт, – усмехнулся чиновник. – Он что, думает, у нас сельхозмашины чинят? Здесь, батенька мой, пушки льют, оружие для войны куют.
– Я могу ковать, слесарить…
– Тут он пишет о рудах, вот и пошлю тебя уголек разгружать из вагонов. Надеюсь, эта руда тебе известна? Ну и добре. Ша, завтра на работу. Сегодня подыщи себе уголок, мы квартир не даём.
Там-то и начало копиться зло, оттачивалось понимание. Десять-двенадцать часов на работе, два-три в очереди за хлебом, короткое забытьё в холодной каморке – и снова работа. Чужая, нелюбимая. Одна мечта – всласть выспаться, но, как назло, не спится.
Федор поднялся, подшевелил костер, снова прилёг, чтобы заснуть. Вспомнились слова Ванина: «Силов спит, а рудные точки растут в его голове».
– Нет, Ванин, сейчас не рудные точки растут, а сила для борьбы копится.
Снова в то пекло на шесть месяцев. Должен выдюжить. Борьба нарастает. И всему тому виной война. Неужели человек рожден для войны, для насильственной смерти? Нет. Он рождён для любимой работы, для счастья. Генералы друг с другом меряются умами, а солдаты расплачиваются смертями.
Большой объем изысканий выполнил Силов за лето 1916 года. С открытия полевого сезона дома был всего два дня, и снова в тайгу, на любимую работу.
Вспомнился приезд в родной хутор. Отец встретил суровым взглядом, набычился, даже руки́ не подал, спросил:
– Есть слушок, что ты стал большевиком. Так ли это, ответствуй!
– Стал, ну и что дальше?
– Я уже наслышан о вашей программе. Станешь вместе со своим Лениным грабить мой хутор, сводить крепкого мужика на нет? Мои дела по боку? Так я тебя понимаю?
– Так, но чуть не так. Ленин говорит, что земля тому, кто на ней работает. Ты работаешь на земле, тебе и жить. А вот помещики, – здесь их, правда, нет – тем придется отдать свои земли. Укоротим их разбой. Да и хапуг надо чуть попридержать.
– Значит, я хапуга? – побагровел Андрей Андреевич.
– Догадлив. Значит, что-то водится за тобой. Пока не поздно, сделайся чище. И только.
– А если останусь каким был, ты моим хутором будешь править?
– Народ будет править, ежели не одумаешься.
– Так, значит, хочешь отца и всю Россию пустить на ветер?!
– Нет. Сделать ее лучше, чище. Так что думай, тятя. Дай срок, и Россия встанет на ноги. Окрепнет так, что ни один гад не посмеет на нее напасть. А пока сидят эти недоумки, дела не будет.
– А мы восстанем супротив вас! – загремел Андрей Андреевич.
– Зря. Ить вас немного наберется. Вся Россия в окопах, вся при оружии, будет чем вас усмирить.
– Так, значит, точно быть революции?
– Точно. И кто будет путаться под ногами, тех в порошок перетрем.
– Вот ты, вот ты как заговорил, сынок! Знать, война, и верно, дело худое, ежли из тебя сделала большевика. Хватить бы тебя за патлы! Погожу. Одно скажу, что ты большевик не по убеждению, а по несчастью. Вот учитель Иван Масленников[42] – тот большевик по убеждению, с пелёнок, а ты просто пришей кобыле хвост, – пытался уязвить сына отец. – Придет время, и тебя за половинчатость к стенке поставят твои же друзья.
– Убеждение не приходит само по себе. Мог я остаться и не большевиком. Война, верно, стала тому причиной. Я избрал себе тропу и не сверну с нее. А ты тоже подумай, какой тебе тропой идти, когда выйдешь на росстань. Мнишь ты себя богачом, а ты не больше как сморчок. Даже твой Крупенской, Бринер – и те сморчки, супротив Морозовых и Путиловых. Все вы букахи-таракахи. Вот и думай, куда ногой ступить, чтобы не промочить ее. Убежденность? Не будь войны, то наш таёжный народ жил бы и дальше, считая, что он у бога за пазухой, война многим мозги просветлила. А случись заварушка, многие встанут на сторону мира, а его могут дать большевики, ибо только они не погрязли в разных сговорах и сделках. Ты в тайге можешь остаться один. Жамкнут тебя, и был таков. Ты знаешь наших тайгарей – вошкаться не будут. Сам такой же.
– Что прикажешь делать, товарищ большевик?
– Думать. Начни с того, что наш общий друг Крупенской кровно обидел твоего сына. Сунулся я к нему во дворец, а он и на парадное не пустил: грязен, вонюч, хам и таежная свинья. С этого тоже начинается большевик. От капелек делается человеком. А что мы дали Крупенскому, ты больше меня знаешь.
– На порог не пустил? – мотнул бородищей старый Силов. Его чистое, не по-стариковски молодое лицо исказилось гневом. – Не пустил? – пудовые кулаки грохнули по столу. – Врёшь!
– При встрече сам спросишь его. Счас снова укатил в Японию.
Надолго замолчали.
Даже когда Федор уходил в тайгу, Андрей Андреевич не вышел провожать его, насупленный, злой, ходил по двору, никого не подгонял. Что-то в нем надломилось. Он не считал себя равным с генералом, но и не думал, что сын его, он сам в глазах генерала не больше как подъярёмные кобылки, хамы. Глаза прищурены, крутые желваки ходят на скулах.
Федор внутренне улыбался: отец думает, отец оскорблен. Может быть, впервые в жизни он осознал отношение к себе как к ничтожеству и, встретив Анерта, потребовал от него объяснений.
– Ответствуй мне, Эдуард Эдуардович, мой сын, а это значит, и я, нашёл тысячи рудных точек, открыл десятки богатых месторождений, а какая нам будет от этого слава? А? Вот он и сейчас уходит делать то же, что делал много лет.
– Вы о чём, Андрей Андреевич? О славе, о бессмертии? Ну что, я отвечу, как ответил бы вам любой честный дворянин: не будет вам ни славы, ни почестей. Почему? Полагаю, потому, что вы мужики. Пусть талантливые, но мужики. Да, вы много делаете и сделали для России, так убеждал вас и я, и Крупенской, и Ванин. Но всё, что открыл твой сын, всё, что сделал ты, когда будут разбирать наши заслуги перед Россией, припишут Крупенскому, Ванину, Анерту, наконец. Мы открыли, мы разведали, а не вы, мужики. Нас будут помнить в веках, а не Федора или Андрея Силовых. Я вот пишу книгу «Богатства недр Дальнего Востока», в ней раза два будет упомянуто имя твоего сына, не больше. Остальное открыли мы: Ванин, Анерт и иже с нами. Всё! Мы, геологи, – народ ревнивый. Мы тоже, как и все первооткрыватели, не прочь поставить себе при жизни памятники в тайге на века. Покажи мне такого дурака, который бы отказался от первооткрывательства! Нет таких и не будет. Твой сын – проспектор, а ты наш помощник. Вы из серых кобылок, а мы горные инженеры. Большая рыбка всегда пожирает малую. Будь твой сын ученым, его имя давно бы гремело на всю Россию, на весь мир. У него глаз и нюх на камни. Но это поможет нам быть известными. На то и живут проспекторы, чтобы нас прославлять.
– Хорошо пояснил. А я-то, дурак старый, тем и жил, что, мол, не забудет меня Россия.
– Сразу забудет, как только понесут вас на погост. Генералы воюют, а не солдаты. Генералы побеждают, а не солдаты. Генералы будут праздновать победы, а не солдаты. Солдаты – ничейные люди, как и вы. Толпа, серая масса. Генералы будут праздновать победу, а солдаты расползутся по своим лачугам, чтобы зализать раны. Это правда, и правда голая, Силов. Близок тот час, когда и ты, и твой сын будете скрипеть зубами, изнывать душой и никому не докажете, что вы что-то открыли, что-то сделали. Ответом довольны?
– Премного доволен, – затаённо усмехнулся Андрей Андреевич. – Великий вы человек, Эдуард Эдуардович, такое, убей меня, никто не скажет. Или вы по-дворянски заносчивы, или вы так смелы и умны, что вам сам чёрт нестрашен. М-да… А ежли я прикажу сыну больше не искать руды, тогда как?
– Он будет искать. Он будет их нам показывать, потому что честен, да и сейчас работает на казну.
– Я ему посоветую находки свои не показывать вам.
– Опять же, честность не позволит ему обманывать нас.
– А где же ваша честность?
– Я уже все объяснил вам, Андрей Андреевич, больше не задерживаю, – кивком головы отпустил старика Анерт.
Анерт встретил Федора, дал ему инструкцию, где было написано: «Осмотреть месторождение серебро-свинцовой руды в Сухой пади, системы речки Арзамасовки, снять планы выходов рудных жил… Взять пробы… Определить падение и простирание, а также мощность серебро-свинцовой руды. Снять планы всех выработок, которые велись около села Щербаковка…»
И ни слова о плавиковом шпате, ради которого отзывался в эти края Силов, лишь строго взглянув, спросил:
– Есть слушок, что ты связался с большевиками?
– Говорят, зря не скажут.
– Не смей! Мы люди вне политики. Наше дело – искать руды, руды и только руды. Пусть политики занимаются политикой, а мы – делом.
– Волк не пойдет в собачью конуру, он будет искать волчью.
– Непонятно.
– Позже станет понятно.
Андрей Андреевич встретился с Ваниным и обратился с тем же вопросом. Ванин ответил:
– Я понимаю вас, Андрей Андреевич. Каждый человек хотел бы что-то оставить после себя: имя ли доброе, славу ли громкую. Но вы сможете оставить лишь добрую память, помогая России.
– А ежли изменить этот строй, может быть, там мы не будем забыты?
– При чем тут строй? – поморщился Ванин. – Душу первооткрывателя никаким строем не изменишь. Можно сменить сотни государственных систем, но нельзя изменить шкурнические начала человека. Для этого нужны века, тысячелетия, чтобы человек сделался чище, не столь бы пекся о своей славе, о бессмертии, если хочешь знать, эфемерном бессмертии.
– О себе не говорю, но вы хоть одно месторождение назвали именем моего сына?
– Нет. Я ни одного не назвал и своим именем. Зачем? Анерту не нужна слава, и я без нее проживу. Кому надо нас вспомнить, те вспомнят.
– А вы, Борис Игнатьевич, изворотливее будете Анерта.
– Почему же?
– Обхо́дите острые углы. Анерт будет откровеннее вас. Но суть-то одна. Прощайте! – поклонился Андрей Андреевич. А в душе – кипение, в сердце – зло.
Федор Силов вышел из тайги, выполнив задание Анерта, чтобы получить другое. Отец встретил его добрее, с какой-то грустью в глазах, еще непонятной Федору.
– Вот что, сын, ты прав, что мы нужны этим брандахлыстам, как серые кобылки, и не больше. Я прикажу тебе не искать больше руд. Хватит, сделал ты много, пусть другие сделают столько же.
– Пустое это, тятя. Ежли повадилась собака за возом бегать, то уж не отвадишь. У меня ажно тело зудится, когда я зря сижу дома. Искать камни – это тоже охота, только еще более приятная. Никого не убиваешь, а находишь – радуешься.
– Но знай, что твои начальники нигде не упоминают твое имя.
– Я знаю об этом, тятя, давно переболел этой пустяковой славой. Соль не в этом, а в радости первооткрывателя. Каждый день сулит тебе новую находку, и ты бежишь и бежишь за ней. Это хорошо, в душе песня. И пусть они не помнят нас. Придет час – и мы их забудем. Главное, надо знать, что всё, сделанное тобой – сделано для России! И не нудись за себя и меня.
Федор получил новую инструкцию, где Анерт писал: «Вам по той же программе осмотреть месторождения молибденового блеска около устья Сяо-Чингоуцзы, в верховьях реки Ванчина железную руду, месторождение серебро-свинцовой руды по Лязгоу, в трех верстах от деревни Соколовки. Анерт. Начальник Южно-Уссурийской партии Засучанского края».
Ушёл Федор, а Андрей Андреевич долго ворочался на печи. Как ни уляжется, всё жёстко, хотя под боком перина, под головой пуховые подушки. Этот гордый таежник не мог примириться с той правдой, которую получил из рук Анерта, Ванина. Думал: «Как это я, Силов, который гонял, рвал и метал, сам надрывался, чтобы сделать больше и для себя, и для России, вдруг оказался в нетях? Меня просто грабили, обманывали. А может быть, не обманывали, ведь и не спрашивал ни о чем Крупенского, Ванина. Значит, заблуждался? М-да. Что делать? Рассчитать рабочих, что продолжают работать, какая бы там ни шла война, на Крупенского, на императрицу Марию? Нет. Тогда просто вышвырнут с хутора и обесславят. Из этих лап тигровых так просто не вырваться. Может быть, прав Федька, что изжили себя наши министры-капиталисты, и царь тоже? Встать на сторону большевиков? Дело несложное. Абы в дело, абы к месту, и новой власти нужны будут руды, золото, серебро. Ни одна власть без того не проживет. Надо сказать Федору, чтобы придержал часть своих находок для новой власти, ежли она будет. Да и ванинские карты при случае прихватить не мешает. Особливо надо молчать о находке в Лудёвой пади[43]. Сгодится. Ежли всё будет народно, то и мы будем народны – всё наше…»
Далеко уходил в своих мечтах Андрей Андреевич, даже липким потом покрывался. Демократия – значит, свои рудники, свои дворцы. Полный разворот рукам и душе. Хорошо. С хрустом чесал волосатую грудь. Ванина пока не надо трогать, а будет шумок, тогда под крики и выстрелы спровадить, карты его захватить. Эти люди так просто своего не отдадут, пусть они либералы аль живоглоты – все с одного поля сжаты. Карты Ванина – это шальные деньги. Свой рудник в пади Лудёвой, рудник у Щербаковки, железоплавильный завод у горы Белой. Хватит сыновьи труды продавать за бесценок. Всем хочется пожить широко и ладно, свое имя оставить потомкам. Как ни клянут Бринера, а это он вдохнул жизнь в Тетюхинскую долину, он заставил всех зашевелиться, открыть свои кошельки. Нужны будут и Силовы. Федора – на выучку. Дело должно пойти. И тогда видно будет, что и как.
Своими мечтами поделился с Федором. Федор ответил:
– Глупые задумки. По-твоему выходит, что большевики для того затевают революцию, чтобы снова жили разные бринеры?
– Но ведь и большевикам не обойтись без бринеров? Кто им будет добывать свинец и серебро? Кто без ваниных и анертов, да и без тебя, будет руды прии́скивать?
– На первых порах, может быть, и не обойтись, потому как народ безграмотен. Но дальше нам с Бринерами будет не по пути. Это уж точно. Об этом нам говорят наши учителя, на это настраивают народ. Новая власть даст грамоту, даст новых инженеров. Бринеры же всячески будут стараться держать рабочего в серости.
– Вот здесь ты, сын, не прав. Тот же Бринер уже создал рабочие школы, потому что и ему нужны грамотные рабочие, чтобы грамотно работать на американских машинах.
– Но дальше того, чтобы работать грамотно на машинах, Бринер не пустит рабочих. У каждого монастыря свой устав. И нас господин Бринер не пустит в свой монастырь.
– Так, так… Выходит, что нам без бунта не обойтись?
– Нет, тятя, не обойтись. Он будет, он должен быть, чтобы вытянуть Россию за уши из серости и грязи. Большевики говорят, что мы не пойдем по пути Америки.
– А ежли всё же пойдем? – щурил хитрющие глаза Андрей Андреевич.
– Такое сделать проще: убрать царя, поставить на его место президента вместо Государственной Думы, коя уже провалилась, – Учредительное собрание. И живи, Россия, крепни, Россия. Это – половина мер, которая ничего не даст рабочим и крестьянам. Я тоже жил до Питера этими думами, большевики их перетрясли. Перетрясай и ты.
– Может быть, и перетрясу, буду ли я с большевиками или с кем другим, но с Россией навсегда останусь, с новой Россией.
Восток начал сереть. Так и не уснул рудознатец, мешали думы, воспоминания. В чем-то и отец прав: ежли убрать сразу всех бринеров, морозовых, то анархии не миновать. Значит, надо как-то сойтись с ними. Но как?
Федор поднялся, еще раз посмотрел на сопки, чтобы навсегда запомнить их изгиб. Если придется побывать здесь еще, то уж не заблудится. Даже не попил чаю, пошел на тропу, чтобы выйти к обеду в Улахинскую долину, в Каменку. Денек-другой пображничать у староверов. Он в последнее время часто думал о делах России, о том, что творилось в мире, и даже здесь невольно закрадывались мысли об этом. Под ногами шорох опавшей листвы, от которого шарахались в стороны звери. Под ногами то, что месяц назад цвело и благоухало. Всё стало навозом, тленом, прелью. При таком сравнении поёжился. И он, Силов, скоро может стать таким же тленом, каким стали уже миллионы людей. Не хотелось. Надо успеть найти новые рудные точки и передать свои находки в надежные руки. Что греха таить, не всё он передал Ванину и Анерту. И не передаст. Придут к власти большевики, тогда все карты откроет. А пока погодит.
Арсё и Журавушка обрадовались приходу Силова. Затащили его в пристройку, где жил Арсё, сгоношили стол, поставили туес медовухи, выпили, и потек неспешный разговор.
– Что Петроград? Каменная тайга. Заблудиться запросто можно. Народ там живет разный. И в этой разности всё переплелось: одни за царя, другие против, десятки партий. Ежли всех слушать, то можно и голову потерять, потому как каждый говорит от имени народа. А народ-то кто? Это мы, вы, рабочие. Вот кто народ. И каждый норовит на его хребте выскочить в верха, покататься, а потом отринуть за ненадобностью. Большевики – те с народом. У них всё просто, без завихрений: бело, значит, бело, а не чёрно. Другие же крутят, вертят, и пока скажут суть, такое наговорят, голова кру́гом. Не попади я в Питер, то, может, до се был бы помощником царю и его двору.
– А мы давно супротивники царя, – с порога заговорил услышавший последнюю фразу только что вошедший Сонин. – Но слиняли. Пошли за царя. Ну, здрав ли ты, Федор Андреевич? Добре. Наливайте и мне. Меня не бойся, я снова пошел супротив царя и войны. Наши хотели меня смерти предать, вернее, командир Бережнов хотел. Народ с ним не согласился. За что? Назвал я себя «большевиком Христовым».
– Таких не бывает, Алексей Степаныч. Есть просто большевики – социал-демократы. Христа они не признают.
– Пусть не признают, суть не в том. Но они супротив войны, царя и его плотогонов. Я их признаю, пусть и они меня признают. Будет бунт, я в то верю. Ну убрали мы царя, народ почал править миром. Так? Но ить народ – это стадо, а тому стаду нужен пастух, наставник, значит. Добрый наставник, ладный пастух. Есть ли у вас такой?
– Есть, Алексей Степаныч. Хороший пастух. Сам я его не видел, но кое-что читал. Ладно и складно пишет.
– Все пишут ладно и складно, говорят еще складнее, но спать приходится на жестковатой постели. Мягко стелют, а… – развел руками Сонин. – Хочу спросить больше. Вот, к примеру, убрали мы царя – он пустоголов, – а что же дальше? Куда будем девать рачкиных, мартюшевых, бережновых? А? Этих кровососов народных? Понятно, что вы хотите убрать кровососов покрупнее, а что же делать с этой мелочью?
– Вот этого сказать не могу. Как-то не задумывался.
– Ну, тогда ты ненастоящий большевик, как и Шишканов. Тот начал плести, что, мол, с такими людьми надо говорить, воспитывать, то да сё. Дураки. Эта-то мелочевка и не даст вам ходу. Они ить тоже стрелять умеют. А их в тайге нашей много. Так что же делать с мелочевкой-то?
– Не знаю.
– Ну ин ладно, потом узнаешь, что они и почем. Пошел я. Думал, ты настоящий, а ты еще так себе. Хочешь быть настоящим, то зри в корень. Вот мне бы поговорить с вашим Лениным, тот, говорят, настоящий. Денег бы не пожалел, поехал бы в Питер, чтобы душевно поговорить, правду настоящую узнать. Эх ты, охламон, под Лениным ходишь, а дела не знаешь! Ленин отсюда далеко, ежли что начнется, то кто нас поведёт? Ты? Так ты дело-то по-настоящему не знаешь. Наломаешь дров. Зряшно сгубишь народ. Понимаешь аль нет?
– Понимаю, – пристально посмотрел на Сонина Силов.
– Все вы ненастоящие! Негде мне повидать настоящего, чтобы все познать, душу свою наизнанку вывернуть. Где? Тебя спрашиваю, Силов! Знай, где они, то поехал бы в Питер, поговорил бы, все смерил, уж потом бы сук рубил. А то здесь ничего толком не знаешь, блуждаешь, как говорится, в трёх соснах. Так можно и умом трёкнуться. А ты черт-те что: назвался большевиком, а ни в зуб ногой.
В сердцах хлопнул дверью, ушёл. Ушёл со своей болью, со своим душевным стоном.
Федор тоже недолго бражничал. Начал спешно собираться, чтобы бежать домой. Побратимы пытались его удержать, мол, завтра выходим в тайгу, подбросим на конях до «кислой воды»[44]. Не удержали. Ушел. Ушел, чтобы через день-другой уехать в Петроград. Узнавать, учиться, чтобы стать хоть чуть, да настоящим большевиком.
2
В эту душевную росстань, в эту предзимнюю слякоть и распутье вернулся в Божье Поле с фронта Федор Козин. Этот отвоевался: хром, рука подвешена на грязном бинте, похудел, посерел, ко всему кашляет, будто болен чахоткой, смалит табачище. Раньше не курил. Постарел, будто ему не за двадцать, а за сорок.
Сбежались сельчане на подворье Козиных, которое запустилось и захирело без хозяина. Ждут, когда начнет рассказывать о войне фронтовик. А он молчит, будто оглушённый. Посматривает на людей, а в глазах слезы, крупные мужицкие слезы. Ждут и того, что, может быть, Козин видел кого из своих? Кое-кто продолжал думать, что фронт – это вроде деревенская улица, где можно каждый час встретить друга или недруга.
Козин молча начертил на грязи линию воображаемого фронта.
– Каждый вершок этой линии – тысяча вёрст. Можно ли запросто встретить там своего человека? А?
Замолчали. Раздумывают.
– И на этом вершке каждый час гибнет тысяча человек, собрать ту кровь – не вместится в речку нашу.
– Тогда расскажи о войне! – подался вперед староста Ломакин.
Ведь Козин – первый фронтовик за эти два года. Кто, как не он, должен знать правду?
– Война – это обычная работа, только чуть труднее, чем у пахаря. Кровей много, смерть всегда стоит за спиной. На всякой работе есть роздых, а там его нет.
– Где тебя так исковеркало-то? – пытал за всех Ломакин.
– На Австро-Венгерском фронте шли в наступление, кое назвали позже Брусиловским прорывом. Потешились ладно, почитай, четыреста тыщ взяли в плен. А уж побили сколько, то не обсказать. По людским телам катили пушки. Надрывались с дружком Петром Лагутиным, ну с тем, что обучал нас охоте. Устин Бережнов тоже был с нами. Так те сабли свои в ножны не вставляли. Бережнов – кавалерист, а мы батарейцы. В кровях тонули по колено. Все это по ночам мерещится. Тела, тела, тела, кровь и кровь. Страхотно.
– Сколько же это будет, четыреста тыщ-то?
– В нашем Божьем Поле двести душ женского и мужского пола. Значит, таких деревень можно было бы построить две тыщи. Целое таежное государство.
– Домой-то надолго?
– Это будет ведомо фельдшеру и воинскому начальнику. И судьбе тож.
Козин, уже сидя за столом, когда чуть выпил спирту, разговорился. А в глазах те же слезы. Не пристало мужику плакать, но что делать, ежли они текут и текут – непрошеные слезы.
– Видели мы, как германцы газом траванули наших. Что было! Господи, обсказать – и то страхотно. На земле валялись люди, как сутунки на речных косах. Другие еще бежали, куда-то бежали, будто хотели убежать от смерти, а она за ними. Потом ветерок крутнул в сторону германцев, и те попали под газ. Тоже навалили люду своего тысячи. И мы, наша «дикая дивизия», озверели. Отнес ветер газ, а мы следом. Казаки секли германца, спасу нет. Верст сорок гнали и рубили. Дороги, обочины дорог, поля – всё в трупах. По канавам кровь текла, как вода в распутье. Тягостно вспоминать. Не знаю, что думает люд честной, куда его затягивает коловерть? И куда затянет? А ить затянет! Сгинут и люди, и государства… Как тут у вас? Вижу, мирно, будто в глухом колодце сидите.