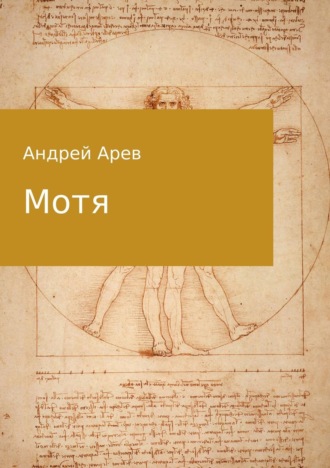 полная версия
полная версияМотя
А если кто не зимой умирает, то для них в магазине ритуальных услуг продаются такие здоровенные листы бумаги. Из них делается бумажный кораблик, какие ребятишки еще с детства учатся делать, только большущий. Выносят его на пирс, кладут туда покойника – у него шуба обычно специально тяжелая, или к рукам что-нибудь тяжелое привязывают, и отправляют кораблик в путь по Оби. Я ступила на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней, да…
Кораблик постепенно намокает и тонет. Умерший идет на дно. Всяко лучше, чем в земле гнить. Тоже, в общем-то, вечность, но не такая, конечно, не такая…
Так думал Иван Сопочин-старший, сидя в гробу и покуривая трубку в ожидании ледохода. Ему было уютно и не скучно – все земные заботы кончились, можно было спокойно сидеть и размышлять.
В это время Иван Сопочин-младший, сын Ивана Сопочина-старшего, возвращался домой. Еще не дойдя до дома, еще только увидев вдалеке его крышу, Иван-младший понял: что-то случилось.
Его не было дома две недели, и уже неделю в доме жила смерть. Уже неделю мать Ивана-младшего была мертвой; и конечно же, ее душа-лиль уже отправилась жаловаться о своей судьбе в Верхний мир, уже, вернее всего, прошла Сосновое болото Середины неба, и карабкалась на Сосновый хребет горы Середины неба, и, наверно, уже видела Водянистое море Середины неба – виданное ли дело, лежать неделю мертвой в своем доме, пока на кухне хозяйничает смерть? Долго, конечно, душу-лиль там слушать никто не будет, но все же…
Уртэ-душа отправилась в Мортым ма – Тёплые края, скорее всего, в Крым. Говорят, многие уходящие души-уртэ сейчас уходят по смерти именно в Крым. Там тепло…
Иван-младший отворил двери и окна, чтобы выпроводить загостившуюся смерть – хватит, пусть уходит, хозяин вернулся. Он давно был готов к случившемуся – мать была старой и сильно болела.
В коридоре молча стояли еще две маминых души – теневая душа, ждущая упокоения, и птица сна, которая полетит в будущее.
Иван-младший отворил чулан, и вытащил из-за сетей мамин гроб. Гроб был хороший, красивый, Нярох купил его месяц назад в местном IKEA, качественное ламинированное ДВП, верх его закруглялся как у колыбели, а низ был ровным – чтобы можно было ставить гроб вертикально. Очень хороший, устойчивый гроб, мама будет довольна. На верхней крышке были выдавлены какие-то узоры, продавец сказал – ар-нуво, кажется. Очень красиво. И крышка хорошая, плотно входит, не надо даже фиксировать, но сбоку были просверлены отверстия, и в целлофановом пакетике прилагались два винта с евроключом.
Иван-младший нарядил мать в новую ягушку, повязал красный платок с черными розами, ноги обул в новые, вышитые бисером кисы. Положил в гроб. Теневая душа свернулась калачиком в ногах мамы. Покойница словно была обижена – углы губ опущены, голова повернута к стенке гроба. "Не сердись, ома", – сказал Иван-младший, – "я не услышал тебя, далеко был". Он уткнулся лицом в ее руки и сухо, без слез, заплакал. Никто больше не будет гладить его по голове, когда ему будет плохо.
Захлопали крылья, улетела птица сна. Пора.
Иван-младший закрыл гроб, и вытолкал его из дома – дальше было проще, гроб легко скользил по снегу. Иван закрыл дом, уперся коленом в гроб, и отталкиваясь другой ногой, покатился, как в детстве на санках, к Оби. До реки было недалеко, и вскоре Иван, оттолкнувшись, сел на гроб верхом, и съехал со склона на лед реки.
На реке он расчистил от снега место для гроба, и поставил его вертикально прямо на лед. Вдалеке виднелось еще несколько торчащих из снега гробов. Где-то рядом гроб отца. Обь большая, всем места хватит…
В воздухе уже пахло весной – еще месяц-полтора, и лед вскроется, и понесет на себе гробы к океану, а навстречу им пойдут 886-е танкеры, повезут в Омск нефть.
Иван дотронулся до гроба: "Прощай, ома. До встречи".
Побрел домой.
Когда поднялся на берег – навстречу ему откуда-то вышли двое странных детей, пионеры, русские. Девочка и мальчик. Одеты тепло, но бледные, как лылытал9.
– Здравствуйте! – сказала девочка.
– Пася олэн!10 – сказал мальчик.
– Здравствуй, кась11 (младший брат). Здравствуй, агирись12 (девочка) – ответил Иван.
– Вы не могли бы нам помочь? – сказала девочка. – Мы ищем Паню Ходина.
– Кого вы ищите? – у Ивана глаза на лоб полезли. – Ходина? В своем ли вы уме, дети?
– Да, – ответила странная девочка. И мальчик кивнул согласно, поправляя пальцем очки.
«Да они же мертвые», – понял вдруг Иван. – «Мертвые пионеры. Горн рохтан суил минэгыт13».
– Оставьте меня, пожалуйста, в покое, дети, – сказал он вслух. – Вы же мертвые. Идите к своим мертвым. Войкан витуп Ас14 заберет вас.
Иван показал им на реку, повернулся и пошел к дому, бормоча про себя: «Нэматыр, нэмхотпа, нэмхот, нэмхуньт»15.
– О чем он? Я не понимаю ничего, – пожаловалась Мотя.
– Вот, – Кока показал Моте на стоящие на льду реки гробы, – это, видимо, кладбище. А товарищ сказал нам, чтобы мы с мертвыми общались. Ему, живому, с нами то ли боязно, то ли неинтересно.
– Скажите, пожалуйста, – обиделась Мотя, – ну и ладно, сами разберемся. А что он еще говорил, ты понимаешь? Матыр, хотпа… как-то так.
– Что-то про спутник, я не знаю. Лёх юрт хотпа – это «спутник» по-вогульски.
– Ух, ты! Я думала, спутник, на всех языках – спутник.
– У них тут жизнь не очень радостная. Поэтому космос детально, до мелочей разработан. Кому на земле хреново – тот всегда о космосе думает. Хус торум (звездное небо) над головой и нравственный закон внутри нас. Как-то так. Знаешь, как по-вогульски школьный музей?
– Как?
– Школьный музей. А котельная?
– Котельная? – предположила Мотя.
– Неа. Рег таратан машинат олнэ ма. Сначала согреться надо, а потом уже музей. Только зачем на музеи распыляться, когда проще свалить отсюда.
– К звёздам, я помню. И чтоб ни одна падла…
– Вот-вот, – улыбнулся Кока. – Сечешь! Ладно, пойдем покойника поразговорчивее отыщем.
Они спустились к реке, и постучали в ближайший гроб.
Крышка в ответ приоткрылась, из гроба вылетел какой-то дымящийся шар, и снова закрылась. Мотя не успела ничего понять, как Кока схватил ее в охапку, и плюхнулся вместе с ней в сугроб. Донесся звук взрыва.
– Однако, – сказала Мотя, выплевывая снег. – Что это вот сейчас было?
– Это называется «граната Хозяинова». В тридцатые, перед Казымским восстанием, к остякам отправили для разрешения назревающего конфликта руководителя Казымской культбазы Шершнева и председателя Интеграл-союза Хозяинова. Но эти посланцы, однако, прибыв на факторию базы Уралпушнины, занялись не переговорами, а производством самодельных гранат – выбирали серединку редьки, насыпали туда порох, а вместо взрывателя вставляли фитиль из ниток.
– Какие затейники… Граната Хозяинова, бронесани Соколова – северные войны такие утомительные…
Из гроба слышалось: Благословен будь Господь, скала моя, обучающий мои руки войне и мои пальцы – битве. Он – милость моя и крепость моя, прибежище мое и избавитель мой, щит мой16.
– Дяденька, мы поговорить хотим! – крикнул Кока. – Не бросайте больше гранат, мы свои, мертвые.
Крышка приоткрылась.
– Что ж вам не лежится спокойно, раз мертвые?
– Мы Паню Ходина ищем. Дело у нас к нему.
– Ого! – крышка открылась шире, и стало видно сморщенного старика-вогула, удобно в гробу расположившегося, и посасывающего трубку. – А что именно Паню?
– Хотим про нефтяное сердце у него узнать.
– Ооо, – глаза старика, и без того мертвые, сразу потухли, – нефть ос газ киснэ разведка17… Вы, русь, и после смерти никак не успокоитесь? Не надоело вам? Уходите, не хочу с вами говорить. Чичикова ищите, Павла Ивановича.
Крышка захлопнулась, и пионеры услышали: Положи слезы мои в сосуд у Тебя, не в Книге ли они Твоей?18
– Вот и поговорили… – сказал Кока. – Чичиков… разве что это тот, про которого я думаю…
– А про которого ты думаешь?
– Павел Иванович Чичиков, миссионер Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, прибыл в Юдольский острог в 1831 году крестить в мормонизм души умерших остяков и вогулов, у мормонов это разрешается. А у остяков и вогулов по нескольку душ у каждого, у женщин 4-6, у мужчин 5-7, очень удобно.
– Так это когда было!
– Говорят, что он до сих пор здесь. Или его потомки, не знаю. Итак, нам нужно найти троих: Ходина, Чичикова и Гугеля. Что-то мне подсказывает, что Гугеля мы найдем проще всего, да и покойный Ятыргин про него говорил. Пойдем, чем-нибудь перекусим? С утра ничего не ел.
Мотя и Кока поднялись от реки в город, подошли к первому попавшемуся киоску-чуму, и купили у нарядной вогулки шаурму-норд – в лаваш заворачивался мелко порезанный лук, квашеная капуста с брусникой, маринованные рядовки и строганина из оленины или муксуна. Все это не обжаривалось, а наоборот, немного подмораживалось. От ста граммов водки, полагавшихся бесплатно за две купленных шаурмы, они отказались. Справа от окошечка висело меню, где для гурманов предлагались прессованный с бычьей кровью плиточный чай, шаурма-норд-люкс с копальхемом и распаренными сушеными мухоморами, и джем из зимнелики, а над меню лозунг – Нифльхейм ждет тебя!
– Ого, – сказала Мотя, кивая на лозунг, – зачетно. Бар "Вальхалла", мастерская ногтевого сервиса "Нагльфар"…
– Дом культуры "Глядсхейм", дворец пионеров "Хвералунд", – продолжил Кока.
Вогулка в чуме улыбнулась, что-то покрутила, и из динамиков, закрепленных над окошечком, загремело:
Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen,
Tod und Vezzweiflung, Tod und Vezzweiflung
flammet um mich her!
Мотя кивнула ей и показала большой палец: здорово! Вогулка улыбнулась еще шире. Тогда Мотя поднялась на скамеечку, стоявшую перед киоском, и почти по плечи влезла в окошечко: а не скажете, где нам Гугеля найти? Академик такой.
Вогулка закивала и, указывая за спину Моти, сказала: Маргите.
– Спасибо! – поблагодарила Мотя и спрыгнула со скамеечки.
– Что она сказала? – спросил Кока.
– Не знаю, – пожала плечами Мотя. – Какое-то Маргите.
– А, ну это улица такая. Улица Маргите, центральная, в честь партизанки.
– Обычно же центральная – это Ленина, – удивилась Мотя.
– Сюда во время войны Ленина из Мавзолея эвакуировали, он тут в вечной мерзлоте хранился. Говорят, кстати, он тут до сих пор покоится, а в Мавзолее – дубликат. Ну и чтобы не раскрывать место, где он лежит, решили центральной эту сделать. Улица Ленина тоже есть, но она не центральная. Пошли, городок-то небольшой, быстро найдем.
И они пошли.
5
Дом академика, действительно, нашелся довольно быстро. Под табличкой «улица Маргите, 142» находились кованые ворота и стеклянная будка КПП, в которой сидел дежурный офицер. За воротами, в глубине небольшого сквера, виднелся дом академика.
– Вооот, – сказала Мотя. – Что будем делать? Сюда-то у тебя пропуска нету, небось?
– Нету, – согласился Кока.
– И один лишь попка на вышке торчит, но ему не до спящих масс, он занят любовью – по младости лет свистит и дрочит на Марс, – сказала Мотя, кивнув на дежурного. – Ладно, отвлеки его, я сейчас.
И ушла.
Кока постоял растерянно, не зная, что предпринять, и, в конце концов, не нашел ничего лучше, чем ходить взад-вперед перед КПП, вскидывать руку в римском приветствии и декламировать по-немецки одну из речей Гитлера.
Дежурный сначала не замечал странного мальчика, но потом отвлекся от своих кроссвордов, и глаза его полезли на лоб. Он расстегнул кобуру и потянулся к телефонной трубке, как вдруг схватился обеими руками за горло, упал набок, начал сучить ногами, и вскоре затих. Из-за его спины поднялась с пола Мотя, наматывающая на руку гарроту. Она подошла к пульту, и Кока живо юркнул в открывшуюся щель.
– Раньше, чем хорошо было – вышел на улицу, и сразу все, что нужно, нашел. Хочешь – проволоку, хочешь – карбид, хочешь – бертолетову соль, – Мотя смотала примитивную гарроту из куска медной проволоки и двух деревянных чурочек, и сунула в фартук. – Потом, когда на Советский Союз упала Луна19, вот так и стало – чего ни кинешься, ничего нет. Очень неудобно. Думала, этот лейтенант уже в тебе новых дырок понаделает, не успею.
Мотя приложила два пальца к верхней губе, вскинула руку и захихикала. Рассмеялся и Кока.
– Тсс! Пойдем, – Мотя пригнулась и юркнула в кусты, тянущиеся вдоль забора. Кока двинулся следом.
Возле дома Мотя осмотрелась, разулась и босиком, на цыпочках, пробралась к двери мимо караулки, осторожно открыла дверь и вошла. Кока огляделся и вошел тоже, аккуратно прикрыв дверь.
– Слушай, – сказала Мотя, – тут камеры везде. Ты бы не мог караульных чем-нибудь отвлечь? А то не хочется воевать с окружным управлением ФСБ, им же стыдно потом будет.
Кока кивнул согласно, и вышел из дома. Мотя разглядывала внутреннее убранство – музей, а не дом академика. Эрмитаж с нефтяным уклоном. В одной из комнат она увидела в застекленных рамах карты Советского Союза и РФ, в рыжих разводах от слез академика – на самой первой карте были видны карандашные пометки Сталина.
Вернулся взъерошенный Кока, он то и дело поправлял очки и тяжело дышал.
– Как прошло? – прошептала Мотя.
– Нормально, – ответил Кока, – ушли кататься.
– На колесе сансары? В страну вечных обысков и задержаний?
– Ага, – вздохнул Кока, – а чего мы шепчемся?
– Академик спит, – ответила Мотя – Хотя, да, пора его будить.
Она вошла в комнату Гугеля и сказала: Академик-академик! Проснитесь, пора умирать.
Гугель медленно открыл глаза. Мотя улыбалась. Академик минуты полторы разглядывал Мотю, ее мертвое заострившееся лицо, школьную форму, торчащие из кармашка фартука ручки гарроты, босые ноги, потом сел в кровати и проскрипел сухим со сна голосом: Наконец-то.
– Ждали нас? – удивилась Мотя.
– Конечно, – ответил академик. – Должно же было все это когда-то кончиться.
– И вы знаете, что мы ищем?
– Нет. Но вы же мне расскажете.
Мотя и Кока уселись рядом с кроватью академика, и рассказали ему все, начиная с Янтарной комнаты. Вернее, рассказывал преимущественно Кока, а Мотя разглядывала комнату, торопиться им всем было некуда, и ребенок-академик внимательно слушал, развалившись в своей кроватке под портретом св. Гонория Амьенского. Пока Кока рассказывал, Мотя совсем перестала церемониться, нашла в доме чайник, и вскоре все трое пили чай с малиновым вареньем.
– Хорошо, – сказал Гугель, ставя пустую чашку на пол возле кроватки, – Вам нужно найти нефтяную вышку – башню Сатаны и сбросить туда Чичикова. Вышка эта стоит в Баженовской свите, где обитает Шаб-Ниггурат, Чёрный Козёл Лесов с Тысячью Младых, божество извращенного плодородия. Он выглядит, как облако с длинными чёрными щупальцами, роняющими черную нефтяную слизь ртами, и короткими козлиными ногами. Из облака постоянно вываливается куча рождённых им разных мелких чудищ, которых оно извергает из себя, а потом тут же съедает. Скважина постоянно подпитывается телами гастарбайтеров и вахтовиков, специально для этого создана Курганская область, вернее, область-то была образована еще в 1943 как кормовая база соседнего Полярного Урала, такой большой колхоз, дающий мясо, молоко, зерно, овощи и прочее. Потом, когда решили, что нефть главнее, сельское хозяйство в области убили, но кормовой базой она быть не перестала.
– Вы еще скажите, что Союз тоже под это дело развалили, – хихикнула Мотя.
– Конечно, – невозмутимо ответил академик. – Одной-то области мало, а где взять еще людей? Поэтому славянское мясо разбавили азиатами. Ну и не только азиатами, с Украины, например, много ехало. Кто помоложе – решали остаться там насовсем, пожить по-человечески, вырастить детей и прочая. Ну, потом, на пенсии, вернуться на малую родину, может быть… И вот ты обустроился, оброс жирком, дети уже подросли – и тогда к тебе приходят. Обычно их почему-то трое. Вежливые. Вежливо проходят с тобой на кухню, вежливо сообщают, что настал священный долг твоей семьи пополнить скважину №…, что все вы – герои, что ваши имена – в скрижалях, что надо просто – стать нефтью. Всего-то… Газпром всегда думает о вас. Ерун Антонисон ван Газпроом.
Гугель помолчал.
– Шаб-Ниггурат пожрет Чичикова, – продолжил академик, – и лопнет от количества душ, которыми он насквозь пропитался. Про Чичикова-то знаете? Ну вот. Если это получится, то вам нужно будет бросить в скважину сердце хлыстовской Богородицы, чтобы нефтяное сердце приняло нужную форму, потом красный лед и ягоды зимнелики.
– Земляники? – переспросила Мотя.
– Нет, зимнелики. Ягода такая, – академик сунул руку под матрас и вытащил оттуда бумажную папку-скоросшиватель. Он расшнуровал ее, вытащил пару листочков, исписанных химическим карандашом, и протянул их пионерам.
– «Зимнелика (лат. Glaciema) – прочел Кока, – род многолетних травянистых растений семейства Розовые. Включает в себя как дикорастущие виды (например: зимнелика лесная, полевая, зелёная, зимнелика настоящая и т. д., так и те виды, которые существуют в дикой и культурных формах (например, зимнелика мускусная, мускатная).
Распространена в Евразии и Америке.
Листья тройчатые, сложной формы, на длинных, достигающих высоты в 10 см стебельках; побеги ползучие, укореняющиеся.
Корневая система мочковатая, глубина залегания корней – от 4,44 м до 687,7 м. фактически это глубина многолетней криолитозоны, известной так же, как "вечная мерзлота".
Соцветие – многоцветковая друза. Цветки, как правило, обоеполые, опыляются снежными буранами, располагаются на длинных цветоносах, которые отходят розеткой от корневой шейки. Лепестки обычно белые, иногда желтоватые; много тычинок и пестиков.
Плоды зимнелики – апокарпные (то есть сложные, или сборные) ложные плоды типа стирия, или зимнеличина. Представляют из себя круглую белую ягоду, похожую на крохотный снежок. Считалось, что сиртя лепят из ягод зимнелики снеговиков. Перед снежным бураном ягоды обычно светятся голубым цветом.
Цветение зимнелики в Сибири, на Крайнем Севере и приравненным к нему местностям продолжается с конца ноября до начала созревания ягод (обычно начало января).
За Полярным Кругом она особенно ароматна и так обильна, что молоко песцов, живущих в нетронутых заснеженных просторах, имеет иногда клубничный аромат. (Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. – С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.)
Ягодами зимнелики в основном питались мамонты, поэтому, с окончанием Вислинского оледенения и сокращением кормовой базы последние вымерли (Великое голоценовое вымирание).
Геном зимнелики лесной был секвенирован. Он содержит 34809 генов, что примерно в полтора раза больше, чем в геноме человека.
Плоды помогают при солнечных ожогах, гиперинсоляции и гипервитаминозе витамина D. Кроме того, помогают легко переносить холод. Существуют непроверенные данные о плантациях зимнелики в Антарктиде, на секретной базе III Рейха "Новая Швабия". В 1966 Джоном Ленноном об этом была написана знаменитая песня Iceberry Fields Forever.
Плоды растения издревле употребляются человеком в пищу. Существуют свидетельства её употребления человеком ещё в мезолите.
Обычно из зимнелики делают варенье, которое традиционно едят летом, в сильную жару».
– Вот-вот, – закивал академик, – и там про красный лед дальше, читай.
Кока взял второй листочек и прочел: «Когда идет снег, если внимательно присмотреться, стоять достаточно долго, не двигаясь, и смотреть – то можно увидеть снежных пчел. Стоишь, заносимый снегом, и вдруг краем глаза видишь, что какая-то из снежинок делает странный пируэт – всего лишь порыв ветра, понятно же.
Тем не менее – это пчелы, собирающие что-то среди падающих снежинок. Их очень мало, этих пчел. Сильные снегопады сейчас уже редкость. Первыми о снежных пчелах узнали народы Севера, именно поэтому в 1945 году постановлением СНК СССР «О мерах по развитию пчеловодства» в фактории Хальмер-Седе (ныне село Тазовское, ЯНАО) был открыт Институт Арктического пчеловодства им. Бутлерова (ранее – Институт Северной Пчелы им. Аристотеля). Институт курировался НКГБ, видимо, именно поэтому еще в 80-е среди абитуриентов Новосибирского военного училища ВВ МВД (ныне – НВИ им. генерала армии И. К. Яковлева войск нацгвардии РФ) можно было видеть абитуриентов, поступающих "учиться на военного пчеловода".
Дело в том, что неправильные пчелы дают неправильный мёд, верно? Снежные пчелы дают так называемый "красный лёд" – малые объёмы этого вещества бесцветны во всех агрегатных состояниях, однако в больших объёмах они приобретают ярко выраженный тёмно-красный оттенок.
Мёд снежных пчел обладает рядом уникальных свойств, самым заметным из которых является то, что при воздействии температуры "красный лёд" ведет себя противоположно воде: переходит в жидкое состояние при температурах от −100 °C до 0 °C, и переходит в твердое состояние при температуре выше 0 °C. При температуре ниже −100 °C объект переходит в газообразное состояние, схожее с паром, но под высоким давлением сохраняет красный цвет.
При контакте "красного льда" с живым человеком или животным начинается неуправляемая реакция, в ходе которой жидкости в теле субъекта преобразуются в "красный лёд", который затем переходит в твёрдое состояние под воздействием тепла тела субъекта (из-за большой внутренней температуры млекопитающие больше других подвержены этому воздействию). Поскольку "красный лёд" при заморозке выделяет тепло (также, как и обычный лед поглощает тепло при плавлении) процесс самоповторяется, пока вся доступная жидкость не будет заморожена или процесс не будет прерван внешним вмешательством. Первичный контакт: человек или животное входит в контакт с "красным льдом", который наделяет всю воду в поражённой поверхности (как правило, коже) своими свойствами.
На коже формируется тонкий слой инея, т.к. тепло тела и выделяемое "красным льдом" тепло повышают его температуру выше точки замерзания. Переход к этому этапу занимает от пяти минут до одного часа, в зависимости от температуры тела субъекта. На этом этапе затвердевание начинает проникать через внешние слои эпидермиса и вскоре достигает живых клеток.
Далее, экспоненциальное увеличение температуры "красного льда" приводит к распространению кристаллов льда внутри тела субъекта. Расширение льда при замерзании ведёт к масштабному разрушению клеток тела. Потеря крови на этой стадии минимальна, т.к. колотые раны быстро заполняются кристаллами. Субъект может оставаться в живых и находиться в сознании до нескольких часов, после чего наступает смерть в результате полиорганной недостаточности и потери крови из-за системной кристаллизации».
– Вот так, – снова покивал академик, – если все это получится, то примерно через час после того, как все нужные компоненты будут соединены, вы получите нефтяное сердце.
– А где взять красный лед и зимнелику?
– Ну как же? Это же очевидно! У Ходина, – академик поправил очки прямо-таки Кокиным жестом. Они вообще выглядели как старший – Кока, и младший – Гугель, братья.
– А сердце хлыстовской богородицы – у хлыстовской богородицы?
– Точно! – улыбнулся академик.
– И кто у нас хлыстовская богородица нынче?
– Ну ты чего, Мотя, – сказал Кока, – это даже я знаю. Светлана Владимировна, конечно.
– Ого! И где вы собираетесь взять сердце Светланы Владимировны?
– Мотя, ты где была последние лет десять? На Луне?
– Нет, а что? Хотя, ты знаешь, сейчас все чаще думаю, куда делись последние 10 лет? Вообще себя не помню, ни школу, ни садик… – растерянно сказала Мотя.
– Императрица Елизавета Петровна Романова, она же Елизавета I, дочь Петра I, помнишь такую? Так вот, на втором году правления явился ей ангел, убедивший императрикс отказаться от власти, ибо царство ее не от мира сего. Оставив вместо себя на русском престоле двойника – фрейлину или служанку, Елизавета уходит в метель в синем плаще с посохом; в Орловской губернии, леди Макбет Мценского уезда, встречает хлыстов и становится их богородицей Акулиной Ивановной. Не хочу, говорит, быть царицей, Елисаветой Петровною, хочу быть церковью соборною. Только Разумовский, бывший, по слухам, ее любовником, отказывается признать в подменыше царицу, находит у хлыстов Елизавету-Акулину, и зовет хлыстовскую богородицу обратно на престол – та прогоняет его. Короче, на престоле остается двойник, а Елизавету-Акулину казнят, и перед смертью она пророчествует, что её блуждающее сердце влетит как в окно в открытую грудь, и воплотится в новой хлыстовской богородице. На плахе она, как Данко, открывает грудь, вынимает большое алое сердце, поднимает его высоко и бросает в толпу. Ну, и потом весь этот бардак с Петрами третьими, Петр III ее преемник был, ты же помнишь? То есть, мало того, что на престоле непойми-кто, так еще и по стране потом сорок бочек петров-третьих бродит, восстают из своих березовых гробиков и карнавалят почем зря. И еще эта мутная история с Анной Леопольдовной, в общем время было веселое.

