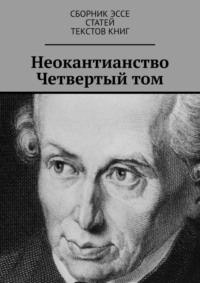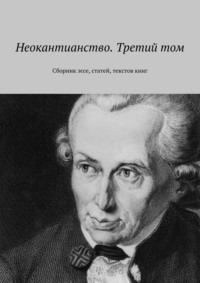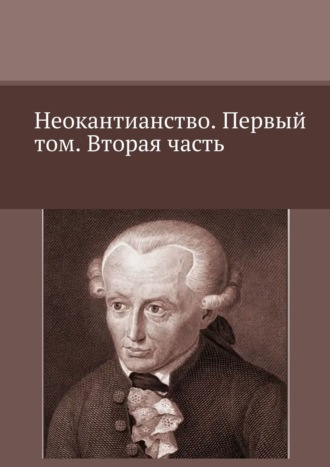
Полная версия
Неокантианство. Первый том. Вторая часть
На место кантовской идеи о том, что причинность потому и является необходимым условием опыта, что она определяет объективную временную связь явлений, ЛИБМАНН ставит то рассуждение, что причинный вывод создает опыт в первую очередь, т.е. использование причинности предшествует опыту, а потому не может быть выведено из него. Опыт возникает из того, что мы выводим внешние причины наших субъективных ощущений на основе категории причинности (15). Это доказательство ЛИБМАННА (ШОПЕНГАУЭРА) может быть опровергнуто прямо и косвенно. Во-первых, первому применению причинности, которая якобы создает опыт, предшествует некий опыт или, по крайней мере, восприятие, поскольку мы, очевидно, должны иметь ощущения, прежде чем сможем вывести внешние причины.
В конце концов, вполне возможно, что субъект сначала просто имеет разнообразные ощущения без представления о внешних причинах и лишь позднее подводится к идее причинности и предположению о внешних субстанциях благодаря некоторым особенностям этих ощущений (т.е. a posteriori), например, регулярной последовательности или постоянству определенных комплексов ощущений. Кстати, вся эта теория бессознательного рассуждения имеет весьма сомнительный характер. Взгляд ЛИБМАННА косвенно опровергается тем, что солипсизм представляется нам возможным. Если бы предположение о причинности в понимании Л. ЛИБМАННА было непреложной необходимостью мышления, то солипсизм, отрицающий внешние причины наших ощущений, должен был бы казаться нам невозможным. В действительности солипсизм лишь чрезвычайно маловероятен, а не просто невозможен, и даже эта малая вероятность основана не на стремлении предположить внешние причины наших ощущений, а скорее на том труднопонимаемом солипсизмом факте, что многие явления могут быть объяснены, только если предположить, что существуют процессы или вещи, которые человек не воспринимал или не воспринимает. Более того, даже если бы это доказательство было достоверным, оно лишь частично доказывало бы априорность категории причинности. А именно, только в той мере, в какой на основании этой категории мы предполагаем, что каждое событие было вызвано (обусловлено) другим событием. Но эта категория содержит еще больше и гораздо более важные вещи, а именно мнение, что одни и те же причины всегда имеют одни и те же следствия. Только в этом смысле причинность делает возможной естественнонаучную теорию. В этом смысле, однако, никогда не удастся доказать, что она делает опыт возможным в первую очередь. Уже в этих рассуждениях психология играет гораздо большую роль, чем в кантовской эпистемологии. Однако ЛИБМАНН по-прежнему выдвигает чисто психологические и эмпирические аргументы в пользу априорности (как и другие новокантианцы) (16), хотя КАНТ уже понял, что этот путь не может привести к цели. Поэтому он неустанно указывает на то, насколько эмпирический мир зависит от нашей субъективной организации. Человек с разными органами чувств имеет перед собой разный мир. Если бы глаза были расположены на теле по-другому, мы бы воспринимали мир с совершенно иными пространственными отношениями. Тактильное пространство не идентично визуальному. Перцептивное пространство вообще является лишь относительным и зависит от соответствующего положения нашей головы. Опыт никогда не предлагает нам абсолютного пространства. Поэтому оно является просто мыслью, изобретением, творением нашего интеллекта, как и абсолютное время (17). Все эти и многие подобные аргументы, выдвинутые ЛИБМАННОМ и другими, ничего не объясняют по поводу того, что здесь важно – законодательства духа, субъективности пространственных, временных и причинно-следственных отношений. Человек с другими органами чувств может доказать только то, что перед ним был бы качественно иной мир, а не мир с другими законами. Пространственные законы и отношения нашей геометрии выражаются не нашим тактильным или визуальным пространством, а объективным пространством, производным от этих субъективных пространств. Это объективное пространство не придумано или сфабриковано, а выведено, и в нем и осязательное, и зрительное пространство, несмотря на их различия, ведут путем вывода к тому же самому объективному пространству, к которому мы пришли бы, если бы наши глаза находились в других частях тела. ЛИБМАНН, однако, даже пытается прямо показать, что понимание, мышление предписывает природе законы. Он ссылается на логику фактов, которая заключается в том, что в природе действительно и непогрешимо происходит все то, что можно логически вывести из фактов и из законов природы, то есть природа эффективно подчиняется логическим законам, чистым законам мышления (18). Но это ничего не доказывает. Как известно, в результате умозаключения никогда не может быть больше, чем в предпосылках. Так и в этой логике фактов «действующий закон природы» уже содержится в предпосылке, что при таких-то и таких-то условиях должно произойти то-то и то-то. Поэтому неверно говорить, что природа подчиняется логическим законам. Эти логические законы ничего не предписывают природе.
Итак, в основе всех этих аргументов и рассуждений лежит мысль, на которой базируется любое идеалистическое направление, не только кантовское: мысль о том, что воспринимаемый нами эмпирический мир является лишь перцептивным, воображаемым, сознательным содержанием. Однако это утверждение верно лишь в определенном и весьма ограниченном смысле. Установить это более точно и придерживаться его – не праздная задача, потому что на этом утверждении основаны самые своеобразные и удивительные философские недоразумения. Конечно, эмпирический мир, насколько я его реально воспринимаю, есть нечто воспринимаемое мной. По крайней мере, это можно выразить, назвав его содержанием восприятия. Однако это говорит не более чем о том, что он воспринимается мной, т.е. что я знаю о его существовании, но ни в коем случае не о том, что он существует только как идея в моем сознании. Объект может существовать независимо от меня и при этом восприниматься мной. Если я вижу пролетающую птицу, то-то, что я вижу, ни в коем случае не должно быть просто идеей во мне, которая пролетает мимо, независимо от того, вижу я ее или нет. Видение птицы – это не что иное, как интуитивное знание того, что она пролетает мимо. Это видение (знание), безусловно, является психическим процессом во мне, в моем сознании. Но то, что я вижу, вполне может существовать вне меня и независимо от меня. Но вот появляются физика и психология (физиология), которые неопровержимо доказывают мне, что я должен безоговорочно вычесть из воспринимаемого мною мира по крайней мере субъективные (вторичные) качества чувств, если хочу знать, как он выглядит вне меня. Отсюда, казалось бы, ясно следует, что этот красочный, наполненный шумом мир может обитать только внутри меня, поскольку мир, существующий независимо от меня, лишен света и звука. Но даже теперь это еще не обязательно. Это все еще может быть мир, который действительно существует вне меня, который я воспринимаю, но который я украшаю красками, звуками и всеми другими чувственными качествами. Если возразить, что этот мир, когда он украшен, отличается от того, который не был украшен, то вся проблема превратится в спор о том, что понимать под «другим». В определенном смысле стол, у которого отломали ножку, «отличается» от того, каким он был, и можно спорить о том, следует ли говорить, что это тот же самый стол или другой. Если мы скажем, что это тот же самый стол, на котором изменились лишь некоторые вещи, то недоразумений будет меньше или не будет вовсе, в то время как при другом обозначении будет не совсем ясно, не убрали ли первый стол и не поставили ли на его место другой. Эта чисто лингвистическая трудность не должна мешать нам понять, что мы можем воспринимать нечто с другими качествами, чем оно имеет, подобно тому, как мы видим лампу, которая не является зеленой, через зеленое стекло.
Тот факт, что мы по-разному воспринимаем мир через очки наших сенсорных качеств, не обязательно означает, что мы не воспринимаем реальный мир, существующий независимо от нас. Давайте подумаем, например, о том, что я прикасаюсь к камню. Из всей субъективности ощущений, которые я при этом испытываю, еще не следует, что я воспринимаю только свое сознательное содержание, но остается вполне возможным, что я держу в руках реально существующую вещь. Вся физика и физиология доказывают только то, что ощущения, вызывающие во мне сознание того, что я держу что-то в руке, находятся только во мне. Но те же науки предполагают даже в этом доказательстве, что я действительно держу что-то в руке. В случае со зрением дело обстоит несколько сложнее. Но и здесь еще никто не доказал, что видимый объект находится внутри нас. В нас находятся только те ощущения, которые позволяют нам знать (видеть), что объект [ansich Irgendetwas – wp] существует вне нас. Теперь, конечно, можно возразить: Если ощущения находятся во мне, то эмпирический мир также должен находиться во мне, поскольку он содержит только комбинацию ощущений и ничего больше. Но это совершенно неверно. Камень, который я держу в руках, является частью эмпирического мира. Но он отнюдь не является простой смесью ощущений и вполне может быть реально существующей вещью, даже если все, с помощью чего я думаю, что знаю о его существовании и природе, – это ощущения во мне. Строго говоря, субъективность ощущений лишь доказывает, что вывод о реальных вещах не является убедительным, что, возможно, мир – это лишь наше воображение (солипсизм). Но он также может быть чем-то воспринимаемым, и это гораздо больше, чем простое восприятие.
Конечно, мы не можем доказать и этого. По этой причине, однако, он остается выводом о возможности, который почти эквивалентен уверенности в том, что мы видим и осязаем реальные объекты, даже если мы знаем, что видим и осязаем их только посредством субъективных ощущений. Таким образом, вся ошибка идеализма состоит в том, что он ищет мир как таковой вне эмпирического мира, тогда как это, вероятно, сам эмпирический мир после вычета всех субъективных примесей. Другой вопрос теперь в том, сколько нужно вычесть субъективного. Здесь ЛИБМАНН совершает большую ошибку, утверждая, что мир-в-себе ни в каком отношении не похож и даже не соизмерим с миром видимостей (19).
ЛИБМАНН полагает даже, что это доказывается физикой и физиологией. Эти науки, однако, доказывают неравенство (даже не строгую несоизмеримость) только в отношении так называемых вторичных качеств. В случае первичных качеств они даже предполагают соизмеримость, почти равенство. Это предположение не только неизбежно, поскольку в противном случае исчезла бы исходная точка этих наук, но и может быть подкреплено соображениями вероятности. Наибольший вклад в осознание того, что качества органов чувств субъективны по своей природе, вносит тот факт, что каждое чувство дает различные качества. Аналогичным образом, мысль о том, что та часть чувственного восприятия, которая, в отличие от качеств чувств, одинакова во всех чувствах, может быть объективной частью чувственного восприятия, напрашивается сама собой. Эта общность всех чувственных восприятий есть не что иное, как ощущение чувственного восприятия, которое как бы присуще всем другим чувствам, является их основой, а именно чистое чувство осязания. Такое чувство, конечно, является лишь абстракцией, не существует в реальности и является, так сказать, лишь частью каждого другого чувства, кроме качеств, соответствующих его специфической энергии. Нервные окончания реагируют только на прикосновение (которое должно присутствовать и в химических раздражителях). Вместо того чтобы просто сообщить об этом прикосновении центральному органу, природа нервной субстанции (нерв или мозг) играет роль в формировании ощущения, к которому примешиваются субъективные элементы (качество ощущения). Чувство осязания также не является чистым чувством осязания.
Он примешивает к ощущениям тепла и другие качества. Тот факт, что именно первичные качества (протяженность, форма, движение, твердость и т.д.) соответствуют ощущениям этого чистого чувства осязания и представляют собой постоянный и общий элемент всех чувственных восприятий, является очень веским основанием для того, чтобы считать их объективную достоверность вероятной. Но даже если бы мир-в-себе был непространственным и вневременным, в строении и отношениях эмпирического мира и мира-в-себе все равно была бы возможна соизмеримость, даже одинаковость. Вот почему главный кантовский вопрос «Откуда берется законность в природе?» имеет такое огромное значение. Если бы закономерные отношения в эмпирическом мире также предписывались рассудком, т.е. имели субъективный характер, тогда действительно все, чему учит нас опыт, пришлось бы отбросить как субъективное, и не осталось бы моста к возможному познанию объективного, к метафизике. Но до тех пор, пока это не доказано, метафизика остается возможной. Как она возможна и в каких пределах, мы обсудим позже.
Уже в первом сочинении ЛИЕБМАННА было высказано мнение, что он не желает также охотно принимать последствия кантовской доктрины. В то время ЛИБМАНН сопротивлялся именно метафизическим последствиям. В своих последних работах он предпочитает сопротивляться антиметафизическим последствиям. В принципе, в обоих случаях проявляется реалистическая черта, которая есть в каждом благоразумном мышлении. Просто ЛИБМАНН считал, что в одном случае он нашел реалистический момент в отказе от метафизики и ограничении опытом, в то время как позже он понял, что любой реализм требует метафизических точек опоры. Никто не показал яснее, чем ЛИБМАНН, что ограничение науки чистым опытом даже не мыслимо, что каждая эмпирическая наука должна выдвигать гипотезы (интерполяционные максимы опыта), чтобы быть вообще возможной (20). Принцип причинности, как и принцип закономерности в целом, является такой гипотезой, которая делает возможным научное рассмотрение опыта в первую очередь (21). Если встретить подобные взгляды у ЛИБМАННА, то почти напрашивается вывод, что он действительно освободился от КАНТА. Ведь причинность теперь представляется не как условие возможного опыта, а как необходимая предпосылка возможной науки об опыте, не как предписание понимания, а как его предположение. Но даже эта мысль, которая кажется подходящей для аннулирования основной идеи кантовской системы, теряет у ЛИБМАННА всю свою ценность из-за последствий кантовского влияния. Ведь он подчеркивает, что необходимость этой гипотезы заложена в нашей интеллектуальной организации, тогда как ясно, что эта гипотеза навязана нам опытом, тем фактом, что опыт кажется способным к научному рассмотрению.
Подводя итог, можно сказать, что доказательство этих первых двух утверждений, в которых выражена основная идея кантианства и неокантианства, до сих пор не дано. Совсем не обязательно опровергать эти пропозиции напрямую. Достаточно опровергнуть их доказательства, чтобы сохранить возможность метафизики. Третье утверждение, отрицающее эту возможность, является следствием первых двух утверждений и теряет всякое основание, всякое оправдание, если первые утверждения не доказаны.
III. метафизика
ЛИБМАНН не придерживался точки зрения своего первого сочинения. Вещь-в-себе, столь осмеянная и высмеянная там, играет чрезвычайно важную роль в его поздней философии. Там она называется natura naturans [творческая сила как первооснова вещей – wp], это другая сторона мира видимостей, первозданная мать, из чрева которой субъект и объект возникают в своей неразрывной взаимосвязи, это темная бездна истинного бытия, возвышающаяся над пространством, временем и причинностью, мир за пределами, о котором прорицают все религии (22).
Да, в своих последних работах Либманн даже признает науку о реально существующем, метафизику, но с оговорками (23). При этом, однако, он впадает в ошибку другой крайности. Как, с одной стороны, с кантовской точки зрения невозможно избежать следствия возможной безкатегориальной вещи-самой по себе, так, с другой стороны, эта точка зрения делает фактически невозможной любую науку о вещи-самой по себе, любую метафизику. В самом деле, при ближайшем рассмотрении метафизики Л. ЛИБМАННА вскоре выясняется, что критическая метафизика означает не что иное, как сознательно некорректную метафизику. Ведь там он набрасывает общеизвестное мировоззрение современного естествознания с определенными колебаниями между материализмом и дуализмом, но не забывает ограничительное (критическое) замечание, что это мировоззрение набросано под принуждением интеллектуальных форм, которые он сам хочет доказать как субъективные в своей эпистемологии (24).
Такое мировоззрение может иметь большую ценность для естественных наук, но как метафизика оно совершенно бессмысленно, если его истинность опровергнута в той же книге. Это была бы метафизика, которая нуждалась бы в более высокой, (однако неосуществимой) сверхметафизике, чтобы дополнить ее. Таким образом, в своей последней философской точке зрения ЛИБМАНН столь же непоследователен в прямо противоположном направлении, как и в своей первой точке зрения. Если пространство, время и категории действительно являются субъективными интеллектуальными функциями, то реальное, которое не зависит от них, о котором мы не можем подозревать, соответствует ли оно этим или другим законам, или вообще никаким законам, совершенно непостижимо, то метафизика действительно совершенно невозможна.
Если ЛИБМАНН так отчаянно сопротивляется этому последствию, то это потому, что, как и КАНТ, он не только признавал неизбежность метафизики, но и ее незаменимость. В трогательной манере ЛИБМАНН описывает человеческую потребность в решении проблемы «ты» и проблемы реальности в целом, и он убедительно критикует радикальный эмпиризм, который не хочет выходить за пределы того, что непосредственно дано в опыте, показывая, какие предпосылки за пределами реального опыта должна сделать каждая эмпирическая наука (25). И все же, для ЛИБМАННА всякая наука, выходящая за пределы опыта, невозможна, поскольку опыт должен подчиняться только категориям.
И зачем все это? Единственное, что действительно бесспорно из всех аргументов «Новых кантианцев» – это только утверждение, что мы можем воспринимать возможно существующие объекты только через посредство нашей чувственности и нашего интеллекта. Другими словами, что природа мировоззрения зависит и от природы субъекта. Но это может признать даже самый радикальный реалист и самый упорный метафизик. Важно то, что критика должна начаться с КАНТА, как и со всех неокантианцев, – это вопрос о том, насколько далеко простирается это влияние субъекта. КАНТ, ЛИБМАНН и другие неокантианцы видят в качестве ощущений, в форме представлений и в регулярности отношений акт субъекта. То есть они берут всю картину мира в целом как субъективно обусловленную и фактически переносят в объект (как таковой) только импульс, только причину этой картины мира, без того, чтобы природа этой причины где-либо проявлялась в следствии; ведь если из нашего мира убрать не только качество ощущений, но и их (пространственное, временное и законное) расположение как субъективное, то ничего не останется. Очевидно, однако, что в картине мира, возникающей из отношения объекта и субъекта, необходимо было бы найти и влияние объекта. В этом направлении существовала возможность выхода за пределы Канта. Такой выход должен был состоять в том, чтобы отвоевывать твердую почву, кусочек за кусочком, у всепоглощающего потока кантианства. Это должно было бы быть продвижение реализма против идеализма. Новое кантианство не движется в этом направлении. Но другой мыслитель, как мне кажется, действительно преодолел Канта в этом смысле.
В «Естественно-научном монизме» моего отца, доктора МАКСИМИЛИАНА Л. ШТЕРНА, показано, что по крайней мере отношения в эмпирическом мире принадлежат объективной составляющей мира (если не принимать во внимание солипсизм как маловероятную возможность). Там же показано, что наш субъект (разум) лишь придает природе качественную конституцию, но не предписывает законы, а черпает их из нее.
Не только неокантианство, но и многие другие современные направления философии выступают против метафизики, не принимая во внимание, что тем самым они лишают философию всякого оправдания, чтобы позволить ей просто слиться с естествознанием или, как ЭРНСТ ЛААС, возложить на нее только эпистемологию, то есть задачу постоянно доказывать собственную ничтожность. Именно ради метафизики философия необходима, в отличие от других наук и в некоторых отношениях дополняя их, но не объединяя и не обобщая их, как считает КОМТЕ. Об этом могут позаботиться только науки. Но они не могут остановиться на обосновании и анализе метафизических предпосылок, что приходится делать почти всем наукам. Только по этой причине метафизическая философия необходима, совершенно помимо элементарной человеческой потребности в ней, которую она всегда будет порождать. Так, например, физик не может остановиться на исследовании того, существуют ли время и пространство сами по себе и какова их сущность; он должен предположить их существование. Психология не должна поддаваться влиянию вопроса о том, существует или не существует душа. Этика ни к чему бы не пришла, если бы ей пришлось сначала доказывать существование Ты, которое она должна предполагать. Почти все науки, наконец, должны предполагать реальность мира и т. д. Отсюда вытекает необходимость науки, занимающейся такими вопросами, на которую другие науки могут переложить все эти трудные проблемы. Если философия уклоняется от этой задачи, то другие науки будут заниматься этими проблемами в ущерб себе. Конечно, можно возразить, что философия занималась такими вопросами, но ей было бы доказано, что дальше по этому пути она не пойдет. Что ж, тогда эти доказательства нужно сначала подвергнуть исследованию. Кстати, не существует доказательств, которые действительно могли бы полностью исключить возможность метафизики. Что, если выбрать конкретную проблему, можно было бы показать в худшем случае, так это, например, то, что реальность внешнего мира не может быть доказана. Но это вовсе не обязательно. Достаточно иметь метафизику, которая покажет мне, какие причины говорят за, а какие против этой реальности, и насколько велика их вероятность. Более важным, чем вопрос о том, можно ли доказать существование внешнего мира, является вопрос о том, можем ли мы знать что-либо об этом мире, если он существует. С точки зрения кантианства, это совершенно исключено. Но мне кажется, что такая возможность существует. Даже если мы, возможно, никогда не сможем постичь сущность этого мира, это не обязательно исключит всякое знание о нем или относительно него. В конце концов, человеческая мысль способна (или считает, что способна) по сохранившейся кости определить внешний вид, образ жизни и возраст давно умершего животного. Неужели так уж невозможно вывести причину в какой-то степени из следствия самого мира (мировоззрения), каким мы его знаем? Как наука, фактически не может существовать только трансцендентная метафизика, которая хочет сформировать понятия, для постижения которых опыт не предлагает никаких средств. Метафизика (наука об истинном бытии, которое лежит в основе видимости) вовсе не обязана быть трансцендентной; она может, исходя из опыта, познать столько истинного бытия, сколько раскрывается в видимости. Метафизика тоже может стать наукой опыта и даже должна стать ею. Начиная с данности, она должна заключать настолько, насколько можно заключить из этой исходной посылки. Она необязательно должна ограничиваться реальным опытом, но основой ее исследования может быть только реальный опыт, т.е. она должна ограничиваться реальным опытом и тем, что вытекает из реального опыта, тем, что выводится, даже если вывод делается только гипотетически. МАХ сказал бы, что эта гипотеза является лишь принципом мышления для характеристики определенных закономерностей опыта. Он не замечает, что эти гипотезы не только характеризуют закономерности, но и объясняют их. И почему бы нам не верить в определенной степени в гипотезы, на основании которых мы предсказываем то, что потом действительно сбывается, и принятие которых объясняет нам многое, что иначе осталось бы необъяснимым.
Таким образом, возможно, будущее философии покоится на эмпирической метафизике, которая ограничивается исследованием того, как много самого мира находится в нашем мире, может быть выведено из него или даже только предположено, на позитивной метафизике, которая пытается распознать то, что действительно существует только в той степени, в которой оно содержится в опыте.
Примечания
1) Отто Либманн, Кант и эпигоны, стр. 20—25.
2) указ. соч. стр. 28, 29
3) Указ. соч. стр. 39
4) Über den objektiven Anblick, op. cit., page 153. «Это отношение между неизвестным (Y) и другим, столь же неизвестным (X), последнее представляется нам как наше тело, из которого в действительности возникают в нашем сознании те разумные качества, которые наше понимание, согласно законам, данным априори, преобразует в воспринимаемую природу, явление материального внешнего мира». Еще яснее в «Анализе действительности», второе издание, стр. 196: «Кто разделяет с нами убеждение, что действительность есть нечто большее, чем простое воображение, что абсолютный реальный мир, лежащий за субъективными пределами сознания и познания (mundus intelligibilis), лежит в основе явлений эмпирического мира (mundus sensibilis)…» (Далее, указ. соч. стр. 140, 147, 159, 167; Analysis der Wirklichkeit, 2-е изд. Стр. 272 и во многих других местах, особенно в «Gedanken und Tatsachen», II. Folge.