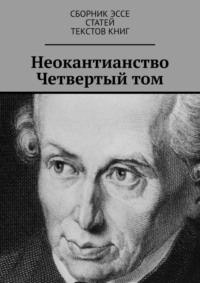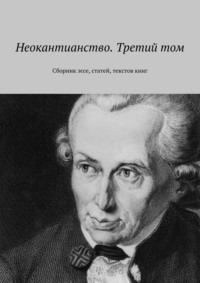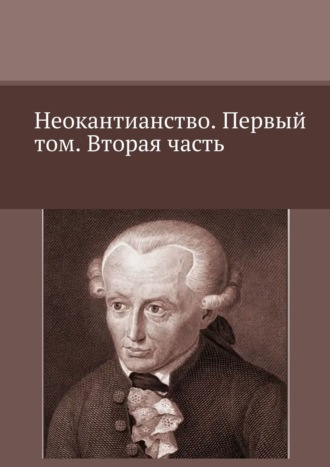
Полная версия
Неокантианство. Первый том. Вторая часть

Неокантианство. Первый том. Вторая часть
Составитель Валерий Антонов
Переводчик Валерий Антонов
© Валерий Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0059-8463-0 (т. 1)
ISBN 978-5-0059-8095-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
НЕОКАНТИАНСТВО
Первый том. Вторая часть
Сборник Эссе, статьей, текстов книг немецких мыслителей с воторой половины XVIII до первой половины XX вв
Сборник статей немецких мыслителей объединен тематическим принципом: в совокупности дают представление о разнообразии идей, тем и методов философского поиска начиная со второй полвины XVIII до начала XX вв. возникших под влиянием учения и идей И. Канта. В этом сборнике впервые переведены на русский язык тексты, опубликованные в немецких журналах и отдельными книгами.
ВИКТОР ШТЕРН
Обновление кантовской критики в лице Отто Либманна
[Вклад в критику неокантианства].
Введение
Во всей истории философии, вероятно, найдется немного мыслей, которые по своему значению превзошли бы кантовскую критику разума. Она утверждает не что иное, как то, что действительная цель всей спекулятивной философии, или, по крайней мере, то, к чему стремилась всякая философия до Канта, состояла в том, что познание истинной реальности, мира как такового, навсегда останется недостижимым. Конечно, Кант пытался найти замену лишению философией ее высшего идеала. Взявшись определить границ нашего познания, он хотел лишь еще сильнее направить философскую мысль на многочисленные проблемы, находящиеся в этих границах, предостеречь философию лишь от ненужной траты сил и тем самым сосредоточить ее силы на том, что он считал единственно возможным и плодотворным поприщем. В этом и заключается величие Канта. Как могучий духовный гигант, он хочет направить поток философской мысли в другое русло, поставить перед ним другие цели. Правда, это с большим основанием следует сказать о Юме, поскольку в постулировании Кантом вещи-в-себе мы уже находим первый шаг назад к метафизическому реализму в определенном смысле. Но если ЮМ лишь подверг критике уже существующие метафизические концепции и убедительно показал их необоснованность, то КАНТ своей «Критикой разума» хотел раз и навсегда обосновать невозможность метафизического знания. Замечательна эта кантовская доктрина. Но если она также верна, то для философии это, конечно, удручающая истина. Для нее должен быть установлен предел, за который даже самые великолепные и глубокие ее исследования никогда не смогут выйти, тогда как именно преодоление этого предела всегда было любимым желанием и высшей целью всей философии, придавая ей все новые силы и новую ценность. Теперь же она ограничивает себя миром видимости, тем самым фактически ставя себя на одну позицию с эмпирическим естествознанием, которое именно в силу этой позиции не может удовлетворить потребности более глубоко и дальше мыслящих людей и тем самым сделать философию необходимой в первую очередь, поскольку определенные вопросы, как уже подчеркивал Кант, всегда будут навязываться нашему мышлению, совершенно независимо от того, можно на них ответить или нет. Что означал бы для философии серьезный отказ от метафизики, показывает уже простое соображение о том, насколько необходимым и незаменимым является метафизическое допущение чуждого сознания, «ты», для этики, самой важной философской науки, не того «ты», которое мне только кажется, а того «ты», которое знает обо мне и других объектах. На самом деле, с этим отречением уже был бы подготовлен окончание всякой философии. Как естествознание было философией для первых греческих философов, потому что они не имели представления о существовании противоположности между миром видимости и миром-в-себе, и настоящая философия началась только тогда, когда они заподозрили, что за этим миром есть другой мир, точно так же философия снова станет своего рода естественной наукой, если она позволит себе на самом деле воспрепятствовать поиску пути или даже взгляда на мир. В действительности, посткантианская философия не позволяла себе запрещать это делать. Даже те мыслители, которые позволили убедить себя в невозможности преодоления этих границ, все же в определенном смысле преступали их. Фихте, Шеллинг и Гегель построили внутри них определенные воображаемые системы, которые взорвали эти границы, вернее, вытолкнули их так далеко, что за их пределами ничего не осталось, и то, что они разграничили, стало миром-в-себе, абсолютом. ШОПЕНГАУЭР счастливо нашел тайные ворота, ведущие в запретную страну, и теперь пишет там стихи так же прекрасно, как писали внутри Фихте, Шеллинг и Гегель. Наконец, пришли материалисты и вполне комфортно устроились на вновь открытой земле. Уже не с таким воображением, как Шопенгауэр, который, как бы, все еще сознавал, что стоит на запретной земле, но гораздо спокойнее и хладнокровнее, как если бы они находились на законной своей территории, пока, наконец, они не вспомнили, что нарушили священные границы, и крик: «Назад на разрешенную территорию, назад к Канту!» прозвучал все более настоятельно и мощно. Кантианство не выполнило своей задачи. Оно лишь привело к неоправданному превышению очерченных им границ, в которые философия не хотела замыкаться, поскольку ее настоящая территория лежит за пределами. Неокантианство, а вместе с ним и родственные ему школы мысли – позитивизм и неокритицизм – пытаются заново ввести это ограничение. Но даже сегодня философия вряд ли позволит вырвать себя из своего собственного поля мысли. Возвращение к кантовской позиции вряд ли приведет к ее сохранению, скорее, к оправданному выходу за ее пределы в отличие от прежнего неоправданного, к сотрясению пограничных стен и их разрушению, а не как это было в прошлом, к ползанию вокруг границ или перепрыгиванию через них. Призыв: «Назад к Канту!» наиболее оправдан, когда он звучит так: «Назад к методу и задаче Канта по поиску границ возможного знания». Возможно, это покажет, что они не должны быть проведены так узко, как полагал Кант. До тех пор, пока это не будет показано, трансцендентальной философии не существует. Поэтому только возвращение к Канту может вывести за пределы этой философии. Неокантианство, похоже, не движется в этом направлении. Его основные представители довольствуются тем, что объявляют некоторые из богатства великих кантовских мыслей существенными и фундаментальными, другие – второстепенными, принимают одни его взгляды и отвергают другие. О серьезном дальнейшем развитии, а прежде всего о расширении границ познания, говорить не приходится. Таким образом, представляется оправданным предположить, что неокантианцев объединяет мнение о том, что эти границы неподвижны. Поскольку я уже подчеркивал, что это означает для философии, критика этой точки зрения просто необходима. Я намерен осуществить ее, обратившись, в частности, к ОТТО ЛИБМАННУ, одному из первых и наиболее значительных представителей неокантианства, поскольку мышление ЛИБМАННА наиболее впечатляюще демонстрирует неизбежное стремление к запретной метафизике, и потому, что по этой самой причине он уже намекает, пусть даже бессознательно, на путь, который может вести за пределы Канта. Сам он не пошел по нему. Многие кантовские догмы оказали на него слишком сильное влияние.
I. Вещь-в-себе
Изначальная позиция ЛИБМАННА была на самом деле еще более антиметафизической, чем позиция самого Канта. Его первая работа «Кант и эпигоны» представляет учение о субъективности интеллектуальных функций времени, пространства и категорий как величайшее достижение Канта, как неопровержимую истину (1), однако он нашел противоречие этой главной доктрины в постулировании вещи-в-себе. Кант сам выводит субъективность функций наблюдения и мышления из их общей достоверности и при этом формирует понятие вещи-в-себе, которая не соответствует этим общезначимым законам (2). Кант приходит к этому противоречию только потому, что он не строго придерживался своего же требования не выходить за пределы эмпирической области при применении категорий и трансцендентально использовал категорию причинности, ища причины ощущений в вещах-как таковых. (3)
Однако вскоре ЛИБМАНН осознал несостоятельность своей первоначальной точки зрения и позже постулировал вещь-в-себе (4). Но поскольку и сегодня известные мыслители, находящиеся под влиянием Юма и Канта (даже если они не называют себя неокантианцами или даже отвергают Канта), придерживаются аналогичной позиции (5), я все же хотел бы посвятить несколько критических слов этой самой крайней антиметафизической точке зрения, которая уже сопротивляется внедрению понятия «вещь-сама» в философию.
Прежде всего, необходимо различать два разных значения термина «вещь-в-себе», которые достаточно часто путают. С одной стороны, «существовать само по себе» означает быть независимым от меня, независимым от моего интеллекта, но в более точном значении, более важном для философских размышлений, то, что существует само по себе, – это то, что существует независимо от чего-либо другого. Теперь, в этом втором, наиболее общем значении, которое включает в себя другое, концепция вещи-в-себе неизбежна во всей философии. Даже самый большой скептик не захочет отрицать, что вообще что-то существует, а значит, вещь-в-себе или, лучше сказать, существование-в-себе уже дано. Ведь если бы кто-то захотел предположить, что что-то существует, но не вещи-в-себе, а только субъективные видимости, то он бы только заменил объект-в-себе субъектом-в-себе. Если, наконец, как это делает сам ЛИБМАНН, лишить субъект его независимости, сделав его столь же зависимым от объекта, сколь объект зависит от субъекта (хотя для этого не может быть приведено убедительных доводов), то, по крайней мере, субъект и объект существуют вместе или, как это называет ЛИБМАНН, их неразрывная взаимосвязь существует независимо от всего остального, т.е. абсолютно, как вещь-как-себя. Возможно и другое возражение: можно было бы указать на то, что опыт предлагает нам только зависимое существование и что недопустимо формировать понятия или даже приписывать им реальность, не имеющую эмпирического обоснования. Первое утверждение этого замечания, бесспорно, верно. Но однако он сам признает, что опыт учит нас по крайней мере зависимому существованию. Но понятие зависимого существования вынуждает нас, как было показано ранее, формировать понятие независимого существования путем абстракции, и не только напрямую предоставляемые нам опытом наглядные понятия, но и их абстракции имеют эмпирическую подоплеку. Неизбежность понятия «вещь в себе» можно кратко обосновать следующим образом: Если что-либо вообще существует, то оно существует по крайней мере в своей совокупности независимо от всего остального (поскольку ничего другого нет), т.е. абсолютно, как вещь-в-себе. Аналогичная мысль может быть выражена в утверждении Спинозы о том, что тот, кто постиг понятие субстанции, не может сомневаться в ее существовании (6).
Сам Кант не преминул указать на абсолютную неизбежность вещи-в-себе. В §32 «Пролегомены» он заявляет:
«Понимание, таким образом, именно предполагая видимость, допускает также существование вещей как таковых».
В этом предложении содержится почти тот же аргумент, что и в утверждении Спинозы: если существует бытие вообще (видимость = зависимое бытие), то должно существовать и независимое бытие. Теперь все это рассуждение может создать впечатление, что реальное существование понятия (вещь-в-себе) решается здесь чисто логическими доводами. Подобное, конечно, совершенно невозможно. Приведенные доказательства также всегда основываются на единственном интуитивно оправданном и логически недоказуемом факте, что бытие вообще есть.
Однако были высказаны и серьезные сомнения в том, какую роль играет вещь-в-себе в кантовской философии. В задачу данной статьи не входит рассмотрение всех многочисленных спорных вопросов, связанных с этим. Тем не менее следует упомянуть несколько моментов, которые могут внести вклад в оценку кантианства в целом.
Возражение ЛИБМАННА о том, что вещь-в-себе не соответствует законам наблюдения и мышления КАНТА, общая достоверность которых является отправной точкой кантовской мысли (7), опровергнуть все же легче всего. Кантианский критицизм сначала хочет проверить эту общезначимость на ее обоснованность, и при этом оказывается, что она применима только к реальному и возможному опыту, но не к вещам вообще. Собственно, это и есть истинная предпосылка критицизма. Для Канта с самого начала несомненно, что наш интеллект не может предписывать вещам, какими они должны быть, чтобы существовать, и именно из того, что такие предписания все же обнаруживаются в нас, он делает вывод, что наш интеллект обладает условной восприимчивостью, только для того, чтобы постичь возможность этих установлений, которые в таком случае есть не что иное, как бы переходы в предмет. Отсюда, конечно, следует, что эти предписания не должны выполняться вне субъекта, они не являются применимыми. Но являются ли пространство, время и категории также несостоятельными (что гораздо больше, чем несостоятельность) по отношению к вещам как таковым, из одной только их субъективности ничего не следует. В отношении пространства и времени это доказывается сначала отдельно антиномиями и другими доводами (Kr. d. r. V. II, 1787, с. 70), но в отношении причинности Кант, как мне кажется, различал две концепции причинности. Первая, как он хотел показать во второй аналогии опыта, делает возможным только восприятие времени и поэтому невозможна в случае вещей самих по себе, где нет времени. По этой причине, однако, Кант еще не полностью лишает вещи-в-себе возможности быть причинами, поскольку ему известна и вневременная причинность, которую он называет «действием» (Kr. d. r. V I, 1781, с. 537—541). Выражение выбрано не совсем удачно, поскольку оно не совсем свободно от понятия времени. Кант должен понимать под ним связь, которая состоит не в том, что одно изменение обязательно следует за другим, а скорее в том, что нечто есть, потому что нечто другое есть. КАНТ должен доказать возможность такого рода причинности, чтобы разрешить трудность четвертой антиномии. Это снимает не только известный упрек, который ТРЕНДЕЛЕНБУРГ выдвинул против Канта, но и возражение, так часто выдвигаемое ЛИБМАННОМ и многими другими мыслителями, что Кант обрел вещь-в-себе путем трансцендентного применения причинности. Кант нигде не делает вывода о том, что должны существовать вещи-в-себе, поскольку необходимо предположить причину моих ощущений, но ему также не нужно отказываться от возможности видеть в ощущениях эффекты вещей-в-себе, если только не понимать эффект как нечто, что должно предшествовать во времени причине. Какой бы несостоятельной ни была первая критика кантовской вещи-в-себе, в ней есть обоснованное ядро, и она бессознательно затрагивает больное место кантовской доктрины. К сожалению, ЛИБМАНН убирает все почвенные основания из своей кантовской критики через признание субъективности пространства, времени и категорий. С этой точки зрения нельзя назвать бессмыслицей понятие лишенной пространства, времени и категорий вещи-самой по себе, которая, как предполагается, не является ни здесь, ни там, ни сейчас, ни потом, ни Единым, ни Многим. Но тщетно сопротивляясь этому понятию, ЛИБМАНН показывает, как кантианство вообще не может достичь своей главной цели. Критика хочет ограничить философию опытом, и все же она неизбежно приводит к метафизической концепции, которая так насмехается над всем эмпирическим. Ведь как только была продемонстрирована субъективность необходимых условий восприятия и мышления, так сразу же стало невозможно понять, почему не должно быть вещей, которые не соответствуют этим условиям. Упрек в трансцендентальном использовании каузальности у Канта также обнаруживает уязвимое место, хотя и необоснованное.
Кант не довольствуется тем, что видит возможные причины ощущений в вещах-как-таковых; он должен считать это воздействие вещей-как-таковых реальным, не потому, что ему нужна причина ощущений (это было бы противоречием его учению), а потому, что иначе реальность, действительность его мира теряется для него. В этом истинный смысл его утверждения: «вещи-в-себе должны лежать в основе видимости». В противном случае они были бы либо вещами-в-себе (о чем не может быть и речи), либо просто видимостями, просто фантазиями. В своей защите от обвинений в идеализме Кант говорит об этом совершенно ясно: Пролегомены §13, примечание 1. «…И как мало может быть назван идеалистом тот, кто не принимает цвета как свойства, приложимые к объекту как таковому, но только к чувству зрения как модификации, так мало может быть названа идеалистической моя доктринальная концепция, только потому, что я нахожу, что еще большее число, действительно все свойства, составляющие восприятие тела, принадлежат только его внешности. Ибо существование вещи, которая появляется, тем самым не упраздняется, как в реальном идеализме, а только показывается, что мы вовсе не можем познать ее, как она есть сама по себе, посредством органов чувств». КАНТ здесь абсолютно прав. Его философия не является идеализмом, и гораздо правильнее было бы назвать ее «критическим реализмом». Но чтобы быть таковой, она должна основываться на вещах-в-себе, тем самым фактически превращаясь в догматическую метафизику, и даже это предположение его философия может доказать лишь как возможное, но не доказать, даже не обосновать. В этом кроется одна из главных слабостей этой философии, которая направляет все свое оружие против метафизики и чья лучшая часть, ее реализм, в конце концов, является метафизикой.
Обновление этой философии также страдает от того же зла: неокантианства.
II. Откуда берутся законы природы?
Основная идея Канта, принятая ЛИБМАННОМ, а также всеми другими неокантианцами, может быть сформулирована приблизительно следующим образом (8):
1) Разум не черпает законы из природы, а предписывает их ей;
2) он может делать это лишь постольку, поскольку природа является содержанием его опыта;
3) поэтому не существует науки, выходящей за пределы возможного опыта.
Это три утверждения, которые, как я полагаю, внесли такой большой вклад в путаницу и сдерживание философии, что стоит приложить усилия, чтобы подвергнуть их доктринальное содержание критическому анализу.
Что касается обоснования первых двух утверждений самим Кантом, то, конечно, можно было бы облегчить себе критику и лишь подчеркнуть, что Кант исходит из недоказуемой и не поддающейся проверке предпосылки, что опыт не может учить необходимости, а лишь показывает, как что-то есть, но не то, что это должно быть так. Однако истинная суть его рассуждений лежит несколько глубже. Кант исходит из совершенно правильной основной идеи, когда спрашивает, как наше понимание может предписывать условия существования вещей, если речь идет о существовании универсально достоверных синтетических суждений. Наиболее очевидным ответом, очевидно, будет: ни в коем случае. Поэтому законы не могут возникнуть таким образом, что разум извлекает их из самого себя и предписывает их вещам, но только путем распознавания разумом законов, которые действительно преобладают в вещах, выяснения их и сохранения их истинности до тех пор, пока какой-либо факт не опровергнет их. Если разуму удается таким образом распознать некоторые законы, которые действительно преобладают в вещах, то нам не нужно удивляться, если предсказания, которые мы делаем на основе этих законов, действительно сбываются. Как ни странно, дать этот очевидный ответ Канту помешало влияние двух совершенно противоположных философских направлений, а именно, с одной стороны, последствия немецкого рационализма, для которого законы, предписываемые мышлением, были чем-то самоочевидным, и, с другой стороны, мощное влияние английского эмпиризма, прежде всего доказательство Юма о том, что общая истинность каузального суждения не может быть эмпирически продемонстрирована, а затем убедительная сила основной идеи английского эмпиризма, что мышление не может предписывать законы вещам, существующим независимо от него. Таким образом, для Канта существовал только один выход, чтобы примирить эти противоположные взгляды; он должен был принять точку зрения, что понимание действительно может предписывать законы вещам, но только вещам своего опыта, поскольку для него возможность создания опыта связана с определенными условиями. Хотя эти условия в определенном смысле являются ограничениями мышления, они стали бы общезначимым и необходимым законом опыта в силу того, что все эмпирическое содержание должно подчиняться им, чтобы быть переживаемым, на чем основывается возможность всей эмпирической науки и знания в целом.
Такое своеобразное решение проблемы было бы логически мыслимым, но его последствия приводят к непреодолимым трудностям. Прежде всего, нужно было бы доказать, что эти законы действительно являются условиями возможного опыта. Это доказательство было для Канта совершенно безуспешным. Мы вернемся к этой проблеме позже. Кроме того, остается открытым и, с кантовской точки зрения, вообще не может быть получен ответ на вопрос, как вообще получается, что находится нечто, соответствующее капризам [желаниям – wp] понимания или может быть обобщено таким синтетическим образом, что удовлетворяет этим условиям? Кантианство должно потерпеть неудачу только на почве одной этой трудности. Понимание, в конце концов, может предписывать опыту только в негативном смысле, т.е. оно может противостоять опыту другого мира, но это еще не показывает, как оно может производить эти законные связи в нашем мире опыта. И КАНТ вообще не достигает своей главной законосообразной цели. Он не обосновывает возможность физики. Напротив, он лишает ее всякой убедительности. Сам КАНТ говорит, что вполне мыслимо, что органы чувств предлагают нам восприятия, не соответствующие категориям, но тогда это осталось бы простым восприятием и никакой опыт был бы невозможен. Теперь, конечно, все, что я рассматривал до сих пор (не считая снов и тому подобного), также было опытом. Но разве этот факт уже дает мне право утверждать, что все мои последующие наблюдения также будут опытом? Все законы, которые до сих пор господствовали в природе, обязаны своим существованием только тому, что я не могу испытать другую природу. При таких условиях, что может гарантировать мне, что на месте переживаемой природы вскоре не возникнет хаос восприятий, которые больше не делают возможным опыт? Видно, что кантовское решение проблемы: как можно обосновать общую достоверность законов природы, основано на круге. Кант отвечает: потому что без этой общей достоверности никакой опыт был бы невозможен, но при этом он понимает под опытом не что иное, как представление, управляемое общими законами. Для него любое другое воспринимающее восприятие возможно только как слепое восприятие. Все эти опасения, однако, почти не имеют значения, если понять, что кантовская критика разума страдает фундаментальным пороком, который делает все ее результаты иллюзорными. Кант не обратил должного внимания на то, что главный вопрос, с которого он начинает: «Как возможны общезначимые синтетические суждения?», может иметь двоякий и в каждом случае принципиально различный смысл. В первом случае это означает: Как возможны общезначимые законы, общезначимые отношения между фактами, т.е. как возможно, чтобы отношение, которое выражает суждение, всегда было действительным; в другой раз его смысл таков: Как я могу знать, утверждать всеобщность таких отношений? Насколько важно это различие, можно легко увидеть, например, на примере каузального суждения. Все будут считать общую достоверность его в первом значении правильной, но только правильной, т.е. во втором значении общая достоверность вообще не существует.
Теперь, что касается общего характера самого закона, безотносительно к тому, воспринимаю я его или нет, он, однако, может возникнуть двумя путями. Он может, как это кажется более естественным, иметь свое основание в отношениях воспринимаемых нами вещей, но он также может быть основан на способе нашего восприятия, то есть субъективно. Например, если кто-то видит все вещи красными, это может иметь две причины (с точки зрения наивного реализма). Все вещи либо действительно могут быть красными, либо они видятся ему через красное стекло. Поэтому общая достоверность самого закона ни в коем случае не указывает на субъективное происхождение, поскольку объективное было бы столь же возможно. Однако теперь КАНТ использует общую действенность суждения, то есть наше знание закона, чтобы доказать, что общая действенность закона не может быть основана в объекте. И здесь кроется фундаментальная ошибка Канта. Он упускает из виду тот факт, что для нашего знания общей действительности этих законов совершенно безразлично, как они появились в мире, кто их создал, в чем их происхождение. О господствующих в мире отношениях, какова бы ни была их причина, мы можем знать, только воспринимая этот мир, только на опыте. Если бы мы вместе с Кантом предположили, что наш собственный интеллект является творцом этих законов, то в отношении познания этих законов для нас ничего бы не изменилось. Ведь даже кантианец не захотел бы утверждать, что это творение происходит сознательно. Пример должен сделать это более понятным: тот факт, что число вибраций в пять триллионов вызывает в нас ощущение желтого цвета, безусловно, основан на нашей субъективной организации. Тем не менее мы не можем узнать об этом факте иначе, чем через опыт. Даже если существуют две возможности для существования общезначимых синтетических отношений, существует только одна возможность для нашего знания о таких отношениях, для общезначимых синтетических суждений, а именно опыт. Даже если бы наш интеллект ввел отношения в природу, это само по себе не давало бы никакого основания для общезначимых синтетических суждений, потому что для нашей теоретической позиции по отношению к миру совершенно безразлично, как законы оказались в нем, так как мы можем знать об этих законах только тогда, когда мы их вычитываем. Таким образом, КАНТ ни в коем случае не устранил трудности, на которые указывал ЮМ, и ЮМ остается прав в своем требовании, что для всех понятий, которым должно быть приписано научное значение, мы должны быть в состоянии указать их эмпирическое происхождение, впечатления, на которых они основаны. На основании этого требования ЮМ отрицал обоснование универсально достоверного каузального суждения (9), а КАНТ хотел опровергнуть его, доказав возможность универсально достоверной каузальной связи. Но ЮМ никогда не сомневался в факте существования причинной связи (10), он лишь показал, что мы никогда не сможем доказать существование этого факта, ни априорно, ни апостериорно. В своем доказательстве априорности интеллектуальной функции ЛИБМАНН смещает акцент в другую сторону, чем КАНТ. Если КАНТ делает больший акцент на общей обоснованности и необходимости определенных суждений и находит в них гарантию того, что они не могут происходить из опыта, и только потом, после того, как априорность уже доказана, только для того, чтобы объяснить, почему опыт подчиняется этим законам, пытается показать, что они делают опыт возможным в первую очередь, то ЛИБМАНН делает главный акцент именно на этой последней мысли и хочет обосновать априорность пространства, времени и причинности тем, что они должны предшествовать всему опыту как его условия (11). Это также объясняет обширное исключение категорий у ЛИБМАННА, которые КАНТ не мог исключить. Поскольку Кант исходит из необходимости мышления, он должен включить в свою таблицу категорий такие понятия, как единство и множественность, которые неизбежны для нашего понимания, тогда как ЛИБМАНН сохраняет только причинность и беспричинность. (12) ЛИБМАНН делает попытку доказать пространство, время и причинность как субъективные условия опыта (в более широком смысле, чем у Канта) с убедительной ссылкой на ШОПЕНГАУЭРА и ГЕЛЬМГОЛЬЦА. Он считает, что мы не могли бы проецировать наши ощущения вовне, «если бы пространство не было дано априори», и точно так же мы не могли бы упорядочить их во времени, если бы в нас уже не было времени. (13) Он упускает из виду, что те тактильные ощущения, которые связаны с сопротивлением, с торможением наших телесных движений, могут дать нам понять, что существует «внешнее». Точно так же сам факт того, что ощущения входят в наше сознание одно за другим, может привести нас к выводу, что существует время. ЛИБМАНН, который в этом случае сам ссылается на те же аргументы в работах ШОПЕНГАУЭРА и ХЕЛЬМОЛЬЦА (14), хочет доказать априорность причинности очень похожим образом.